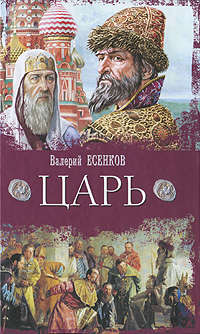Полная версия
Дуэль четырех. Грибоедов
– Сыщите мне, например, другого где-нибудь Лафонтена?
– Лафонтена? Да что бы он был без Эзопа, без Фёдра? Лафонтен обязан всем своим содержанием древним.
– Буало…
– Буало не был никогда поэтом истинным. Он отделывал стихи свои как художник, вымеривал циркулем, писал по масштабу. Он так холодно-правилен…
– Если вы хотите более пиитического огня, читайте Делиля.
– Делиля? Этого сентиментального плаксу, сладкого пастушка, который описывал поля и леса, сидя в своём кабинете, и ходил любоваться «великолепной» природой в Пале-Рояль? Нет, я не в состоянии выносить восторгов его заказных, звукоподражательных его стихов, которые ничему не подражают, и охотно отдал бы все пастушеские и метафизические поэмы Делиля за один стих из Вергилия.
– Желаю знать, что вы скажете о Расине?
– Что он не написал ни одной истинной трагедии.
– Как! А «Гофолия», «Ифигения», «Фёдра»?
– Прежалкие попытки! Что такое Расинов Ахиллес? Французский петиметр, «храбрец», который беспрестанно говорит и делает гасконады. Береника – сентиментальная француженка двора Людовика Великого. Фёдра – кокетка. Как удивились бы греки, если бы увидали, во что их превратил Расин! Эти греческие трагедии показались бы им пародиями – и греки были бы правы.
– Поэтому Корнель…
– Он был бы лучше, но что за стихи!
– Следственно, Вольтер вам нравится более?
– Вольтер? Боже мой! Могут ли нравиться трагедии, в которых Магомет философствует, бредит метафизикой, как Дидерот, а турецкий султан рассуждает о любви, как страстные любовники в романах мадам Скюдери[46]?
– Я надеюсь, то Мольер…
– Он старался подражать Плавту, но как далеко оставил его позади себя Аристофан[47]!
– Помилуйте, Лагарп говорит[48]…
– Лагарп говорит! Прекрасное доказательство! Да что такое Лагарп? Кто сделал его законодателем вкуса? Человек, который на каждом шагу делает самые грубые ошибки, которого суждения наполнены пристрастием, которого бесконечный «курс литературы» заключает в себе гораздо менее полезного, чем один лист в Логиновом трактате о превосходном. И этого человека вы хотите сделать моим судьёй? О, нет! Позвольте мне, не справляясь с Лагарпом, отдавать справедливость древним и не равнять с ними писателей нашего времени!
На этом воззвании к здравому смыслу баталия приутихла, о чём озадаченный фельетонист очень кратко поведал: «Защитник французов замолчал».
И кстати, молчать защитнику глупого подражания было приличней, мог бы и вовсе хранить гробовое молчание, по пословице, за умного бы сошёл, а так видно, что пошлый дурак, шагу своим умом не ступить.
Однако фельетонист продолжал:
«Я думал, что молодой литератор сделает то же, но ошибся…», в самом деле, он подолгу молчал, но в задоре и в гневе, коль кровь заиграла, однажды заговорив, подолгу остановиться не мог, сам себя изумляя раздражительным своим красноречием, это истинный грех, в котором покаяться хоть публично не прочь, «…поговоря ещё несколько минут об иностранных писателях, он обратился к отечественной словесности. Я удвоил внимание. «Наконец этот страшный Аристарх смягчился и будет хвалить. Как может русский говорить без восторга о Ломоносове и Державине, и «Душеньке» Богдановича, и баснях Хемницера», – думал я, подвигаясь ближе, – и как обманулся! Бедные соотечественники! если бы вы слышали жестокий приговор этого отрока-мудреца…».
Перед ним возвеличивали Хераскова, Княжнина[49] и Кострова, которые, на вкус его, не имели никакого таланта. Его пытались сразить Ломоносовым, оды которого представлялись ему лирической галиматьёй, уродливым подражаньем Пиндару.
– А вы, находящиеся ещё в живых, вы, которых мы по невежеству своему считали до сих пор частью нашей словесности, пленительный Дмитриев, неподражаемый Крылов, весёлый Давыдов, милый Батюшков, остроумный Шаховской, Гнедич, любимец греческих муз?
– Скука и холод, без дарований и без души.
– Наконец ты, избалованное дитя Аполлона, чувствительный, пламенный Жуковский?
– Не написал во всю жизнь ни одного живого стиха.
Несчастный фельетонист вновь возвысил свой негодующий голос, немилосердно коверкая французский язык: что за нелепая страсть! Не давши выговорить скомороху двух слов, он начал читать наизусть дурные стихи из поэтов, которых только что от души порицал.
Фельетонист вышел наконец из себя, что было слышно даже в его фельетоне:
«Сколько я ни кричал, что несколько дурных стихов ничего не значат, что во всяком сочинении найти их можно, – никто не хотел меня слушать: большая часть гостей взяла сторону моего противника, и я должен был замолчать поневоле…» А, так вот чем обязаны мы бранчливому фельетону! «…Разговор переменился: стали говорить о художествах, молодой литератор пустился судить о скульптуре, живописи и архитектуре с такой же благородною смелостью, с какою говорил о словесности. «Боже мой! – сказал я, севши в одном уголку подалее от прочих гостей. – Боже мой! Как бы было хорошо, если б этот молодой человек не знал чего-нибудь»…»
Автор плоского фельетона, если правду сказать, был человеком несколько деликатным, маскируя подлинные имена современников, о которых он частенько отзывался столь резко, под одними начальными буквами, чтобы эта глупая выходка на страницах журнала не совсем похожа была на донос и чтобы им обоим не наделать кучу врагов, которых у него довольно случилось и без того, однако подлинные имена легко узнавались, как он их тоже тотчас узнал, и он не страшился в бой вступить хоть со всеми.
Искусство обязано быть самобытным, или оно не искусство!
И при этом ни одного посредственного стиха!
Кто прощает подражательность и дурные стихи, случайно мелькнувшие пусть и у самых великих, во всём прочем вполне безупречных поэтов, тот сам далеко не пойдёт.
Искусство обязано быть величавым.
Вот только стоит ли вступать в бой с толпой подражателей да авторов корявых стихов?
Ах, бедный рассудком и благородством, несчастный фельетонист! Эта снисходительность к недостаткам твоих малых кумиров дорого тебе обойдётся, в самой твоей снисходительности таится самое горькое твоё наказанье!
Тот вечер, не без зубоскальства живописанный в фельетоне, припомнился ему со всей ясностью. Кажется, оттого он и злобствовал так, что ему стало несколько жаль молодого комедианта, таким жалким образом оскоплявшего свою несмелую мысль, которой всё-таки не был вовсе лишён, а причина одна, что толком ничему не учился и об том Бога молил, чтобы прочие знали поменьше.
Где-то Загоскин теперь? Верно, присел где-нибудь в уголке и доволен весьма, что вставил в пустую комедию несколько шпилек и, прежде не справясь в споре с открытым забралом, нынче тайком одолел, должно быть, твёрдо надеясь, что останется на этот раз без ответа.
Впрочем, помнится, в фельетоне стояло нечто, близко к концу, обличавшее в авторе добрую душу:
«Хозяин, который не принимал почти никакого участия в разговоре, подошёл ко мне. «Ну, мой милый, – спросил он, – что вы думаете об этом молодом человеке?» – «Право, не знаю, я не успел ещё опомниться». – «Не правда ли, он очень много знает?» – «О, слишком много!» – «Нельзя быть умнее…» – «Но можно, кажется, быть скромнее и не позволять себе бранить то, что целый свет почитает». – «О, этот молодой человек имеет право судить о писателях: он сам сочиняет и отдаёт в печать». – «Тем хуже, сударь, тем хуже. Если б он находил в себе самом те же недостатки, которые видит в других, то не стал бы печатать своих произведений, а так как он осуждает и сочиняет сам, то, вероятно, думает, что он один пишет хорошо…» Экий шельмец! Вот отличный, славный удар! На такой удар не ответить ничем! В самом деле, видел ли он недостатки в двух-трёх водевилях, которые без труда набросал, впрочем, не волей своей, а просьбой других? Что говорить, на вкус его, они были дрянь. Разве пахнет талантом от вздоров? Почто же печатал, почто дозволял актёрам и актёркам играть? Вот поди ж! Который год не в своей колее! Ум с сердцем, видать, не в ладу! «…Согласитесь сами, такое самолюбие несносно». – «Может статься, вы правы. Но, впрочем, как бы то ни было, а у него такие таланты, такие дарования! О чём с ним ни заговори, он всё знает, верно, лучше того, с кем говорит. О, он преучёный и преумный молодой человек!»
Фельетон, как он видел теперь, полный самых лестных похвал, между тем при первом чтении его сильно задел. В кругу друзей он бывал снисходителен и отходчив, и если сердился и позволял себе резкое слово, то сердился чаще в таких случаях на себя самого, однако ж, встречая людей, понятия которых в глазах его были вредны или смешны, он становился вдруг раздражителен, заносчив и вспыльчив, как порох, служа, как он себя уверял, просвещению истинному, подражая невольно любимцу Вольтеру, который во всю жизнь не спускал никому и который, не пиши он трагедий, по тщеславию или по слабости вкуса, был бы так же велик, как бывали великими древние.
Придравшись к только что Загоскиным поставленной комедии «Богатонов, или Провинциал в столице», призвав себе в помощь Катенина[50], который сам подраться любил и по этой причине не мог ему отказать, однако, спешно сбираясь выступить с гвардией, едва находил для совместной баталии время, в своей комедийке лёгкой «Студент» довольно резко шаржировал глупый сюжет, а в лице Ювенала Беневольского представил незваного фельетониста, между делом забавляясь сатирой на нелюбезное ему петербургское низкопоклонное общество.
Беневольский, его волей, мечтал, явясь в Петербург из тмутараканской Казани, как сам Загоскин пришествовал из невообразимого города Пензы:
«Здесь увижу я блестящие собрания, где вкус дружится с роскошью, в них найду женщин милых, любительниц талантов, какую-нибудь Нинону, Севинье, им стану посвящать стишки маленькие, лёгкие, их окружают вертопрахи, модники – я их устрашу сатирами, они станут уважать меня, тут же встретятся мне авторы, стихотворцы, которые уже стяжали себе громкую славу, признаны бессмертными в двадцати, в тридцати из лучших домов, я к ним буду писать послания, они ко мне, мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно! Звездов ездит во дворец, – он будет моим меценатом, мне дают пенсию, как всем подобным мне талантам, я наживусь, разбогатев. Федька! Федька, поди сюда, обойми меня…»
Беневольский заносился в самолюбии самом несносном:
«Ха! Ха! Ха! Какой сюжет для комедии богатый! Как они смешны. Тот статский советник, в порядочных людях, а не читал ни «Сына отечества», ни «Музеума», но, по крайней мере, видно, что ему это совестно, больно: он мне после угождал взорами, речьми, нарочно, чтоб изгадить дурное впечатление, которое надо мной сделало его невежество. А этот гусар, об котором Вергилий говорит: «Варвар эти нивы…» – ещё храбрится своею глупостью. Однако он мне дал мысль: ступайте к нам в полк… Нет, не в их полк, а в военную: отчего мне не быть военным? О! ремесло Цезаря! сына Филиппова! Быть вождём полмиллиона героев! Самому воспевать свои победы! воин-поэт! Но быть министром! тоже значительно, завидно. Ну, что ж? разве нельзя всё это сдружить вместе? Так, я буду законодателем-полководцем и стихотворцем, и вы меня одобрите, существа кротости!.. Существа очаровательные! всё в жертву вам!.. Но Боже мой! как здесь долго таятся в неге! Я так давно снедаем ожиданием. А! если б теперь мог увидеть ту, которая давно живёт здесь в моём сердце, знакомую незнакомку, которая часто появлялась мне в сновидениях, светла, как Ора, легка, как Ириса, – величественный стан, сапфирные глаза, русые, льну подобные, волосы, черты… Кто-то идёт – две женщины!.. Сердце, ты вещун! – это она с субреткою… Мой идеал!.. Она!..»
Беневольский, ничего общего не открыв между своей книжной наивностью и грубой истиной жизни, оскорблялся и проклинал, подобно всем потерянным провинциалам в столице: «Презрение буйным чадам Арея! бесчувственные враги изящного! – Федька! стань сюда! На каждой черте лица твоего дикая природа наложила печать свою, но ты имеешь душу!.. И не обделана душа твоя резцом образованности, и закоснела она в коре невежества, но ты имеешь душу!..»
Беневольский читал свои мерзкие вирши слуге, так и тот засыпал, немудрено, что сражённый им Беневольский проклинал белый свет вместе с Федькой:
«И это я написал! это излилось из моего пера! Федька!.. Он спит, жалкий человек! вместилище физических потребностей!.. И все люди почти таковы, с кем я ни встречался здесь в столице, ни один не чувствует этого стремленья, этого позыва души – туда! к чему-то высшему, незнаемому! Но тем лучше: как велик между ими всеми тот один, кто, как я, вознёсся ввыспрь из среды обыденности! Рука фортуны отяготела надо мною, я проиграл мои деньги, – но дары фантазии всегда при мне, они всё поправят. Вельможи, цари будут внимать строю моей лиры, и золото и почести рекою польются на певца. Но я ими не дорожу, и доволен одною славою, уделом великим…» Беневольский растерянно взывал под конец:
«Мечты моей юности! мечты, сопровождавшие меня из Казани сюда! сопутницы неизменные! куда вы исчезли, заманчивые?..»
Извольте любоваться, какие жалкие стрелы носил он в своём колчане, на какие забавы растрачивал походя свои дарования! Одно хорошо: этот шут на него самого вышел ужасно похож, чуть не те же мечты о фортуне и славе, нелепость одна! Почто ж было на другого кивать, выводить другого в шуты, когда шут и сам?
Поделом: Загоскиным, узнавшим себя в шутовском колпаке, тотчас освистаны были «Молодые супруги»[51].
Впрочем, справедливость всюду надобно отдавать: Загоскин нашёл перевод лучшим оригинала французского, отметил ещё, что действие развивается быстро, и не решился назвать ни одной сцены ненужной или холодной, имел, стало быть, сценический глаз, мог бы продвинуться далеко на театре, кабы посерьёзней взглянул на своё дарование.
Оно хорошо, однако такого рода достоинства обязаны лежать в основании всякой сносной комедийки, за что же хвалить? Однако злодей отыскал-таки несколько неловких и даже глупых стишков и вдоволь насмеялся над ними, шут, а бессомнительно прав.
Стишки в самом деле на поверку оказались неловки и глупы, и от этого досада его была велика. Он собрался было молчать, не почитая достойным ввязываться в смешные журнальные дрязги, в которых наша молодая литература главным образом и заявляла себя, не имея времени и ума на иные шедевры, да обида оказалась сильнее благоразумия, чего от себя он не ждал. Ретивое в нём закипело, чуть ли не так, как в Беневольском его. Ну, нет, он не потерпит, чтобы об нём жужжал дурачества какой-то глупец!
Тотчас бросил он на бумагу фассесию, как он выражался, и пустил её по рукам. Стихи его полетели на крыльях стоустой молвы.
Должно быть, Загоскин вновь учуял свой, на этот раз уже вовсе карикатурный, портрет и нынче пускал в него свои тупые и ржавые стрелы со сцены.
Он прислушался: там болтали о прелестях сочинений Честнова, и он уже знал, кто этот ловкий Честнов и почему так старательно того обеляли в невежестве:
– Чтобы доказать это, надобно сделать выписку, найти дурное.
– И вы, без сомнения, нашли.
– И да, и нет: в первом томе, на одном месте, вместо предлога поставлен союз.
– Хорошо, вы намекаете, что Честнов худо учился синтаксису.
– Точно так. В третьем томе я заметил лишнюю запятую и… и двоеточие не на своём месте…
– Прекрасно! Прекрасно! вы можете сказать, что автор не знает правописания.
– Конечно, и хотя очень заметно, что это типографские ошибки…
– Какая вам до этого нужда! Разве вы обязаны отгадывать, кто ошибся, наборщик или сочинитель?
Публика дружно смеялась, в особенности в райке, поднимая ужасный грохот ладонями, точно из меди.
Усмехнувшись этим шпилькам топорным, Александр какое-то время сидел, погруженный в себя, вспоминая, сколько трудов положил на всю эту эстетику с географией и статистику с хронологией и описанием земли, и вдруг услыхал, как развязно болтали на сцене:
– А знаешь ли ты, что он сватается за Сонюшку?
– Тем хуже для него.
– А почему бы так, батюшка братец?
– А потому, матушка сестрица, что у Софьи есть и без того жених.
Он задохнулся. Как шут Загоскин посмел? Имя Софьи укроет ли для посвящённых имя несчастного? Людским подлостям есть ли предел? Вон отсюда, скорей! Сил его нет терпеть эту мерзкую пытку!
Он поднялся, не дожидаясь конца канители, и вышел вон по ногам, не обращая внимания на приглушённые ругательства в спину.
Боже мой, там, в Москве, венчание, должно быть, уже совершилось, а здесь, в Петербурге, хохочут над ним!
Было холодно и темно. Резкий северный ветер бил прямо в лицо, пылавшее краской негодованья. Дневная слякоть сгустилась корой и мелкими кочками отдавалась в тонких подошвах. Склонившись вперёд, прикрывши ладонью лицо, он порывисто перешёл на ту сторону, где менее дуло, и завернулся в плащ поплотней, однако не сделал он и полусотни шагов, себя сердито браня, что не в силах был позабыть коварства измены, а заодно и за то, что сдуру ввязался в дурную полемику. Всё это молодость, все книжные мысли, мечты. Кто верит женщине, оставив её хотя бы на час? Кто верит, будто в журнальной полемике разливается первый свет просвещения? Пусть эти, чувствительные, сентиментальные, певцы ручейков, попадают впросак. Ему ли склоняться пред теми же слезливыми божествами? Уже в другой раз быть так неловко и публично обруган!
Он решился больше не отвечать, никогда, никому, но не в силах был удержать своей злости, перед собой угрюмо глядел, различая одну темноту, не приметив, как догнал его невысокий худой человек с обезьяньим желтоватым лицом и с тяжёлой тростью в правой руке.
Он искоса глянул, наконец заслыша шаги: широкий боливар на светлых кудрях, с такими полями, что в нужде заменили бы зонт от дождя, опускался до самого носу – тотчас вольнодумца по наряду видать.
И охота же вольнодумствовать боливарами!
Он отворотился, пропуская вперёд, однако счастливый владелец широкого боливара, поклонившись ему, со смехом сказал:
– Я увидел, как вы поднялись, и выбежал следом за вами.
Он вежливо проворчал:
– Теряюсь, чем я обязан.
И услышал быстрый ответ:
– Ахинея несносная мне надоела.
И с лёгкой насмешкой спросил:
– Из этого следует, что я должен быть ей благодарен, в противном случае певец своей печали своим вниманием меня бы не почтил.
Пушкин, задрав голову, рискуя потерять боливар, звонко захохотал:
– Это из вашей последней комедии стих?
Он тотчас парировал:
– Кажется, из неё, я не припомню, однако ж верней, что из ваших последних стихов.
И Пушкин миролюбиво признал, всё смеясь:
– Я тотчас узнал, что вы стрельнули в меня.
Он не настроен был веселиться и довольно небрежно сказал:
– Счастлив, что доставил удовольствие вам посмеяться.
Пушкин, казалось, не обращал на эту небрежность никакого внимания и говорил искренне, скоро, легко:
– Я нахожу, что вы правы. В самом деле, довольно смешно в мои лета петь свою печаль, которой у меня нет, свирели звук унылый и тихий взор, исполненный тоской.
Он насмешливо поклонился:
– Счастлив вдвойне.
– Нынче мне по сердцу песни иные.
– Это те, где вы бросаете взор[52] и видите всюду бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слёзы, что в таком виде поставлено только для рифмы, весьма неудачной, везде неправедная Власть в сгущённой тьме предрассуждений восседала, Рабства грозный Гений и Славы роковая страсть? Как же, пришлось прочитать, ваши стихи у всех на руках.
На иронию Пушкин ответил со смехом иронией:
– Как и ваш «Лубочный театр»[53].
– Я поразил моим «Театром» глупцов.
– Я вижу, мои новые песни вам не по вкусу.
Он отвернул воротник и слишком громко сказал, искоса глядя на него сверху вниз:
– В ваших песнях нахожу я силу и смысл, да много ли проку, подумайте, в том, чтобы стихами поражать Законы и Власть, тем более что они стихов не читают?
Пушкин с удивлением поглядел на него:
– Нами правит тиран, что же странного в том, что я ненавижу тиранов?
– Вы правы, ничего в этом странного нет.
– Это скорей парадокс, чем здравая мысль, продолжайте.
– Извольте! Вы восклицаете где-то: «Самовластительный Злодей!», с заглавной буквы, иначе нельзя. Что ж, мысль верная, стихи отличные, и далее в том же возвышенном роде, когда возглашаете, что Злодея вы ненавидите, с радостью жестокой видите его смерть и смерть его детей, читаете на его челе вместе с народами печать проклятия, величаете его ужасом мира, стыдом природы и даже упрёком Богу на земле, всё это звучными рифмами, однако, юный мой друг, как вы в своём красноречии не расслышите пустой декламации, которая именно вам не пристала?
Пушкин воскликнул, вскидывая трость, как рапиру:
– Разве Поэт не обязан призывать топор палача на шею Тирана?
– Согласен, да кто же Палач? Верное чутьё истины вам подсказало, что охотников в палачи нынче нет, и вы принуждены были возгласить под конец, что верной оградой царям не составляют ни наказанья, ни награды, ни темницы, ни алтари, и, вновь размахивая топором палача, в существованье которого сами не изволите верить, призываете самовластительных Злодеев добровольно склониться главой под сень надёжную Закона, и станут вечной стражей трона народов вольность и покой. Что за охота вам обольщаться? Где вы видели такого рода Злодеев? Перед вами просторы всемирной истории. Вглядитесь внимательно в анналы её. Дают ли они нам такого рода примеры самоограниченья?
– Но разве мы не находим во всемирной истории великих правителей, истинных благодетелей человечества?
Он улыбнулся и ответил вопросом:
– Разве это были злодеи, укрывшиеся под сенью Закона?
– Вижу, что тоска и ненависть у вас под запретом, оставляете ли вы Поэту хотя бы любовь?
– Поэт сам избирает свой путь.
Пушкин сбоку пристально взглянул на него:
– Разве не публика образует таланты?
– О, любопытно послушать, свежая мысль!
– Таланты драматические прежде всего, чему мы только что были с вами свидетелями. Публика смеялась, не правда ли, однако ж чему?
– Понимаю: публика легкомысленна, однако из каких высоких материй ей угождать?
– Значительная часть наших кресел слишком занята судьбою Отечества и Европы.
Он с улыбкой оборотился к странному своему собеседнику:
– Милый Пушкин, судьбы Европы, в особенности судьбы Отечества куда занимательней, чем судьбы всех, вместе взятых, тиранов, тем более водевили незадачливых драматургов, однако нашу публику эти судьбы нисколько не занимают, поверьте.
– Наша публика слишком утомлена своими трудами.
– Не хотите ли вы этим сказать, что идеальная публика должна состоять из бездельников, как это было во Франции эпохи беспечных Людовиков? Если правду сказать, театр Шекспира был полон ремесленников и мореходов. Как, по-вашему, сии труженики бывали утомлены? Волновала ли судьба человечества, занимали судьбы Британии, печалили судьбы Европы? Но какая это была благодатная публика! Не худо бы пожелать и нам с вами такой!
Пушкин сделался очень серьёзен, хмурился, вертел головой, но твёрдо стоял на своём:
– Наша публика слишком глубокомысленна, слишком ваяема.
Он от души рассмеялся:
– Помилуйте, вы хотели бы видеть в креслах одних легкомысленных пошляков? Но вы только что видели их!
– Она слишком осторожна в изъявлении своих душевных движений и не принимает никакого участия в достоинстве драматического искусства, особенно русского.
– Что это? Вы открыли в России драматическое искусство? Это новость! Прошу вас, просветите меня.
– Вы знаете, Грибоедов, как я дорожу вашим мнением, однако вы бесите меня своим скептицизмом. Ваш охладелый ум не находит достоинств ни в ком и ни в чём.
– Мой милый, вы клевещете на меня, я нахожу в ваших рифмах задатки большого поэта, в противном случае об чём бы нам толковать?
У Пушкина засветились глаза:
– Бросьте, я не об том! Неужели вы не признаете достоинства в сатирах Фонвизина, этого друга свободы? Или в комедиях и в трагедиях Княжнина? Или в Озерова «Фингале»[54]?
– Полно, Пушкин! У Фонвизина если и было какое-нибудь дарование, так он его сам погубил. Что до Озерова и Княжнина, охота была им стискивать себя во французские казённые правила, слишком тесные для духа искусства, тем паче для русского духа, отчего один слишком приторен, другой слишком холоден для меня, я слышу по вашему тону, что и вы сами к ним равнодушны.
– Пожалуй, я согласился бы с вами, скажи вы, что успехом своим Озеров большей частью обязан Семёновой.
– Извольте, готов согласиться, с этим голосом и с этой статурой не один Озеров имеет громкий успех.
Пушкин с увлечением подхватил, верно ужасно любя свою мысль:
– Да, да, говоря об русской трагедии, поневоле говоришь об Семёновой, и, может быть, только об ней!
Он поднял брови и посмотрел на Пушкина снизу очков:
– Что я слышу, вы заговорили другим языком!