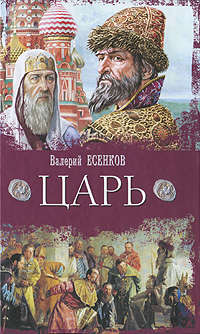Полная версия
Дуэль четырех. Грибоедов
Ему и в голову войти не могло, чтобы заносчивая Элиза могла серьёзно увлечься таким самодовольным болваном, которому в карьере прекрасной помогло куда больше, чем в характере и в уме, однако и она так холодно и так насмешливо относилась к болтливому генералу, точно так, как всегда относилась к нему, он не вытерпел и вскоре из гордости съехал от дяди, пожил недолго на «чердаке» любезного Шаховского, но, наскучивши слишком шумным актёрским житьём, схожим как две капли воды с полковым бивуаком, переместился к Степану, служившему в гвардии после кавалерийских резервов, и с того дня всё ровно в пути и всякий день как на станции, спросонья кричит лошадей.
И этот потерявшийся человек будто бы он?
И по какой такой надобности он скакал тогда сломя голову в Петербург?
Жениться ли возмечтал на кузине? О литературной ли известности вдруг воспарил в облака?
Кому знать?
Ещё в Польше повстречался он с Шаховским, который очень кстати очутился там с ополчением, и впопыхах не приметил, как, обыкновенно мало расположенным к доверительности, прочёл князю несколько своих весьма зелёных стишков, выкинувшихся у него ненароком, не в поэты же метил он поступить. Шаховской, фантазёр и добряк, имевший ум приятный и кроткий ласковый нрав, с физиономией эллинского сатира, с первым встречным до хрипа пищавший о стопах и рифмах, видавший кругом себя одних даровитейших драматургов, обязанных возвысить российскую сцену, которую обожал, превыше сцены французской, тотчас ему насоветовал перевести французскую пьеску «Семейная тайна», пера посредственного, однако ж трудолюбивого Крезе де Лессера, восторженно обещая при этом, вот только окончатся военные действия, а и скоро уже, содействовать постановке перевода на сцене.
Дав ей названье «Молодые супруги», он отчасти перевёл, отчасти переделал её, пользуясь той же разговорной манерой, которую ввёл на театр Шаховской, стихи выкинулись несколько, на его вкус, дубоватыми, однако же он, то и дело самые неудачные перепрыгивая лукаво глазами, нашёл свою пьеску довольно удачной и привёз Шаховскому, расхвалившему тотчас её до небес, вдохновенный болтун и фарсёр.
Каких благ ожидал он от своей переделки? Славы ли, которая столь рано снилась ему? Денег ли, которых ему никогда не хватало на самые крайние нужды? Кузину ли в самое сердце желал поразить? Первых ли успехов и первых театральных знакомств, которые помогли бы ему обсмотреться и тогда уж двинуться к тому совершенству, которое властно диктовал ему его строгий вкус, воспитанный древними классиками, Шекспиром, Гёте и Шиллером, творенья которых знал он почти сплошь наизусть?
Великие боги, этой загадки не разгадал он ни тогда, ни теперь!
По обыкновению, заведённому Шаховским, возмечтавшим вкруг особы своей съединить всех талантливых молодых драматургов, он прочёл свою пьеску на «чердаке», как насмешливо выражался по всякому поводу остривший хозяин, в кругу истинных знатоков и всех знаменитостей сцены.
Заёмный сюжет был уж больно не сложен. Счастливый муж трёх месяцев не выдержал безоблачной супружеской любви, скучал и маялся ужасно с красавицей женой, не знал, куда себя девать, оставшись с ней наедине, газету ей предпочитал и обличал обманы воспитанья, которым маменьки морочат слишком ловко извечно глупых женихов:
Притом и не видать в тебе талантов тех,Которыми сперва обворожила всех.Поверь, со стороны об этом думать можно,Что светских девушек образованье ложноНевинный вымысел, уловка матерей,Чтобы избавиться от зрелых дочерей;Без мыслей матушка проронит два-три слова,Что дочка будто ей дарит рисунок новый;Едва льзя выпросить на диво посмотреть.Выносят наконец ландшафт или портрет,С восторгом все кричат: «Возможно ль, как вы скромны!»А чай работали художники наёмны.Потом красавица захочет слух пленять, –За фортепьяно; тут не смеют и дышать,Дивятся, ахают руке столь беглой, гибкой,Меж тем учитель ей подлаживает скрипкой,Потом, влюблённого как в сети завлекли,В загоне живопись, а инструмент в пыли.Уже ему иные прелести милы. Уже слегка Арист влюблён в Аглаю. Уже к коварной на свиданье поспешал, пред верным другом разливаясь в оправданьях:
В наш век степенница по свадьбе через годБерёт любовника, – единобразье скушно,И муж на то глядеть обязан равнодушно.Всё это сбыточно, всё это быть должноСо мною, как с другим, – так раз заведено.Однако до тех пор хотел бы я в ЭльмиреВсе видеть способы Мой будущий удел я знаю наперёд;искусства, средства в миреРядиться, нравиться, приятной, ловкой быть,А более ещё, чтоб таковой прослыть,Чтоб рой любовников при ней был ежечасно,Но ею презренный, рой жалкий и несчастный!А я бы думать мог, на этот рой смотря:Старайтесь круг неё, а наслаждаюсь я!И был таков, а друг почти в его словах преподал жене его урок:
Тот муж, мы, например, каким Ариста знаем,Уверенный, что он женою обожаем,Что ясных дней его ничто не омрачит,В беспечности благой живёт как сибарит;Вседневны ласки он с холодностью приемлет;Взаимность райская утихнет и задремлет;Ему ничто не впрок, и чужд сердечный страх.Нет! постарайтесь быть хотя в его глазахВы легкомысленней и больше прихотливы;Увидите, какой он будет боязливый.Едва опомнится, что может потерятьБлаженство, коим стал он так пренебрегать,С супругой-ангелом в любви минутах тайных,Он в заблуждениях раскается случайныхИ, образумясь, вам покорен будет вновь.А тут как раз вернулся глупый муж, случайно вместе их застал и гневных обрушился упрёков градом:
Я тысячу могу вам случаев исчислить,По коим должен был об вас я худо мыслить;Довольно было бы смешно не замечатьМне на лице у вас уныния печать,Когда наедине мы оставались с вами;И часто думал я, что, кстати, между нами,Страдаете всегда вы болью головной,Когда случается вам выезжать со мной.Сегодня поутру, на что искать нам дале,В смятеньи были вы, погружены в печали,Когда напомянул я о деревне вам:Конечно, скоро бы прибегнули к слезам,К упрёкам, жалобам! – на дело не похоже!..Является Сафир, я ухожу – и что же!Откуда всё взялось на бедствие моё:Весёлость, острота, наряды и пенье –Все, словом, женские чертовские приманки.Я в дверь, вы со двора, и очень спозаранки.Не ведаю, какой злой дух в меня вдохнул,Чтобы Сафиру я об этом намекнул?Изменник! над моим ругался как несчастьем!Как утешал меня притворным соучастьем!Непринуждённо как смеялся, ободрял!От горькой истины как хитро отвращал!Как другом и женой жестоко я обманут!Но более меня обманывать не станут.Что вы потупили глаза? вы смущены?Подайте же письмо.Недоразумение, само собой, тут же легчайшим образом и разъяснялось. Взбешённый ревностью, муж вновь в свою жену влюблялся, иначе, видишь, нам нельзя, и в клятвенных восторгах рассыпался:
Как хочешь, но теперь в столице иль в пустынеС тобою дома я сижу отныне –Днём, утром, вечером, и в полдень и в полночь,Все вертопрашества и суетности прочь!Не тут-то было, жена, уроком сим прозрев, уж не хотела запираться на замки и, отдавая должное советам друга, давала жёнам всем полезнейший урок:
Так, если несколько тебя сей день исправил,Его благодари: он и меня наставил,Чтоб вкусам я твоим старалась снисходить,Затем чтоб и других приманок отвратить,Чтоб иногда твоей противилась я воле,Затем, чтоб ты ценил моё смиренство боле.Так! он любовь твою мне возвратить хотел,Старался сколько мог – и, может быть, успел.Знатоки и завсегдатаи подмостков, и первый между ними Шаховской, к чужим комедиям ревнивец страшный, заключили, что он весьма удачно сжал французом неумелым весьма растянутый сюжет и что благодаря тому его пьеска оказалась довольно жива, энергична и вместе с тем забавна. В особенности они хвалили стих, сродни стиху комедий Шаховского, и непринуждённость разговорной речи, которой он везде заменил гладкую, однако же безличную риторику француза. Несколько счастливых его афоризмов удержалось в их дружеской памяти, и они повторяли, смеясь:
Свой дом всем прочим я предпочитаю.Мне, право, всё равно.Везде, где только бал, она необходима.Чему ж дивиться нам, что мало верных жён.Не послушание мне нужно, а любовь.Как будто бы мужья умеют попросить.Что хочет женщина, то сбудется всегда.Ещё хотелось, чтобы они заметили его главнейшую мысль, которой он дорожил: что отвлечённое умствование даже в умном человеке смешно безмерно, что сама наша прозаическая жизнь полна капризов и оттого много богаче и сложней замысловатых выкладок сухого, книжного ума и всегда того оставит в дураках, кто в высокомерии самодовольном праздного рассудка попадает в её хитрые сети, однако знатоки водевилей как раз не обратили никакого внимания на его заветную мысль.
Развеселившийся, довольный донельзя своим первым открытием, пророча столь неробкому автору, по этой первой пробе вполне мужественного пера, превосходное будущее, Шаховской озаботился тотчас, чтобы роли распределились самым выгодным образом.
Роль Эльмиры, жены, так счастливо нашедшейся вновь влюбить в себя охладелого мужа, предназначалась Катерине Семёновой, которая, уж если хотела и с помощью Шаховского разобрала смысл своей роли, могла дотянуть до успеха и самую слабую, самую безнадёжную пьеску, да тут возникло препятствие, с её гневливым характером едва ли преодолимое: она с Шаховским была в ссоре, между ними нередкой, на этот раз затянувшейся чересчур, к удивлению театрального братства, которое беспрестанно ссорилось, однако ж скоро мирилось между собой.
Шаховской, лукавый и вёрткий, пустился в тонкую хитрость, на которые был ужасный мастак, если только дело касалось обожаемого до страсти театра. «Молодые супруги» были включены в бенефис Нимфодоры Семёновой[63], и по этому случаю бенефициантка сама упросила сестру. Та наконец согласилась, вопреки даже тому, что, актриса трагическая, никогда перед тем не играла комедийных ролей.
Шаховской пребывал в своём кротком восторге, пожимался, щурил маслянистые глазки и потирал пухлые белые ручки с довольной улыбкой сатира.
Роль Ариста, рассудительного и так глупо оплошавшего мужа, досталась Сосницкому, тоже счастливо открытому Шаховским.
Роль Сафира благосклонно согласился взять Брянский, известный актёр, рассудительный, однообразный до скуки, однако обладавший звучным органом, прекрасно читавший стихи, как будто так и родившийся записным резонёром.
Шаховской сам принялся за грозные свои репетиции, доводя внушительную Семёнову до слезливых истерик, а Сосницкого с Брянским до холодного пота, неумолимый, стремительный, страстный, кричавший визгливо, падавший на колени то с пламенной, то с слёзной мольбой, в изнеможении рвавший на голове остатки когда-то пышных кудрей.
В конце сентября запестрела афиша, извещавшая всех, что в бенефис Нимфодоры Семёновой даётся опера «Эфрозина и Корадин» и комедия в одном действии в стихах и с пением сочинения А. С. Грибоедова.
Что говорить, это глупо ужасно, а он был в те дни вне себя.
Нет, он знал превосходно, что это вышел из-под пера всего лишь ничтожный пустяк, что это лишь самая первая, хотя и не робкая, проба молодого таланта, к тому же не в свободном творении, а в переделке, и что его новое имя решительно никому не известно, даже игравшим в его пьеске актёрам.
Он очень холодно и умно рассуждал, что этот заёмный игривый сюжет уж слишком избит и что надобно быть уже слишком не от мира сего, чтобы так по-дурацки попасться на рассчитанное кокетство осточертевшей жены, а потому в его пьеске соли нет, нет ни на полушку ума.
Он твердил, что афиша составлена точно так же, как все театральные афиши на свете, и что деревянный Малый театр, открывшийся взору, когда он в праздничном ошалении брёл на премьеру, от Публичной библиотеки, чересчур неказист, и если фасад его украшают колонны, так, видимо, лишь для того, чтобы сделать архитектурное уродство его очевидным.
И всё же он был вне себя и с каким-то особенным чувством, намереваясь прийти позже всех, вступил в пустой зал, который только начинал наполняться, и замирал при мысли о том, что нынче более никто не придёт, и то и дело пожимал пружинку часов.
Однако зал был наконец переполнен. Имена Нимфодоры и Катерины Семёновых собрали публику самую избранную, способную не только беспрестанно хлопать в ладони, но и что-нибудь понимать. Катерина блистала красотой ослепительной, при малейшем одушевлении её голос вызывал в публике слёзы восторга и гром, её глубокая игра увлекала, поражала и очаровывала, несмотря даже на то, что романс она спела очень посредственно. Сосницкий, стройный, с выразительным подвижным лицом, которое часто оживлялось его особенной умной улыбкой, играл превосходно, шаржируя, к удовольствию публики, всем известного светского шаркуна. Брянский декламировал, сильным голосом оттеняя, тонко и верно, каждое слово стиха.
Грянул внезапный успех. В первый раз довелось испытать ребяческое удовольствие стихи свои слышать в театре. Он был отравлен слегка и слегка опьянён бестолковым хмелем бурных аплодисментов и с кружащейся головой страшился попасть в недостойное положение, если откроется публике, что в самом деле голова у него раскружилась, отчего эти первые жаркие поздравления принимал он с иронической тонкой усмешкой, но с тайной гордостью отмечал, что его «Молодые супруги» время от времени возвращались на сцену. Он приятно был изумлён, что иные юные авторы уже откровенно, хоть и топорно, подражали ему, выпекая в своих непрокалившихся печках довольно сырые, но страсть как похожие пьески в духе этой салонной комедии.
Что было после этого начинать?
Военная служба не принесла ему славы, о которой он пылко мечтал, вступая своей волей в гусары. Он с ней мирился, пока бились с вероломным французом, да и то главным образом потому, что в кавалерийских резервах, куда, по счастью, его занесло из полка, делал чрезвычайно важное и полезное, хотя малоприметное дело. В мирное время, в глазах его, военная служба утратила смысл: и пёстрый мундир его не прельщал, и не желал подражать он бессчётным Паскевичам с их беспрестанной самодельной белозубой улыбкой, да и в чинах обнаружился слишком уж небольших, чтобы лямку тянуть и на что-то рассчитывать в мирное время, когда в армии скука и маета, злейший враг для живого воображения. Выходило, что на этом поприще терять ему было нечего. Он решился проситься в отставку и облегчённо вздохнул.
Отношения с Элизой оставались туманными. Кузина взглядывала иногда на него с интересом, не в силах, должно быть, устоять перед его блестящим умом. Успех «Молодых супругов» придавал ему веры в себя. Он решился приготовиться к экзаменовке на звание доктора и с этой целью отправился в Дерпт, рассчитывая, как прежде в Москве, и разом двинуть карьеру, залучив с дипломом вожделенное право вместо губернских секретарей именоваться тотчас коллежским асессором, и завоевать, может быть, её благородное, но слишком тщеславное сердце.
Однако в Дерпт сперва не пускала внезапная шумная литературная и театральная жизнь. Непоседливый Шаховской, обременённый запутанными делами по театральной дирекции, всё-таки успевавший, Бог весть когда, много и лихо писать, умелый наставник, задиристый собеседник, приятель весёлый и добрый, открытый, простой, несмотря на порядочную разницу в летах, поставил комедию «Урок кокеткам, или Липецкие воды» примечательную, другим не в пример, по удачному своему исполнению, по верности выведенных на сцену характеров, по весёлости и затейливости своей и по многим хорошим стихам, которые встречались на каждом шагу.
Представление, как и было задумано, превратилось в ужасный скандал. На сцене выставлен был на суд зрителей только что переселившийся в Петербург, милостиво принятый вдовой-государыней, возлюбившей в нём прославленного певца её победоносного сына, окружённый почтением и громкой молвой, скромный и простой в обхождении, застенчивый, мягкий, чуждый литературным браням Жуковский, под сатирическим именем поэта Фиалкина, светоча слезливой поэзии, который, влюблён и печален, томную любовь принуждал петь вечного старца Гомера, услаждал туманными балладами свой разнеженный, чувствительный вкус и возвещал:
И полночь, и петух, и звон Костей в фобах.И чу!..Набор слов, смешной, хоть невинный, точно заклятие дьявола, чаще других выступал в наивно-печальных балладах Жуковского, которые были у всех на устах, слыли за образец утончённого вкуса и превратились в предмет самых пошлых и многочисленных подражаний. Можно ли было этот набор слов не узнать? Конечно, нельзя. Немудрено, что тотчас узнали, от кресел до лож и райка, узнал и Жуковский, сидевший в креслах с друзьями, сконфуженный нескромными взорами, вдруг обращёнными со всех сторон на него.
Так вдруг сошлось, что комедия Шаховского, невинная сама по себе, явилась громким возобновлением прежней жестокой войны[64], было притихшей с нашествием Бонапарта и вспыхнувшей вновь с утверждением европейского мира. Первая победа, по общему мнению, осталась на стороне Шаховского. Этот выстрел публика приняла с одобрением, громкогласным, задорным и шумным. В тот же вечер в доме Бакунина, гражданского губернатора, состоялось весёлое празднество, и сама губернаторша под дружные клики гостей надела на счастливого автора венок победителя. На другой день Иван Андреевич Крылов с улыбкой коварной и умной обронил, с кем-то встретясь на Невском, очередное словцо, тотчас разнесённое всюду: «Как быть, насмешники на его стороне».
Хвалители, чтившие Жуковского как новейшего парнасского бога, воспевавшие сами, прозябая в столицах, ненаглядную сельскую тишь, пастушков и невинные слёзы на берегах ручейков, объявлявшие староверцами ретроградами всех хулителей новой сентиментальной волны и нового размягчённого слога, в старой поэзии и в старых речениях не находившие ничего, что бы было достойно продолжения, если не подражания, приняли эту смешную пародию как святотатство.
Хулители Жуковского, певцы великих деяний, поклонники сильного, выразительного, могучего слова, наконец получившие повод открытой злорадственной мести, преувеличенно и язвительно гоготали, обращая победу свою в шутовство.
Журналы взбесились, как псы, которым повод с цепи сорваться нашёлся. Поспешные листы запестрели то грубой, то изысканной бранью, однако и журналы не вмещали всего, чем кипели взаимно оскорблённые души. Из уст в уста передавались колкие эпиграммы, непристойные каламбуры и грязные сплетни, слишком сильные, чтобы решиться в печать.
В «Сыне отечества» поместил юный Дашков «Письмо к новейшему Аристофану», в котором в прах повергал Шаховского. Князь Вяземский, ленивый мастер жалящих экспромтов, произнёс эпиграмму, намекая на «Расхищенные шубы», поэмку пера Шаховского:
С какою лёгкостью свободнойИграешь ты природой и собой,Ты в шубах Шутовской холодный,В водах ты Шутовской сухой.В доме Уварова на Малой Морской, в пылающей огнями громадной библиотеке, за длиннейшим столом, на котором разместили большую чернильницу, бумагу и перья, собрались Александр Тургенев, Жуковский, Дашков, Жихарев, Блудов[65]. Блудов ознакомил собравшихся с «Видением в какой-то ограде», в котором любители российской словесности, отчего-то обыватели Арзамаса[66], на одном из вечерних собраний слышали в соседней комнате странный, подозрительный шорох. Оказалось, это бродил Шаховской в магнетическом сне, повествуя шаржированными старинными словесами, как в бурную ночь он остановился под окнами опустевшего дома Державина и разные чудеса в них узрел, затем Шаховской исповедовался в своих тайных, однако прискорбных грехах.
Ознакомлен с «Видением», Уваров внёс предложение создать «Арзамасское общество безвестных людей», прямо направленное против замшелой «Беседы любителей российского слова». Положили для чего-то взять себе прозвища по балладам Жуковского и обязали всякого, кто заохотится вступить в «Арзамас», в похвальной издевательской речи отпевать кого-нибудь из заклятых беседчиков.
Известившись о совершенном откровенном кощунстве, всполошилась «Беседа». Внезапно объявившийся в литературе Загоскин, ополченец недавний, бывший под Данцигом, простодушный до крайности, однако же вспыльчивый, неумный, но добрый, в защиту Шаховского пристроил на сцене «Комедию против комедии, или Урок волокитам», написанную почти так же легко и свободно, как писал Шаховской, в которой отдубасил многих противников, в том числе Фольгина, сценический псевдоним остроязычного и злобного Вигеля.
Он был поражён, наблюдая столпотворенье умов, ещё незнакомый с истребительными литературными нравами. На его вкус, комедийка Шаховского была довольно пуста, хотя и блестяща, а хулители Шаховского слишком ребята и глупы. Её прелесть он находил в одной злободневности, без которой театр не театр, тогда как достойным таланта почитал он только трагедии, в образец себе взявши эллинов, а комедии так, вздор и проба пера, так что остервенелая брань, по его представлениям, чересчур далеко зашла за границы пристойности. К тому же брань затянулась и оттого сбивалась на фарс. Он тоже мимоходом пустил эпиграмму. Она насмешила Катенина. Шутки ради они отправили Гречу громадный пакет, предварительно дав наставления денщику.
Греч день спустя тиснул в «Сыне отечества» немилосердно растянутый фельетон, переполненный однообразным его остроумием:
«Наслышавшись об этой комедии очень много, я хотел было… порядочно разобраться… и начал: «Сия комедия…» Вдруг раздался за мной громкий, грозный голос: «Здравия желаю!» Хотя я журналист, следственно, человек полувоенный, но, признаюсь, вздрогнул от неожиданного приветствия, оборотился и увидел вошедшего в комнату гренадера, вершков двенадцати, в пяти медалях. Он держал в руке большой пакет…»
Далее между фельетонистом и гренадером, то есть Катенина денщиком, произошёл диалог:
– К вам, сударь!
– От кого?
– Не велено сказывать.
– Кто же бы это?
– Командеры!
Тут гренадер подал книгу:
– Извольте расписаться.
Далее Греч продолжал:
«Нечего было делать. Я взял послание «К «Сыну отечества» и расписался, вестовой гренадер обернулся направо кругом, топнул и вышел…»
Греч распечатал пакет и нашёл там от самого Аполлона приказ:
На замечанье Феб даёт,Что от каких-то водПарнасский весь народШумит, кричит и дело забывает,И потому он объявляет,Что толки все о Липецких водах(В укору, в похвалу, и в прозе, и в стихах)Написаны и преданы тисненьюНе по его внушенью!Гречу оставалось только вздохнуть:
«Что прикажете писать после этого…»
Тем временем получил он отставку. На беду его, по обязанности, об ней возвестили газеты. Узнавши об новом своеволии любезного чада, матушка, впавши, по обыкновению, в гнев, задержала высылку денег, почитая голод вернейшим источником благоразумия. Ещё на беду, отказался он перед тем от части небольшого наследства, которая следовала ему после смерти Сергея Иваныча Грибоедова, не находя на неё за собой никакого сыновьего права, и передал её сестре Маше, и без того засидевшейся с малым приданым в девицах.
Он вдруг оказался без средств. В те же дни Степан испросил себе длительный отпуск и отправился в родовую деревню, найдя нужным позаняться винным заводом, приходившим в расстройство. Большая квартира Степана оказалась не по карману. Он снял тесную комнатку на одной лестнице с Шаховским в Офицерской, в небольшом деревянном доме Лэфебра, что против дома Голидия, обиталища многих бедных артистов и служителей театральной дирекции.
Безденежье и свобода произвели на него необычайное действие. Совместными усилиями они точно толкали его веселиться. Он повсюду бывал. Шаховской таскал его в заседания «Беседы любителей российского слова», оживившейся и крепшей после войны, гордившейся тем, что остерегала с невиданной прозорливостью против неблаговидного поклонения коварной и распутной Европе. Ныне она защищала против засилья бездушного французского языка чистопородное и непорочное русское слово, на том основании, что Россия этой распутной Европе, обратившей в пепел и в кострище древнюю нашу святыню, своей многой кровью воротила свободу.
Заседания совершались в доме Державина на Фонтанке, в великолепной, обширной, освещённой пламенно зале, с виду походившей на храм. Середину залы занимали столы, за которыми помещались постоянные члены «Беседы». Чуть поодаль были расставлены удобные кресла для почётных и почтенных гостей. Прочим посетителям, впускаемым по билетам, предназначались обыкновенные стулья, расставленные в три уступа у стен. Декорации расставлял Шаховской, чрезвычайный обожатель сильных эффектов. Шаховской же для пущего блеска собраний придумал правило появляться всем дамам только в белоснежных нарядах, статс-дамам в портретах, вельможам и генералам в лентах и при звёздах, всем прочим в парадных мундирах, так что, кажется, один только он, приятель и гость Шаховского, отставленный недавно корнет, губернский секретарь, не состоящий на службе, был в чёрном фраке, даже у толстейшего Шаховского отыскался мундир с замысловатым шитьём театрального ведомства.
В подражание Государственному совету, «Беседа» разделялась на четыре разряда. Во главе каждого восседал председатель, в подмогу председателю имелся ещё попечитель. На посту попечителей пребывали граф Завадовский и Мордвинов, министр народного просвещения Разумовский и министр юстиции Дмитриев. Немалое число поэтов, истинных поклонников старины, приняты были в члены и в члены-сотрудники. Посреди этого роя теснился вечно сонный и мудрый Крылов.