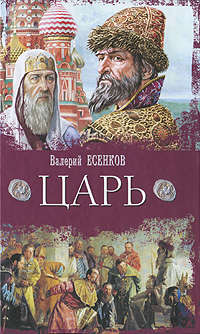Полная версия
Дуэль четырех. Грибоедов
Он пожал плечами, однако смеяться не стал:
– Чтобы открыть эти истины, не стоило тащиться в Германию, право. Приблизительно о тех же материях трактовал мне Буле.
Каверин искренно удивился:
– Да? Я об этом не знал.
И, сунувши книгу под мышку себе, потянулся к бутылке, снова налил полный стакан:
– Однако с тех пор я хочу только того, что могу.
Он прищурился, слегка согнув правую ногу в колене, несколько избочась:
– Но позволь, чем же не угодил тебе в таком случае Бенжамен Констан?
Каверин прополоснул вином рот и сокрушённо вздохнул:
– Видишь ли, в детстве невинном я был препылко влюблён в героев Плутарха[39], как, впрочем, и ты. Герои Плутарха во мне воспитали дух свободы, республики, героизма, народоправия, и вдруг мне хотят доказать, что в те времена личная независимость приносилась в жертву общему благу, что свобода общего оборачивалась для отдельной личности деспотизмом. С этим я согласиться никак не могу, хоть убей.
Думая о том, что в душе Каверина довольно и благородства, и трезвости, и ума, то есть того, что в совокупности составляет человека достойного, однако всё-таки не хватает чего-то ещё, чтобы Каверин возвыситься мог до величия, и вместе с тем как сложен, в сущности, человек и как труден, запутан его краткий путь на земле, и также о том, что чем проще и подлей человек с одной трезвостью, без сильного ума, без благородства души, тем легче, привольней живёт посреди нашей подлости, он задумчиво возразил:
– С этим можешь не соглашаться, но Констан, кроме того, говорит, что свобода нового времени не может быть свободой древних республик, что нынче свобода личности требует системы гарантий, которые обеспечили бы безопасность, не зависимость от произвола властей, что гарантии эти заключены в свободе печати, поставленной вне любых посягательств благодаря суду присяжных, в ответственности министров, в особенности младших чиновников перед тем же судом, это как?
Каверин бросил книгу на стол:
– Суд присяжных сам должен быть независим и неподкупен, а до такой благодати в России так далеко, что об этом далее не хочется думать, не только что толковать. Все подкупны, чёрт побери. Что у нас близко, вот в чём нынче важный вопрос?
Он слегка пошутил:
– Если я справедливо понял тебя, у нас близко одно: бесчестно вести себя в отношениях с правительством честно и честно обращаться с ним так же бесчестно, как оно изволит издеваться над нами.
Каверин, закинувши голову, громко захохотал, внезапно поднялся и крепко обнял его, говоря:
– Прощай, брат, мне пора.
Он опешил, безвольно подставляясь под поцелуи.
– Что вдруг? Ты куда?
Каверин уже был в сенях.
– Карета ждёт, а так никуда.
Накинул плащ, нахлобучил фуражку, и как появился внезапно, точно так же внезапно исчез.
Александр остался один. Мысль Каверина об отношении к власти не оставляла его. В самом деле, не сказаться ли по русскому обычаю в нетях? Благоразумно, что говорить! Умён не тот, кто голову положил под топор, истинно умён тот, у кого голова на плечах, истина безусловная. И с философией в полном ладу, что приятно весьма, нельзя не признать.
Одна вот только беда: этаким способом рассуждает также всякий подлец-расподлец, впрочем, ни с какой философией, ни с немецкой, ни с русской, не соглашая свои размышленья.
В подобных оказиях у подлеца одна недолга: спасти бы башку от топора, от петли, от солдатской шинели, а там хоть трава не расти.
В таком случае порядочный человек чем же существенным разнится от подлеца? Одной философией? Не больше того?
Именно, именно…
Пожалуй, одно: на такого рода отношения с властью должна иметься в наличии благородная цель… то есть не из страха топора да петли да солдатской шинели… а из…
Ох же и тонко, тонко-то как: чуть шагнёшь без опаски, ан глядь – угодил в подлецы…
С какой стати не класть ему голову под топор?..
И эти детские голубые умоляющие глаза…
Куда ж деваться от них? Каким силлогизмом им-то себя изъяснить?..
Нет сомнений, он кругом виноват и должен быть наказан за всё, наказан жестоко, лишь бы не видеть этих детских голубых умоляющих глаз: тогда-то они перестанут глядеть на него, перестанут…
Наказан, наказан, жестоко наказан…
Он вскинул голову: те-то накажут его не за то!
Истинная вина его единственно в том, что не удержал Шереметева, не растолковал бурному мальчику дурацкого дела и тем погубил, под пулю подвёл, а те накажут его лишь за то, что на дуэли согласился быть секундантом и по уговору был должен стреляться вторым.
Разве это не глупо? Разве наказание, лишённое смысла, избавит его от этих умоляющих глаз?
Положим, что глупо, положим, что так…
Однако не слишком ли мало, чтобы себя самого не почитать подлецом?..
Такие вопросы он задавал себе даже во сне. Они леденили его своей жутью, какая бывает тоже только во сне. Что отыщется гаже того, чтобы видеть себя, хоть во сне, подлецом? Он пробуждался в жару и в испуге, пил воду, которую Сашка для него всегда ставил на ночь в графине, ворочался, сбивая в жгут простыню, и на место жутких вопросов о том, как ему поступить при допросе в офицерском суде, его леденили молчаливые, грустные, такие невинные молодые глаза.
Встал он вялый, с больной головой и никуда не пошёл. В окна его кабинета хмуро сочился пасмурный день. Александр завернулся в тёплый халат и приказал растопить пожарче камин.
Сашка долго возился, старательно дуя на неохотный робкий огонь, подкидывая кусочками бересту, которая тотчас сворачивалась трубой и отчего-то не желала гореть.
Заложив руки за спину, с опущенной головой, он беспокойно ходил, ожидая тепла. Серые стены теснили его. Хотелось уйти. Но выйти с тем, чтобы кого-нибудь повстречать? И что и о чём говорить?
И он оставался между этими серыми стенами, однако наедине с собой тоже приходилось несладко, вопросы самого коварного свойства мутили и раздражали его.
Вот если самую чистую правду сказать, что была вся его прежняя жизнь?
Почти ничего.
Вся его прежняя жизнь была крохотный тесный мирок, давящий и теснивший его, не дозволяя сделать шагу по-своему, волей своей, куда там, живи, брат, как велено жить.
В детстве была клетка материнского дома, затем университет, затем полк.
И вечно он ощущал, как дом, университет и гусарство точно в трясину завлекали его, искажали душу и ум, расслабляли характер, извращали самобытную мысль, обминали и перекраивали его в кого-то другого, каким он быть никогда не хотел.
Характер и мысль он, пожалуй, сберёг, а вот с честью как, с совестью, с благородством души?
Чем он жил? О чём он мечтал? Какими вздорами развлекал свою грешную скуку?
В детстве и юности, когда его мучили строгие наставления любящей матушки, он ускользал в свои книги, которых прочитал он, казалось, целые горы и которые насыщали его жаждущий ум, однако на что он готовил себя?
В полк он вступил добровольно, и тотчас отцы-командиры взялись из него изготовить ничтожество, впрочем, как и из всех остальных, без разбору, так что он заболел и болел чуть не год, да всё ж воротился в свой эскадрон и тотчас превратился в ничтожество.
Господи, что было бы с ним, если бы не занесло его в резервы к Андрею Семёнычу[40]? В резервах он жил, в резервах действовал бескорыстно, на общее дело и нисколько не был ничтожеством, хлопоча не об себе, а об скорейшей нашей победе.
И вот затесался в иной, тоже тесный, как прежде давящий, искажающий, оскопляющий, тем не менее любезный сердцу мирок.
А любовь? Любовь-то во что превратила его?
Сашка вышел, так осторожно притворивши дверь за собой, что он не заметил, однако на эту из ряда вон выходящую повадку бездельного Сашки не стало смешно.
Он опустился в низкое кресло, вытянул ноги и безмолвно глядел на жадный огонь, сгрызавший поленья, и упорно думал о том, как его призовут в казённые стены, как холодно спросят, может быть, стороной уже доподлинно выведав всё скверное дело до нитки, и как он так же холодно должен будет там отвечать, не сбиваясь, обмирая в душе, как бы нечаянно не проговорились другие.
Честь и бесчестье мешались, сбивая с толку, заводя в тупики.
Он предвидел, естественно, самые каверзные запросы и находил самые убедительные ответы на них.
Да, спору не было, ответы звучали безукоризненно и логично, владеть собой он умел, когда надо было владеть, однако чем старательней приготовлялся он отвечать, чем дольше об ответах своих размышлял, тем больше сердился, сознавая отчётливо, что одной безукоризненной логикой в таком надувательском деле не обойтись.
Важнее логики было правдоподобие.
Сомнений быть не могло: невозможно и глупо решительно всё отрицать.
Знал ли он о предстоящей дуэли? Как же не знать! Знал ли он о причинах её? Ещё бы не знал! Звал ли Шереметев его в секунданты? Что вы, Бог с вами, ваше превосходительство, само собой разумеется, что звать не посмел!
Да, вот именно такими словами и должно там отвечать, чёрт их возьми, так оно сойдёт хорошо, да ведь знали же всё, что он был Шереметеву близкий приятель, если не друг!
Как же тогда?
Не лучше ли так: точно, звал, да я, сукин сын, отказался, не имея, скажем, довольно досуга?
Хитроумная эта игра занимала его до самого вечера, и всё это время он был противен себе. Смеркалось уже, когда Сашка доставил ему из трактира в разогретой кастрюльке обед. Он ел безо всякого аппетита, с брезгливостью глядя в тарелку, и вдруг очевидная мысль поразила его: ему следовало вести себя просто, как будто ни в чём не бывало!
Вот он весь день-то не подумал об чём, а ведь если хорошенько размыслить, именно простота поведенья и была важнее всего!
Он крикнул Сашке нести одеваться, выбрился чисто, до синевы, легко вошёл в чёрный фрак и выставил у самого подбородка тугие воротнички.
Из тёмного зеркала угрюмо глядел на него черноволосый, хорошего, должно быть, среднего или чуть повыше среднего роста молодой человек с длинным тонким стремительным носом, верный признак гениальных натур, как, впрочем, и короткий вздёрнутый сократовский нос, как он неизменно шутил сам с собой. Молодой человек был слишком худой, но зато выразительно строен, с движениями отрывистыми, неровными, странными, однако изящными, как подобает, имея хорошее воспитание, с узким, худым, некрасивым, но выразительным, интересным, благородным лицом, с длинными тонкими и насмешливыми губами, с властными, спокойными, тоже выразительными, живыми глазами, смотревшими сквозь маленькие продолговатые сильные стёкла очков.
Вполне мог бы нравиться хотя бы немногим, хотя бы самым избранным женщинам, так ведь нет, неспроста полагают, должно быть, что исчадия крикливого пола отдают своё капризное сердце лишь самым посредственным лицам, проще сказать, записным дуракам.
Вот беда, остроумная физиономия выдавала его, оттого исчадия крикливого пола не влюблялись в него, кроме, разумеется, тех, кому он честно платил. Впрочем, обыкновенно он улыбался приятно и скромно, однако весёлой иронии скрывать никогда не умел, говорил негромко, но твёрдо, и этот неуступчивый проницательный взгляд, и все чувства всегда на лице.
Какой со всем этим богатством мог быть у крикливого пола успех?
И, махнувши рукой, он отправился ближними улицами и явился, как являлся обыкновенно, в театр, лишь в последний момент испугался чего-то войти в абонированный им бенуар, купил в кассе билет, раскланялся добродушно, однако неприветно и сдавленно, сел в своё кресло, взглянул рассеянно на сцену и ближние ложи и вновь погрузился в себя, почти больше не глядя, что там валяли актёры, не слыша ни слова, ничего не замечая вокруг.
Его лихорадило от пережитых волнений и от стыда за себя, что он здесь сидел, а там Васька кончался, должно быть, и больше всего оттого, что дней через десять предстояло ему, если решится внять благоразумному наставленью Каверина, но трезвых мыслей в растревоженной голове обреталось слишком немного.
Самая горькая, самая простая и ясная была та, что он погубил свою жизнь навсегда, погубил её очень давно, ещё до этой злосчастной дуэли, и погубил её ни за грош, сомневаться было нельзя.
Несколько раз он поднимал тяжёлую голову, рассеянно и близоруко оглядывал шумную сцену, где кого-то сбирались да никак не могли оженить, хотя это дело, известно, нехитро, глухо ловил два-три не совсем разборчивых слова и ответный одобрительный смех то кресел, то лож, то райка и вновь погружался в сомнения.
Ну, положим, открестится он, убедивши себя, что бесчестно быть в подобных обстоятельствах честным с властями и что ум, хотя бы самый глубокий и ясный, без трезвости мысли ничто, это немудрено, как жениться, так что ж из того? Его жизнь не станет порядочней и дельнее, и вина перед Васькой всё одно очевидна до слёз, и он должен переменить всю свою жизнь и быть необходимо наказан за эту слепую вину.
Лишь на эти условия он и был безусловно согласен.
Вот только каким таким образом переменить ему жизнь и кто и чем накажет его?
Тут же другой, опять важный вопрос представлялся ему: погубил ли он себя у строгой матушки под крылом, или в университетские годы, стремясь учением докторский чин получить, или в полку, когда в бальные залы вламывался верхом на коне, или в польском костёле, во время чинной обедни, из одного озорства наигрывал на органе камаринского, или углём выгорев от несчастной любви, или необдуманно выйдя в отставку, должно быть, чутьём угадав, что служба из чести, которую нёс он у Андрея Семёныча в кавалерийских резервах, сделалась вдруг невозможна?
А по сцене гуляла какая-то барынька, сильно кривлялась, изображая, должно быть, неодолимую страсть к изящной российской словесности, вспыхнувшую, как водится, совершенно внезапно, ни с того ни с сего, по воле водевилиста, в том неотвратимо убывающем возрасте, когда самое время полюбить бы, чего не успела, или подумать о погрязшей в пороке душе.
Боже мой, что там за дичь?
Поневоле он всегда помнил ту лихую дружину, в которой четыре месяца побыл и после которой какой год не в своей колее, а глупая, сильно и нарочно картавя, прижимая ладони к чрезвычайно пышной груди, трясогузка, захлёбывалась чем-то знакомым, что как будто ему приходилось где-то недавно читать:
– Он человек знатный, важной фамилии, а уж учён-то, учён… Подлинно, уж надобно удивляться!.. Чего он не знает!.. По-немецки, по-гречески, кажется, и по-латыни, а о французском нечего и говорить… и всеми этими языками он говорит лучше, чем даже по-русски!..
Вопрос, впрочем, в том, какая могла бы открыться перед ним колея, которую он по нраву и вкусу назвал бы своей, а глупая барыня, конечно, бранилась. Он прищурился и со вниманием поглядел: перчатки на ней были грязные, верно, именно для того, чтобы недогадливой публике предстала очевидней карикатура, которая, то есть публика, чёрт побери, у нас по сей день склонна за чистую монету принять всякое печатное или с подмостков изречённое слово, доверчивость детства, наивность необразованности, вялость ума да невинность души.
И на кой чёрт нашей публике, если сообразить эти свойства, красоты поэзии? Читала бы благоразумно газеты!
Благоразумно?
И в той же монете благоразумно перед судом офицеров солгать?
Вдобавок ещё одно странное дело: пожалуй, у одних только нас во всём свете пускаются карикатурить неприятеля своего за учёность, учёность у нас не в чести.
Та ли участь и слава театра?
Полно, вовсе не та! Пристало театру своим рукотворным бичом хлестать за невежество, за благоразумие, которое, не имея довольно ума и благородства души, ведёт к низкопоклонству и подлости, и тоже за ум и благородство души, которые, не заведя трезвости мысли, порядочного человека превращают в посмешище.
Нет, упаси Господи затесаться в посмешище. Чего хуже, как обратиться в героя комедии!
Да и комедии нынче упали, вместо благоразумной сатиры ударились в низкую пошлость.
Однако ж было славное время, когда бичом сатиры владел, впрочем, несколько неуклюже, топорно, остроумный Фонвизин, да, выходит, что славное время бесследно прошло.
Да и как не пройти? Кабы возможность была массу сведений наших литераторов, академиков, профессоров, студиозов разделить поровну нашим талантам, навряд бы на каждый постольку пришлось, чему учит великолепный Ланкастер: читать и писать, да и то через пень-колоду, по складам и пыхтя.
Вовсе не диво, что у кого-то из них на учёность навострилось перо.
На сей раз у кого?
А ловок-то, ловок, подлец, и, должно быть, ужасный нахал. Истинной просвещённости у нас ни в ком почти не видать. В этом, стало быть, в греческом, и прямой адресат. Кто ж у нас нынче смекает по-гречески? Разве из Тургеневых хромой Николай[41]? Чаадаев? Да оба сторонятся участвовать в пиитических дрязгах.
Из любопытства послушал он повнимательней крикливую барыню, выходившую из себя:
– А наука-то что ль? Литературу, словесность, поэзию, стихотворство… Психологию, хронологию, географию, землеописание…
Подумаешь, как остроумно прибегать к тавтологии! Однако кругом отменно хохочут вовсю! Что за дурак? Однако ж не Тургенев, не хромой Николай, тот пописывал в прошедшие времена слезливо, туманно, в духе пленительного Жуковского, а нынче вовсе не пишет стихов. Пётр Яковлич[42] тоже не пишет, философ. Кто же нынче пишет стихи и к тому же так славно учен?
– Эстетику, статистику…
Глупая барыня что-то ещё декламировала в том же изумительном роде, расширив безумно глаза, точно сама мысль об учёности её сводила с ума, тогда как он восстанавливал в памяти, где он слыхал ту же дичь, недавно, чуть не на днях, и кому далась такая бездна наук, разнообразных и важных, ведь явным образом творец пошлости метил препакостно в личность.
Он замечал в своей памяти твёрдость и гибкость и мало в том сомневался, что решительно все подробности припомнил бы тотчас, не пребывай в ином месте его растревоженный разум, отыскивавший бесплодно пути, как бы себя самого наказать по заслугам и одним разом переменить всю эту бездельную пошлую жизнь, в которой одни дурачества следовали утомительной чередой. В отсутствии разума любые усилия были напрасны: его память словно затянуло зыбучим песком.
Нечего делать, Александр принагнулся к соседу и раздельно негромко спросил:
– Прошу прощения, что нынче за пьеса?
Молодой человек, ушами потонувший в превысоком жабо, какими щеголяли повесы лет десять назад, небрежно ответил сквозь кружева, точно в погребе жил:
– «Вечеринка учёных».
Видать, пресерьёзно на вещи глядел, заседатель партера, он чуть кивнул:
– Покорно благодарю.
Отворотился, однако же названье ничего не сообщило уму, себя обругал, вновь, пригнувшись слегка, негромко спросил:
– Имени сочинителя не изволите знать?
Молодой человек впивал каждое слово, пущенное со сцены как тупая стрела, поскольку цели не ведал никто, но также готов был завязать разговор:
– Сочинитель Загоскин[43], однако, простите, лично я с ним не знаком, вы не изволите знать?
Он холодно оборвал:
– Никак нет.
И, неправду сказав, тотчас явственно припомнил один фельетон, во мрак наших журналов тиснутый нынешним летом, как будто в июле, впрочем, чёрт с ним, пусть в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в декабре для пакостей даже сподручней, то-то любят декабрь дураки, метель да мороз.
Фельетон пространно живописал вечер у графа Шишкова[44], ревнителя старины, адмирала и чудака, у которого запросто бывал иногда, с любопытством слушая восторги о прелести славянизмов, а на вечерах бесился от скуки, сколько хозяин ни милый был человек. Похоже, его выходки, о которых он через час забывал, в фельетоне передавались чуть не дословно. Сперва был набросан язвительно-лёгкий портрет:
«Один молодой человек, одарённый непостижимой гибкостью языка, успел наконец обратить на себя общее внимание: он вертелся направо и налево, спрашивал, отвечал, доказывал, раздроблял, спорил со всеми, загонял всех и в несколько минут очистил совершенно поле сражения. Самые упрямые спорщики должны были с ним согласиться, самые неутомимые болтуны принуждены были молчать…»
Он должен был согласиться, что филиппика была вставлена метко. В самом деле, его праздный ум, наскуча бездельем, рассерженный пустозвонством мудрости, похищенной у Лагарпа, а пуще у «Сына отечества»[45], порой извергал поток ядовитых острот и сарказмов, принуждая собеседников умолкать, точно вихрь налетал, однако победы этого рода нисколько не льстили громадному его самолюбию, может быть, оттого, что ничего не стоит победа над тем, кого не стоит труда победить.
«…Сначала перебрал он поодиночке всех древних поэтов: одних хвалил, других осуждал…», что многие, разумеется, находили кощунственным, поскольку всякая древность в представлении плоских умов исключалась из критики, «…никто не смел ему противоречить…». И кто бы сумел? Да и кто бы посмел? «…Он знает по-гречески и по-латыни», – шептали мне соседи, а как можно спорить с человеком, который читал в подлиннике Омера и находит неправильные стихи в Горации и Ювенале…»
Боже мой, на каком ярился он форуме, перед какими квиритами метал так старательно бисер? В самом деле, не истинный ли признак ума – заранее знать, перед кем говоришь, и молчать, когда слушатель твой туп и зол, как свинья?
А фельетонист, скромно забившийся в уголок, благоразумно про себя хранящий свою неучёность, ещё опустил его любимца Вергилия, которого он поставил себе в образец, об чём всякий знал, кто был близок к нему, свидетельство очевидное, что страж невежества не входил в круг его близких приятелей и, по счастью, о любимцах его ничего не успел разузнать, как не успел разузнать и об том, что он усовершенствовал себя в греческом языке, учась всякий день от двенадцати до четырёх, с ума сходя от наречия Аристофана и Фукидида, вдобавок находя его вовсе не трудным, уж за эти штудии бы всякий дурак уцепился, непременно отыскав тут грех самомнения, если не какой-нибудь худший грех, поскольку в чести у истинно русского человека лишь те, которые ничему не учились, а так, всё сущее собственным диким умом превзошли.
И это умы, среди которых он жил, исключая двух-трёх истинно просвещённых друзей. Что мудреного, если, взъярённый скукой безбренной, он в тот вечер пустился от древних к новейшим писателям, побранил немцев и англичан за туманные вирши, уязвил несколько трескучего Тасса, из всех итальянцев выделивши одного великого Данта, добрался наконец до французов, приведя фельетониста в смятение:
«О! тут началась кровавая сеча: двадцатилетний цензор не щадил ни пола, ни возраста…»
Прозрачный намёк, что фельетонист метил в него: к удивлению многих, он числился двадцатилетним, как матушка своей волей занесла ему в формуляр, имея веские основания на то, да Бог с ним, с формуляром, любопытно припомнить, что там о французах порол. Кажется, фельетонист издевался приблизительно так:
«Г-жа Дезульер лучше бы сделала, если бы вместо стихов писала узоры; г-жа Савинье не должна была печатать своих писем, а Жанлис сочинять своих сказок и романов; французская литература одна из самых беднейших; лучшие из писателей – жалкие школьники в сравнении с древними. Я слушал и восхищался. Этот молодой человек истинный патриот, думал я, он мстит французам за то, что они некогда были врагами нашими, унижает их писателей, верно, для того, чтобы возвысить таланты своих соотечественников. О! надобно иметь сильную любовь к отечеству, чтобы пуститься на такой великий подвиг…»
Плюнул, куда зазорно плевать, и остался доволен своим остроумием. Ай, что за мелкость души у наших пиратов пера! Истина нисколько не тревожит их плоский ум. С пеной у рта они бранят тех, кто имеет честь с ними не соглашаться и не напрашивается им на знакомство.
«Не все были одинакового со мною мнения…» Очень приятно, хотя, должно быть, и прочие мало удалились от суждений «Сына отечества». «Осуждать французских писателей! Боже мой! Да это уголовное преступление, такая неслыханная дерзость, от которой самый смирный человек должен потерять терпение. Один из слушателей, не в силах будучи скрывать долее своего негодования, вступился за бедных французов…» Помилуйте, кто бы мог быть столь отчаянным смельчаком? Уж не сам ли счастливый фельетонист, заподозривший страсть хулить иноземных писателей не из глубокого убеждения, не из верного чувства изящного, а лишь по низким причинам национальной кичливости? Экая память, однако… Так что там ещё у него? Ах да! «Пощадите! – закричал он. – Можно ли говорить с таким презрением об учителях наших…», точно, французы первейшие учители у нас слишком многих, однако ж не всех, да этого казуса мелким умом невозможно понять, коли общество в один голос превозносит легковесных, но модных писак, «…о писателях, которые служат нам образцами?..». Давно пора не служить! Мы довольно, кажется, самобытны, чтобы чужой меркой не мерить себя и в чужой не рядиться наряд!
Тут оппонент его окончательно выскочил из себя, и они раскричались на славу: