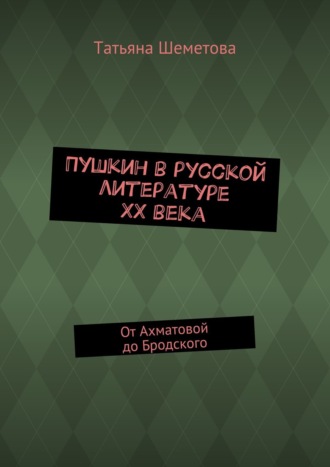
Полная версия
Пушкин в русской литературе ХХ века. От Ахматовой до Бродского
В аналитических, социологически ориентированных работах, подобных статье А. И. Рейтблата27, представлена попытка понять и оценить деятельность Ф. В. Булгарина в контексте эпохи. По предположению ученого, в ходе подробного изучения материала перестанет существовать булгаринский миф, а сам он займет свое место среди реальных литературных деятелей своего времени.
На наш взгляд, «булгаринский миф» как часть пушкинского не перестанет существовать, пока «жив будет хоть один пиит», потому что суть мифа – не только познавательная (узнать о том, что Булгарин был неплохой писатель, а не только доносчик и агент III Отделения), но и онтологическая и аксиологическая. Можно поменять пропорции мифологемы «Пушкин – Булгарин» или, что точнее, согласно пушкинскому автомифу: «Феофилакт Косичкин» (журнальный псевдоним Пушкина) – «Видок Фиглярин». Пушкинская сатира, иногда несправедливая по отношению к своему объекту (если сатира вообще может быть справедливой), дала Булгарину пропуск в бессмертие: всестороннее изучение его жизни и творчества, публикация его переписки и беллетристики – это по большому счету детализация и обогащение пушкинского мифа.
По точному замечанию А. А. Ахматовой, «вывернувшей наизнанку» проблему взаимоотношений поэта с мифологическим чудовищем петербургского света, «настало <…> громко сказать не о том, что они сделали с ним, а о том, что он сделал с ними»28: заставил всех современников Пушкина, включая врагов, в сознании потомков жить в «пушкинскую эпоху». Согласно этой концепции, место Булгарина в пушкинском мифе вполне адекватно его положению в обществе и литературе, и «реабилитация» Булгарина, восстановление его литературной репутации может только обогатить пушкинский миф новыми мифологемами, то есть подарить беллетристической пушкиниане новый занимательный сюжет.
Возвращаясь к мифологеме пушкинской родословной, нужно отметить, что унаследованная от отца гордость дворянина, это «врожденное» право, которое позволяло поэту беседовать на равных с царем – «водились Пушкины с царями» (III, 198) – рождает мифологему «Поэт и царь», в которой особенно репрезентативен первоначальный импульс, лаконично выраженный в стихотворении «Моя родословная»: «Царю наперсник, а не раб» (III, 199). Вспомним также «Воображаемый разговор с Александром I», где автор общается с царем с теплотой, почти по-родственному, более того, меняется с ним местами: «я» – император, «Пушкин» – царь: «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему <…>» (VIII, 51). Два Александра, роль «Второго»29 (равного среди первых) принимает на себя автор «Разговора…»
Завершающим звеном автомифа становится создание «Памятника», где достигает апогея тенденция остраненного, объективного видения собственной личности, названной Герценом «явлением», которым ответила Россия на реформы Петра I. Осознать «явление» в момент его протекания было дано самому Пушкину. Загадка пушкинского памятника самому себе в стихотворении «Я памятник себе воздвиг…» вызывает споры и по сей день. Насколько серьезен вечно ироничный Пушкин в следовании жанру горацианской оды? Первая реакция даже самого доброжелательного читателя – недоумение перед нескромностью великого поэта. «Памятник» застыл водоразделом Пушкина мертвого и Пушкина живого в нашем сознании», – говорит А. Битов о читательской реакции на стихотворение30.
С другой стороны, нельзя не учитывать, что наряду с осознанием собственного значения для русской ментальности (будущего неминуемого «обронзовения») поэт продолжает находиться в поле автокоммуникации и, пересоздавая автомиф, вступает в диалог с вечной спутницей-музой. Следуя диалектике пушкинского творчества, можно присоединиться к «диалогическому» мнению исследователя мифа Ю. Шатина, что «Я памятник себе воздвиг…» «может быть одновременно прочитан и как образец горацианской оды, так и пародия на неё благодаря двусмысленности заключительного катрена»31. Если согласиться с прочтением исследователя, то оборотной стороной высказывания «Я памятник воздвиг нерукотворный» неожиданно может стать «ай да Пушкин, ай да сукин сын», подобно тому, как высказыванию «Я помню чудное мгновенье» соответствует в эпистолярном жанре – «Вавилонская блудница Анна Петровна» (Х, 160).
В стихотворении «Я памятник себе воздвиг» (1836) можно увидеть весь набор вышеупомянутых автомифологем жизни Пушкина, композиционно развертывающихся от настоящего («памятник») к прошлому («баловень муз»). Сюжет автомифа, напротив, движется от свободолюбивой юношеской лирики («главою непокорной») к соперничеству-равенству с царем («выше… Александрийского столпа») и верности «дружеству» с декабристами («милость к падшим призывал»), а в финале возвращается на новом витке к героико-элегическому стилю лицейской поэзии (разговор с музой в последнем четверостишии).
В лицейском стихотворении «Воспоминания в Царском селе» (1814) [далее «Воспоминания» (1814) – Т.Ш.] тема памятника решается с помощью глаголов, дословно совпадающих с глаголами в стихотворении «Я памятник себе воздвиг…». Кагульский памятник сначала «вознесся» над скалой, а потом «воздвигся» среди сосен (I, 70) – «нерукотворный» памятник, наоборот, сначала был «воздвигнут» лирическим субъектом, а затем «вознесся» (III, 340). Роль медиатора между двумя «памятниками» играют памятные «столпы» в стихотворении «Воспоминания в Царском селе (Воспоминаньями смущенный…)» (1829) [далее «Воспоминания» (1829) – Т.Ш], среди которых самый близкий и родной «столп» – «наваринскому Ганнибалу» (III, 149). Ратная судьба сына «арапа Петра Великого» И.А.Ганнибала вдохновляла поэта с юности. Памятник ему, по-видимому, и являлся точкой отсчета пушкинского автомифа, апогеем которого стал «нерукотворный» памятник. Становится понятно, что и в первых «Воспоминаниях» (1814), написанных специально для чтения на экзамене, Пушкин имел в виду «ганнибальский столп», то есть памятник своему родственнику, но не упомянул его по причине общественного характера адресации стихотворения.
Вторые «Воспоминания» (1829), хотя и уподобляются по форме первому стихотворению на эту тему, но носят более интимный характер – это незаконченный черновик32, который можно рассматривать как антимиф по отношению к первым «Воспоминаниям» (1814). Собственно и смысл этого стихотворения, по-видимому, в том, чтобы объяснить самому себе и читателю, что сады Лицея потому и родные, что в них стоит зримое напоминание о великом призвании, полученном по наследству. Высшая точка этого стихотворения – развертывание темы памятника, которая была искусственно редуцирована в «Воспоминаниях» (1814). Как только произошла искомая встреча «блудного сына» с «отцом»33 – призраком «наваринского Ганнибала», сидящим у посвященного ему столпа, – сюжет исчерпан. Автор еще пытается продлить «воспоминания», но следующая строфа звучит повтором «Воспоминания» (1814) – стихотворение теряет свою энергетику, поэтому автор не заканчивает так мощно начавшегося стихотворения, не разъяснив причину начального смущения: «Воспоминаньями смущенный, / Исполнен сладкою тоской» (III, 148).
Очевидно, возвращение к теме «памятного столпа» в стихотворении «Я памятник себе воздвиг…» (1836) знаменует то, что «блудный сын», не закопал в землю дарованные ему таланты, как другой библейский герой (библейская притча о таланте), а преумножил, потому и памятник, который он тем самым себе воздвиг, является продолжением екатерининского столпа «наваринскому Ганнибалу». Достигнутое величие, воплощенный дар есть реализация завета, знаком которого являлся первый «памятник простой» в «Воспоминаниях» (1814).
Резюмируем механизм формирования автомифа. В поэтическом творчестве, как было показано, чаще всего реализуются основные мифологемы, которые затем последовательно демифологизируются в письмах, черновиках, критических опусах в адрес литературных врагов. Из отдельных ярких запоминающихся мифологем формируется непротиворечивый лирический сюжет пушкинской поэзии. Антимиф уравновешивает автомиф, придает ему диалектическую устойчивость, которая необходима как самому поэту, так и его ближайшему окружению. Для массового читателя-современника востребованным остается лишь автомиф. Ценность антимифа для поэта в том, что он с негативной точки зрения дублирует и заставляет уточнять автомиф, делая образ автора все более детализированным, интригующим для будущего читателя. Эта диалектика автомифа стала одной из возможных причин того, что в творческой деятельности последующих поколений пушкинский биографический миф становится объективированной реальностью, независимо от субъективных и исторических факторов, на которых данная категория была основана.
Словесные шаблоны биографии
Художественный текст, воссоздающий ушедшую эпоху, как правило, пропитывается реминисценциями из пушкинского творчества, аллюзиями реалий быта, архаичными языковыми особенностями.
Художественные тексты, ориентирующиеся на гносеологический аспект пушкинской биографии, как правило, стремятся дать представление об особенностях исторического времени и переплавить его в художественное; создать баланс, некое «общее поле» на стыке между авторским образом Пушкина и представлением, существующим у предполагаемого читателя. С этой целью они осуществляют уподобление языка художественного текста мифическому «пушкинскому» праязыку с его многозначительной всеохватностью. В жанре агиографии, своеобразного «жития»34 (И. Новиков, Г. Чулков) авторы строго придерживаются канонов литературного русского языка, используя при этом различные виды стилизации. По большей части язык этих произведений все же стремится к нейтральности, либо к несобственно прямой речи, используя весь спектр имеющихся источников изображаемого времени.
Важный конструктивный принцип повествования о Пушкине, а, следовательно, и стиля повествования, – «заданность», а не «данность» героя35. «Пушкин» оказывается знаком, означающее которого настолько известно, что означаемое подставляется читателем36. Имя восстанавливается читателем из стиля описания и упоминания знаковых мифологем биографии. Для русского читателя Пушкин давно стал «героем-амплуа», предсказуемость которого уничтожила «переключение из плана в план»37. Это придает некую статику, «завершенность» и закрытость (в бахтинском смысле) беллетристическим биографиям Пушкина.
Своеобразная попытка замены устоявшегося языка пушкинского мифа была осуществлена в незаконченном романе Ю. Тынянова «Пушкин». Г. Левинтон заметил, что Тынянов вводил в текст строки Пушкина различными способами: цитированием уже написанных текстов; описанием того, как создаются тексты; использованием «прототекстов», или «субстратов». В последнем случае «в романе „воссоздается“ гипотетический (или чисто вымышленный) подтекст, биографический или словесный, того произведения героя романа, которое в действительности и цитируется здесь»38.
Этот гипотетический подтекст связан с авторской стратегией изображения поэта: «Пушкина» как явления литературы в пространственно-временном континууме романа еще нет; автор показывает лишь зарождение и развитие его гения. Имя «Пушкин» носят в романе как минимум три персонажа: Александр, его отец Сергей Львович и дядя Василий Львович. Кроме свойства обладания данным именем эти герои несут общие характерологические черты, свойственные «пушкинской» линии, в отличие от «ганнибальской»: «Вы, Пушкины, – сказал он медленно, – род ваш прогарчивый. Прогоришь!»39. Выбор доминанты поведения Пушкина в каждом конкретном случае в романе Тынянова – непредсказуем, тем самым достигается динамическое наполнение означаемого «Пушкин» принципиально незавершимым означающим. В романе Тынянова воплощается один из принципов повествования, который ученый считал присущим пушкинскому творчеству: «„Люди“ в литературе – это циклизация вокруг имени – героя <…>»40.
Приведем примеры того, как в литературе ХХ в. с именем Пушкина связываются самые разные представления. Для Блока «веселое имя Пушкина» обозначает «тайную свободу»41 творчества. Для Ходасевича Пушкин – имя национальной культуры, с помощью которого предстоит «перекликаться в надвигающемся мраке»42 постреволюционного безвременья. Для Цветаевой – имя животворящей бесконтрольной и внеморальной поэтической стихии43. Таким образом, уже в литературе серебряного века имя Пушкина лишается своего единственного означаемого: либо расширяется до нарицательного («поэт») и собирательного («русская литература/культура»), либо сужается до сугубо личного восприятия («мой Пушкин»).
В советское время язык пушкинского мифа приобретает идеологический характер. Официальный культ Пушкина способствовал тому, что в языке возникла идеологема «Пушкин», которая с течением времени стала обозначать кого-то, «заведомо далекого от того, что обсуждается»44.
Реакцией на идеологизацию Пушкина стала активизация процесса демифологизации. Особенно ощутимо последний проявился в границах «прогулок» (жанра, унаследованного Абрамом Терцем от Ж-Ж. Руссо) и «тайных записок» (роднящих одноименный текст М. Армалинского с «потаенной литературой» пушкинского времени). В ходе демифологизации язык пушкинского мифа дополняется новыми лексемами (вульгаризмами, ненормативной лексикой) и ранее не существовавшими смыслами (концептуальными, как у Т. Кибирова либо концептуалистскими, как в поэзии Д. Пригова). Такое развитие языка пушкинского мифа вполне естественно, поскольку он является неотъемлемой частью русского языка как культурной формы, а его эволюция представляет собой включение вновь открытых феноменов в языковое пространство.
Особый язык, сформировавшийся как отражение сакрализующей тенденции пушкинской биографии, начинает терять свои очертания, но в качестве «охранной грамоты» еще сохраняет набор постоянных словесных формул. В роли последних выступает ряд авторитетных высказываний, оторвавшихся от своего ближайшего контекста и получивших в этом усеченном виде широкое распространение.
Поскольку данные компоненты в языке пушкинского мифа получили не совсем ту трактовку, которая имелась в виду их создателями, а противоречие между трактовками снимается в ходе различных его манифестаций, то мы сочли возможным воспользоваться в данном случае термином К. Леви-Стросса «мифема». Ученый выделил три основных компонента мифа: сообщение, остов и код45. Сообщение и остов, то есть события и образы пушкинского мифа, мы назвали «мифологемами», воспользовавшись термином К. Г. Юнга, а те высказывания, о которых пойдет речь ниже, играют роль кодов, или мифем, с помощью которых национальное сознание ориентируется в континууме пушкинского мифа. В ряде случаев «формулы» могут наполняться образным содержанием, приобретая характер мифологем. В отличие от мифологем (образов и событий), конституирующих миф о Пушкине, мифемы обеспечивают его коммуникативную связь с современностью, являясь его языковыми кодами, «формулами» пушкинского мифа. В роли мифем могут выступать как механически воспроизводимые фразы, изъятые из произведений поэта («Мороз и солнце, день чудесный!», «Я помню чудное мгновенье…» и т.д.), так и наиболее авторитетные высказывания о нем, которые приобрели характер афоризмов. Ниже мы даем краткую характеристику наиболее часто артикулируемых мифем.
Русский человек через двести лет. Мифема, получившая свое развитие после смерти Пушкина и особенно к концу ХХ в., т.е. времени, когда должно было сбыться буквально понятое пророчество, восходит к знаменитой фразе Гоголя о Пушкине: «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Мысль была выражена в статье Н. В. Гоголя «Несколько слов о Пушкине» еще при жизни поэта (1834), когда стало очевидным охлаждение читающей публики к Пушкину, и произошла его первая символическая «смерть». На этом фоне восторженная оценка Гоголем пушкинского значения была полемическим аргументом, вызовом общественному мнению. По мысли исследователя, «Гоголь начинает сакрализацию образа Пушкина <…>, заложив в культуре соответствующую традицию»46. Вместе с тем он же является и первым авторитетным демифологизатором, поскольку хлестаковская «дружба» с Пушкиным в «Ревизоре» положила начало противоположной традиции «комически сниженного портрета Пушкина»47.
К концу ХХ столетия метафорическая природа знаменитого высказывания отходит на задний план, и современный писатель А. Битов рассуждает: «Гоголь напророчил нам Пушкина как «нового человека» через двести лет; через три года мы отметим столетие Набокова и двухсотлетие Пушкина; кто же это родится у нас в 1999-м?»48. Герои Татьяны Толстой, не дождавшись самостоятельного «явления Пушкина», предполагают «родить» его: « <…> этот союз униженных и оскорбленных, уязвленных и отверженных, этот минус, помноженный на минус, даст плюс, – курчавый, пузатый, смуглый такой плюс»49. Традиционная «курчавость» ахматовского «смуглого отрока» не подлежит сомнению, тогда как эпитет «пузатый» снимает высоту поднятой темы и одновременно формирует совершенно новый, иронически переосмысленный образ Пушкина-младенца в ХХ в.
Солнце нашей поэзии. Формирование образа «солнце нашей поэзии закатилось» в некрологе В. Ф. Одоевского исследователи объясняют сходным выражением из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Историк повествует, как на Руси восприняли весть о смерти Александра Невского в 1263 г. Митрополит Киевский Кирилл, «сведав о кончине великого князя <…> в собрании духовенства воскликнул: „Солнце отечества закатилось“. Никто не понял сей речи. Митрополит долго безмолвствовал, залился слезами и сказал: „Не стало Александра!“ Все оцепенели от ужаса, ибо Невский казался необходимым для государства и по летам своим мог бы жить еще долгое время»50. Образ «солнца» с точки зрения этой традиции восходит к образу правителя, основателя русской литературы как целостности.
Образ Пушкина как «солнца» русской поэзии и культуры особенно актуален для начала ХХ в. К нему обратились, например, О. Мандельштам в статье «Пушкин и Скрябин» (1915) и В. Ходасевич в юбилейной речи «Колеблемый треножник» (1921). В том и в другом случае образ связан с тревогой за судьбы русской культуры, то есть актуализируется коннотация «закатившегося солнца». В трактовке Мандельштама, смерть поэта – квинтэссенция его жизни: «Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины – смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца, и поглощая его свет»51. Солнцем именуется телесная оболочка, что подчеркивает значимость не только бессмертной поэзии, но и смертной человеческой сущности Пушкина: «Мраморный Исаакий – великолепный саркофаг – так и не дождался солнечного тела поэта. Ночью положили солнце в гроб, и в январскую стужу проскрипели полозья саней <…>». Современный исследователь И. Сурат указывает на то, что Мандельштам, который не стал выступать на вечере 1921, посвященном очередной годовщине смерти Пушкина, вылившимся в «тризну по уходящей культуре», осуществил не состоявшееся в 1837 г. отпевание Пушкина в Исаакиевском соборе, подобно тому как Пушкин заказал панихиду в годовщину смерти Байрона52.
Ходасевич тревожился о «затмении пушкинского солнца»53, сначала недолгом, связанном с влиянием статей Д. Писарева54, затем – значительном, связанном с революционными преобразованиями, которые, согласно его предвиденью, могут совершенно изменить восприятие Пушкина. В духе тютчевских строк о «первой любви» России поэт говорил о последних часах «близости» с Пушкиным, которая, возможно, никогда не повторится.
По замечанию М. Безродного, уподобление Пушкина солнцу в ХХ в. становится ритуальным: «Кому – быть солнцем. Имя – Пушкин» (Бальмонт); «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!» (Северянин); «Ты гений, солнце, Царь-поэт!» (Арский); «Солнце Поэзии Русской – взошло!» (Нелидова-Фивейская и Голохвастов); «В стране, где кровью преступлений / Весь облик прошлого залит, / Лишь твой великий, светлый гений / Сквозь сумрак тягостных мгновений / Еще сияет и горит» (Троцкая)»55.
В конце века А. Битов отметил и прокомментировал в своем эссе сходство наполовину комплиментарной, наполовину уничижительной оценки Булгариным последнего этапа творчества поэта со знаменитой «формулой» в некрологе В. Ф. Одоевского: «„светило, в полдень угасшее“ и „солнце нашей поэзии закатилось!“ – вот трагический образец разрыва формы и содержания! <…> Смерть человека потрясла всех, смерть поэта не всех, потому что первая формула относилась к нему живому. Первая была произнесена еще современником, вторая – уже потомком»56.
Как видим, писатель связывает мифему Пушкина-солнца с проблемой безвременной кончины поэта, которая, по мнению многих современников и потомков, не позволила ему довершить призвание: «„Солнце“ – пожалуй, единственное для них [Булгарина, Одоевского, Уварова – Т.Ш.] общее слово, хотя бы и в смысле „полудня“ и „половины“ – незавершенности и недоделанности»57. Этой тенденции приуменьшения созданного Пушкиным по причине краткости его жизни, сохранившейся и в конце ХХ столетия, А. Битов противопоставляет свою «писательскую пушкинистику». Кризису пушкиноведческой науки посвящена книга И. Сурат с многозначительным названием «Вчерашнее солнце»58.
Пушкин – наше все. Данная формула А. А. Григорьева живет в национальном сознании уже как бы в отрыве от ее автора. Эту тенденцию отметил в 1922 г. Ю.Н.Тынянов, с негативным оттенком назвав ее «некоторым знаменем»59 современного ему пушкиноведения. «Наивный телеологизм» как авторитетных ученых, так и следующих этой тенденции журналистов, по мнению Тынянова, обедняет и «науку о Пушкине» и литературоведение в целом.
Если обратиться к первоисточнику, статье Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859), то уже по заглавию видно, что она посвящена не столько Пушкину, сколько развитию русской литературы первых десятилетий XIX в. Центральную же роль Пушкина в русской литературе, по мнению критика, определяет способность воплотить в своей натуре национальное сознание (смирение перед действительностью и одновременно готовность к протесту). Современный исследователь, анализируя особенности «григорьевского мифа», отмечает, что высказывание «начинается с противительного союза60, поскольку оно – реплика в споре <…> с современной Григорьеву критикой, где значение Пушкина либо отрицалось, как у нигилистов, либо сужалось, как у эстетического направления <…> григорьевские слова – все-таки не формула <…> а заостренная в пылу полемики <…> точка зрения»61. Критик раскрывает свою позицию, когда говорит, что Пушкин все наше (акцент на наше, а не на все), «которое связывает раскол общества на допетровское и послепетровское»62. В статье Григорьева нет утверждения, что Пушкин – первый и последний совершенный поэт. Апокалиптичность мышления, развитая у его современника Ф. М. Достоевского, была чужда Григорьеву. Итак, несмотря на кажущуюся тотальность фразы, ставшей мифемой, на деле Григорьев являлся противником светского «обожествления» поэта.
Как показывает опыт исследования литературы ХХ в., «крылатая фраза „Пушкин – наше все“ становится эмблематическим знаком выражения постмодерности»63. При этом «кощунственно-шутовское, иронико-игровое звучание этой сентенции» (которое, по мнению исследователя, она приобрела в конце ХХ в.) соперничает с серьезным содержанием этой максимы. Вспомним, например, конкретизацию формулы Григорьева в эссе А. Битова: «Рассчитываясь с ним, мы отвели ему первое место во всем том, чему ни просоответствовали сами. Он не только первый наш поэт, но и первый прозаик, историк, гражданин, профессионал, издатель, лицеист, лингвист, спортсмен, любовник, друг…»64.
Всемирная отзывчивость. Характеристика поэзии и личности Пушкина стала итогом многолетних раздумий Ф. М. Достоевского; слова, ставшие многократно повторяемой формулой, впервые прозвучали в его речи, произнесенной на торжествах по случаю открытия памятника поэту (1880). Мифотворческая природа этой речи проявилась в самом способе произнесения, зафиксированном современниками: «Да, это была не речь, а скорее долгое заклинание, словесное колдовство»65.
Результатом этого «колдовства» стал «духовный», неортодоксально христианский образ Пушкина, который активно развивался в философской и религиозной пушкинистике серебряного века. После длительного забвения в советской литературе и критике Пушкинская речь Достоевского вновь вернулась в зону активной читательской рецепции в начале 80-х гг. ХХ в. благодаря статье В. Кожинова «И назовет меня всяк сущий в ней язык…»66. В этой статье критик рассуждает о всечеловечности как о сущностной основе русского национального самосознания, которую он понимает как способность воспринимать другие народы как часть собственного национального существа. Именно этим он объясняет способность русской души понять и принять в себя самосознание других народов, что проявилось, по Достоевскому, в творчестве Пушкина как «всемирная отзывчивость».
Способность русских воспринимать чужую точку зрения, в нетривиальной трактовке Кожинова, проявилась даже в таком неоднозначном факте русской истории как призвание варягов на царствование. Куликовская битва, по мнению критика, опирающегося на труды Л. Н. Гумилева, – не битва русских с татарами (которых было много в русском войске и в его командовании), а битва русского и других народов с «агрессивной космополитической армадой» европейских работорговцев, купивших Орду67.




