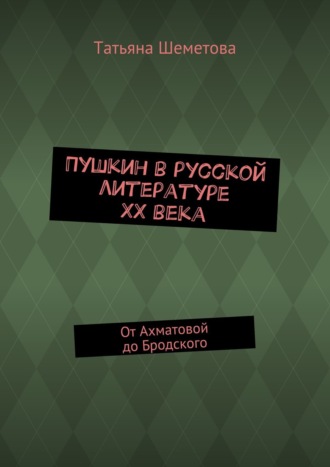
Полная версия
Пушкин в русской литературе ХХ века. От Ахматовой до Бродского

Пушкин в русской литературе ХХ века
От Ахматовой до Бродского
Татьяна Шеметова
© Татьяна Шеметова, 2024
ISBN 978-5-4485-0872-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВВЕДЕНИЕ
«Как атеист я в Пушкина не верю»1 – так современный поэт Константин Арбенин сформулировал собственные взаимоотношения с пушкинским мифом. В этом стихе содержится и провозглашение божественной сущности Пушкина (мифологизация), и опровержение ее (демифологизация). Несовпадение образа Пушкина, закрепившегося в русской ментальности, и реального человека, так называемого биографического автора, чьи творения столь высоко ценимы современниками и потомками, создает особую диалектику пушкинского мифа, его динамическое равновесие. Строка из поэмы Арбенина восходит к письму Пушкина: «В вопросе счастья я атеист; я не верю в него <…>»2, что может свидетельствовать о провозглашаемом современным поэтом тождестве между понятиями «счастье» и «Пушкин».
Это отождествление, свойственное многим русскоязычным писателям ХХ в.3, демонстрирует, с одной стороны, концептуализацию слова «Пушкин», то есть максимальное взаимоудаление означающего и означаемого. С другой стороны, богатство культурных ассоциаций, вызываемых в русской литературе ХХ в. образом Пушкина, не имеет аналогов.
Авторитетный пушкинист Сергей Бочаров в своей статье «Из истории понимания Пушкина» говорит о двух видах знания о Пушкине: пушкиноведении (объективном, построенном на фактическом материале) и философской и писательской пушкинистике (основанной на герменевтическом круге, интуитивно собирающей целое из частей). Согласно мнению ученого, мифологизация Пушкина осуществляется в пушкинистике, или иначе говоря, метафизическом «целостном знании», обосновывающем исключительность «явления» поэта в мировой культуре (а это ядро пушкинского мифа), выводящем его из общего историко-литературного ряда. В процессе мифологизации поэта ученый видит «некую объективность высшего порядка»4.
Противоположная точка зрения выражена в полемическом эссе писателя и ученого Юрия Дружникова с характерным названием «Дуэль с пушкинистами»5. По его мнению, в основной своей части пушкинский миф совпадает с советским периодом: это различного рода напластования, преимущественно идеологического характера, искажающие подлинный облик поэта. Нарушение нормы восприятия Пушкина «казенной пушкинистикой» делает возможной «дуэль» Дружникова с пушкинистами. Следствие этих противоположных тенденций (по выражению Л. Аннинского, «мифотворчества» и «мифоборчества»6) – современное восприятие поэзии Пушкина: от «пушкиноведения» академических толкователей произведений поэта и музейных работников, для которых авторитет поэта непререкаем, до массовой культуры, «поп-пушкинистики», для представителей которой отсутствуют всяческие запреты.
Своеобразным медиатором между академической и массовой пушкинистикой можно считать современную художественную литературу, которая не только легитимирует пушкинский миф, доставшийся ей в наследство от прежних эпох, но и, обновляя его собственными средствами, создает художественные феномены, призванные осовременить его устаревшую форму. Набор черт внешнего облика и вех биографии, остававшийся ранее неизменным при характеристике Пушкина, независимо от жанра или содержания произведения, в конце ХХ века сменяется принципом варьирования, изменения объема, качества и количества тех или иных компонентов образа. Изменение затрагивает такие, например, компоненты мифа, как язык повествования (а также лирического или драматургического высказывания о поэте), его иконография, имя субъекта мифа, биографические мифологемы.
По мысли писателя и теоретика литературы Михаила Берга7, современный исторический роман о Пушкине невозможен, потому что в нем не осталось места для вымысла. Иначе говоря, «перфектологический» роман так же фантастичен, как и «футурологические» произведения, повествующие о будущем. Возможно, по этой причине такие авторы, как Т. Толстая и М. Берг с разными целями пересматривают варианты финала пушкинской дуэли. «Сюжет» (многозначное название рассказа) Т. Толстой метафорически вмещает в себя всю последующую русскую литературу, которая в виде обрывочных «сюжетов» проносится в бредовом сознании выжившего после дуэли раненого Пушкина. История России в результате выздоровления «солнца русской поэзии» поворачивается вспять, хотя в ней действуют те же «случайные» персонажи (Ульянов и Джугашвили, а не Ленин и Сталин), которые, как и иные «гении», согласно историософской концепции другого Толстого, являются лишь «рабами истории» в «роевом» движении народов.
В романе М. Берга «Несчастная дуэль», который автор позиционирует как «концептуальное высказывание»8, Пушкин и Дантес меняются местами. Первый играет роль соблазнителя, а второй – несчастного мужа Натальи Николаевны, который, будучи убитым на дуэли Пушкиным, лишает его морального права быть духовным лидером нации. Нация лишается своего «всего», при таком раскладе становящимся совершенно непостижимым Х (иксом), которому для пущей убедительности автор приписывает две звездочки, лапидарно поясняя их значение. «Русский Бог» заменен фаллосом, точнее его русским нецензурным эквивалентом, в чем видится несомненное влияние на автора психоанализа З. Фрейда, оказавшего колоссальное воздействие на менталитет американского общества и шире – современного мира. О проблематичности использования методологии психоанализа по отношению к Пушкину пишет американский исследователь Дэвид Бетеа9.
Тема «старого Пушкина» у Толстой и Берга далека от ее решения В.В.Набоковым, который в романе «Дар» мечтал «роскошной осени пушкинского гения». Эта тема же поднимается А. Битовым в рассказе «Памятник зайцу», где заяц, перебежавший дорогу поэту, собиравшемуся тайком приехать в Петербург из Михайловской ссылки, заставляет суеверного Пушкина вернуться назад и выполнить свое поэтическое предназначение. Возможное участие в восстании декабристов могло стать причиной каторги и способствовать продлению жизни поэта путем избавления от петербургских интриг.
Каждый писатель актуализирует те аспекты биографической легенды о Пушкине, которые наиболее близки его собственному мировоззрению, и тем самым способствует как архаизации, так и модернизации ее. Таким образом миф о Пушкине, понимаемый узко (как литературный феномен) и широко (как социокультурное явление), оказывается не только весьма значимым в контексте русской культуры последних двух столетий, но и одним из самых гибких объектов, допускающих различные интерпретации и трансляции в литературе ХХ века.
При этом каждая манифестация мифа (от агиографических до развенчивающих тенденций), не теряя мифологических интенций, содержит элемент позитивного знания, из которого возникают многие вторичные культурные феномены, в частности, столь уникальный феномен, как пушкиноведческий сюжет.
Первооткрывателем в этой области литературы можно считать А. Синявского, который в «Прогулках с Пушкиным» под маской Абрама Терца синтезировал «лагерный» и металитературный дискурс. Впоследствии А. Битов переадресовал своим героям-литературоведам Льву Одоевцеву и А. Боберову10 собственные пушкиноведческие открытия. Не менее показательный синтез науки и мифологии представляет собой «пушкиноведческий детектив» А. Лациса «Верните лошадь!», в котором основным предметом изображения предстает литературоведческая эвристика, а объектом – интуитивно выявляемый «подлинный автор» сказки «Конек-Горбунок», которым, согласно логике автора, оказывается не Ершов, а Пушкин.
В данной работе мы ограничиваем объект рассмотрения литературными произведениями тех авторов, судьбы и творчество которых, на наш взгляд, дают достаточное представление о функционировании пушкинской биографии в изменяющемся национальном самосознании. Это произведения различной жанровой природы: А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Маяковского, Ю. Тынянова, В. Набокова, А. Платонова, А. Синявского-Терца, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, И. Бродского, Л. Лосева, Т. Кибирова, Д. Пригова, А. Битова, Т. Толстой. Кроме того, в ряде случаев мы обращаемся к произведениям «второго» и «третьего» литературных рядов, опубликованных в малодоступных источниках. Масштаб исследования – ХХ век – позволяет показать воздействие мифа о Пушкине на специфику художественных произведений и обратное влияние писательской рецепции на такие компоненты, как язык мифа, иконография, трактовка мифологем и мифем, изменение значения имени «Пушкин» (от мифа к концепту).
Применение понятия «пушкинский миф» весьма многообразно, что приводит порой к необоснованному расширению значения термина. Мы ставим себе целью взглянуть на проблему активного функционирования разных аспектов пушкинского мифа с несколько иной точки зрения, чем это делалось до сих пор. Нас будет интересовать онтологический статус пушкинского мифа в литературе ХХ века, то есть его бытие в пространстве художественных текстов.
Мифологема в случае пушкинского мифа – это элемент биографического сюжета, та часть «тела мифа», которой может быть как наиболее репрезентативный образ, так и событие (акция). Например, мифологемы, подразумевающее многозначные, подчас противоположные друг другу толкования в современной культурной ситуации: царь, няня, Анна Керн, Наталья Гончарова, Дантес – образы, получившие в литературе ХХ в. многообразное толкование. Образы-мифологемы, связанные с самоопределением поэта: чудо-ребенок, арзамасский Сверчок, потомок негров, пророк, памятник. Мифологемы-события (акции): лицейская дружба, «Арзамас», Южная ссылка, Северная ссылка, женитьба, дуэль. Мифогенность этих событий биографической легенды связана с их способностью генерировать новые трактовки, как в художественных, так и в научных (и околонаучных) сферах, что свидетельствует о том, что пушкинский миф не только не рушится с уходом тоталитарной эпохи11, но, напротив, активно участвует в современном национальном самоопределении, нуждаясь в пристальной научной рефлексии.
Сознание исследователя (в том числе автора работы) зачастую становится составной частью предмета изучения, то есть мифотворчества как процесса. Отсюда вывод о смежности понятий мифотворчества и художественной условности, мифотворчества и научной концепции, которые, безусловно, не тождественны, но пограничны.
I. Формирование биографической легенды о Пушкине
Герой Б. Пастернака Юрий Живаго, размышляя о русской литературе и ее создателях, упоминает Пушкина, который прожил жизнь, «как личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом и, подобно снятым с дерева дозревающим яблокам, сама доходит в преемственности, наливаясь все большею сладостью и смыслом»12. Если развить эту метафору, то выходит, что недозревшее яблоко – собственно жизнь Пушкина, а ее «дозревание» происходит в сознании последующих поколений.
Пушкин – автор мифа о Пушкине?
По мысли Ю. М. Лотмана, для Пушкина «создание биографии было постоянным предметом столь же целенаправленных усилий, как и художественное творчество» После Пушкина сложилось «представление о том, что в литературе самое главное – не литература, и что биография писателя в некоторых отношениях важнее, чем его творчество». Сама же биография «складывается в борьбе послужного списка и анекдота»13.
Наша мысль состоит в том, что создателем мифа о Пушкине в первую очередь был сам Пушкин: формируя свой образ в сознании читателей, как в стихах, так и в прозаических и публицистических произведениях, поэт неоднократно прибегал к вымыслу. Наличие пушкинского автомифа признается современной пушкинистикой, более того, некоторые из пушкинских «вымыслов» тактично дезавуируются14.
Ориентируясь на байроновский и вольтеровский мифы, Пушкин замечал в одной из своих последних статей: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства» (VII, 280). Поэт не только сохранял собственные черновики, рефераты чужих трудов, письма и записки друзьям и т.д., но и подталкивал пишущих знакомых (П. В. Нащокина, Н. А. Дурову) к написанию мемуаров об эпохе, которая впоследствии будет названа «пушкинской порой».
Воплощая автомиф при создании образа автора (и лирического героя), поэт соединял в нем собственные индивидуальные черты с чертами обобщенного поэта-лирика, заимствованные им у поэтов-современников: Державина, Жуковского, Батюшкова. Это особенно очевидно в лицейских стихотворениях: автор и одописец, наследующий классицистический героический стиль, и нежный элегик, любующийся красотами садов, и ленивец – баловень муз. Уже в первых лицейских образах Пушкину удалось создать непротиворечивый стиль, выйти за границы «владений» каждого из названных авторов и путем синтеза создать свой неповторимый образ, в котором сочетаются «противоречащие друг другу „лирические моменты души“»15.
Это позволило старшим друзьям, не смевшим входить в стилистические «владения» друг друга, создать первоначальный миф о «чудо-ребенке». Не случайно, характеризуя талант Пушкина-лицеиста, К. Батюшков среди других качеств особенно выделяет «изобретение», то есть умение конструировать свой неповторимый образ.
Выйдя из Лицея, Пушкин продолжает создание автомифа в поэме «Руслан и Людмила», где, полностью оправдав ожидания старших, дает первый пример русской национальной поэмы, за что удостаивается звания «победителя-ученика», ставшего на сей день устойчивой мифологемой. Как заметил исследователь, в поэме «сказочны были не только герои и сюжет, но и фигура поэта-повествователя, поданная в зачине и в конце поэмы совсем в духе и стиле русских сказочников»16. Добавим, что образ автора не укладывается полностью в формулу сказочного повествователя. Конфликт между Русланом и Черномором аллюзивно перекликается у Пушкина с конфликтом между «Арзамасом» и «Беседой любителей русского слова», который был актуален в период создания поэмы. Ирония, объясняющаяся условностью сюжета, и лирический автобиографизм выступают коррелятами скрытого значения поэмы: создания мифа о литературной ситуации в России, частью которого становится личный миф Пушкина.
В романе «Евгений Онегин» автор подчеркивает связь собственного нового образа с мифологизированным образом автора в юношеской поэме, обращаясь к читателям: «Друзья Людмилы и Руслана! / С героем моего романа <…>» (V, 7). И действительно, этот образ, несмотря на вполне реалистический психологический облик, будет не менее загадочным и «выдуманным»: у него будет свой, изредка пересекающийся с онегинским сюжет – миф о творческой личности, создающей небывалый ранее – в стихах – роман на наших глазах. Одним из главных героев романа будет мифогенный образ автора с его «утаенной любовью».
Известная пушкинская иллюстрация к роману, на которой он изображен с Онегиным (спиной к зрителю, лицом к Петропавловской крепости), «опершися на гранит» (V, 25), мифологизирует и внешний облик автора: молодого человека с кудрями, выбивающимися из-под цилиндра и свободно развевающимися за спиной. Характерно недовольство поэта иллюстрацией художника А. В. Нотбека (созданной по мотивам пушкинского рисунка, но не уловившей динамики образов и напоминающей статичную картинку из модного журнала), выразившееся в эпиграмме:
Вот перешед чрез мост Кокушкин,Опершись ж… о гранит,Сам Александр Сергеич ПушкинС мосьё Онегиным стоит.Не удостоивая взглядомТвердыню власти роковой,Он к крепости встал гордо задом:Не плюй в колодец, милый мой (III, 140).В трагедии «Борис Годунов» драматург не преминет оставить торчащие из-под «колпака юродивого» (X, 146) авторские уши, и это несмотря на драматический жанр, который по определению требует авторского отсутствия. Отсюда – «ай да Пушкин» – слова, говорящие об осознании «нерукотворности» чуда созидания «народной трагедии». Автор-создатель увиден со стороны и вызывает восхищение у автора-читателя. Здесь мы имеем возможность наблюдать характерный пример пушкинской автокоммуникации, когда по ходу создания нового произведения возрастает информация, возникает новое знание об истории. Вместе с тем трансформируется представление о самом себе.
Похожий взгляд увидим в «Путешествии Онегина», где автор рисует групповой портрет одного из собраний декабристов, и среди них, «равный среди первых»: «Читал свои Ноэли Пушкин» (V, 183). Позволим себе предположить, что перед нами – очередной пример мифологизации собственного образа с целью «аутопсихотерапии» (слово Ю. Лотмана), которая может быть связана с двойственной позицией Пушкина в отношении заговорщиков. Письмо Николаю I из Михайловского с просьбой о помиловании c одной стороны; дерзкий ответ, что он примкнул бы к своим друзьям на Сенатской площади, – с другой.
По мысли А. Битова, избыточная «психологичность» ситуации непереносима для Пушкина «как утрата некоего качества жизни»17. Вернуть «качество» жизни – изобразить себя между несостоявшимися «цареубийцами» – Луниным и Якушкиным. Поставить, несмотря на «тайную свободу», как от царя, так и от декабристов. Как считают П. Вайль и А. Генис, «Пушкин быстро отошел от образной системы декабристской мифологии, стремительно исчерпав ее возможности. Пышная богиня Вольность исчезает у Пушкина вместе с условностью его ранней поэзии»18. Но миф, созданный в «свободолюбивой» юношеской лирике, создал у декабристов впечатление о возможности Пушкина – политического поэта. Негативная оценка Пушкиным некоторых стихов Рылеева, монологов Чацкого (X, 96) привела к разрушению этого мифа в глазах будущих декабристов.
Процесс разрушения первоначального мифа сопровождался утратой репутации Пушкина – романтического поэта, поэтому внутренний монолог («автодиалог») переходит в эпистолярий, и Пушкин начинает настойчиво говорить об «истинном романтизме» (Х, 148), стремясь к демифологизации застывшего образа романтического поэта, который ассоциировался у русских читателей (в том числе близких друзей) прежде всего с образом Пушкина.
Тексты писем Пушкина – это belles lettres —Беллетристика (от франц. belles lettres Беллетристика (от франц. belles lettres в первоначальном смысле, но беллетристика, которая, по мысли Л. Вольперт, меняет свой стиль в зависимости от адресата19. Письма корректируют автомиф, созданный в поэзии, но не отменяют его. «Характер пленника неудачен, – констатирует Пушкин в письме В. П. Горчакову, – это доказывает, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» (Х, 42). Продолжение объяснений характера пленника – в письме П. А. Вяземскому: при характеристике «неромантического» отказа пленника прыгнуть в реку за черкешенкой: « <…> да, сунься-ка; я плавал в кавказских реках, – тут утонешь сам, а ни черта не сыщешь; мой пленник умный человек, рассудительный <…> он прав, что не утопился» (Х, 47). Создается миф о подлинной смелости, лишенной псевдоромантического ореола, но «истинно романтической», если воспользоваться словом Пушкина, сказанным по поводу жанра своей «большой» трагедии.
Большинство писем Пушкина, как предположила Л. Вольперт, имеют характер «игры» по нотам того или иного произведения, но есть в пушкинском эпистолярном наследии тексты, как будто полностью лишенные «игры» и автомифологизации, – это письма Геккерну, связанные с последней дуэлью поэта. Их можно прочесть в книге «Предположение жить.1836», составленной А. Битовым, где в хронологической последовательности представлены все тексты Пушкина последнего года жизни. Перед современным читателем – все варианты письма Геккерну, за которыми последовал вызов на дуэль и смерть поэта. Читая черновики письма, мы видим, как идет поиск не самого гармоничного, а самого оскорбительного слова. На этом фоне особое впечатление производит деловое и доброжелательное письмо писателю-историку Ишимовой, написанное накануне дуэли, когда мы читаем его вслед за «белым» от бешенства письмом секунданту Дантеса д'Аршиаку. Снята маска дуэлянта, почти до неузнаваемости изменившая облик гармонического гения, и перед нами – редактор журнала, заботящийся о своих авторах и заинтересованный в них.
В демонстрации этого контраста, по-видимому, состоял замысел писателя, максимально приблизившего к читателю «живого Пушкина», представив «сплошной текст» Пушкина последнего года жизни. Столь быстрый переход от агрессии к доброжелательству, а также безукоризненное поведение поэта до и во время дуэли заставили некоторых исследователей20 предположить продуманность возможного завершения мифологического «сюжета» своей жизни.
Возможность такого «финала», как и любой другой героической гибели, рассматривалась Пушкиным в уже лицейский период его творчества. Например, в стихотворении «Была пора…» (1836) героическая смерть становится объектом зависти:
Со старшими мы братьями прощалисьИ в сень наук с досадой возвращались,Завидуя тому, кто умиратьШел мимо нас… <…> (III, 342).Исходя из даты написания стихотворения, можно предположить, что тема «завидной смерти» актуализируется для поэта в последний год его жизни, поскольку он использует лицейскую мифологему для осмысления распавшейся «связи времен»: перелома общественного мнения, обрыва традиции в области морали, связанных с переходом от «дней александровых прекрасного начала» (II, 113) к николаевскому царствованию. Стихотворение остается прерванным на середине строки, которая читается как аллегория, в которой Николай I – «ураган», декабристы – «новы тучи», сравнимые по величию с «угасшим» Наполеоном и его победителем Александром I. Но если первый царь – «Народов друг, спаситель их свободы», то второй – «суровый и могучий», «ураган», с которым трудно связывать надежды «славы и добра»21.
Антитезой к теме «завидной смерти» можно считать «незавидную», отразившуюся в стихотворениях: «Что в имени тебе моем?», «Брожу я вдоль улиц шумных…», «Дорожные жалобы». В этой антитезе можно увидеть две стороны личного мифа Пушкина: вариант героической, возвышенной судьбы со смертью как апофеозом славы и – «моцартианской» (мифологема о ленивом беспечном гении), ведущей к бесславному концу. Второй вариант личного мифа, возникающий в послелицейский петербургский период, имеет отношение к его общественной репутации и берет начало в лицейской поэзии, точнее в анакреонтике. В русле этой тенденции многолетний труд над романом «Евгений Онегин», которому впоследствии посвятит стихотворение «Труд», написанное гекзаметром (III, 175), в посвящении к роману именуется «небрежный плод моих забав» (V, 7). Это представление о себе как о «баловне муз» поэт культивировал у читающей публики, по-видимому, для того, чтобы сохранить репутацию о «600-летнего дворянина», которому не пристал «труд упорный». Отчасти поэтому возникает впечатление об аристократизме Пушкина и кружка поэтов вокруг «Литературной газеты» Дельвига22, подвергавшегося насмешкам критиков круга Ф. Булгарина.
Как видим, автомиф создавался непрерывной автокоммуникацией в процессе художественного творчества, а также в диалоге с адресатами писем Пушкина. Укреплялся же и приобретал заостренные черты – в полемике с недоброжелательной журнальной критикой. Полемика началась еще в переходный лицейско-петербургский период, когда основной объект критики – представители «Беседы любителей русского слова», один из которых – адмирал А. С. Шишков – увековечен афористической фразой в романе «Евгений Онегин»: «…Шишков, прости:/ Не знаю, как перевести» (V, 147). Ср. в эпистолярном жанре: « <…> Кстати: похвалите «Славянина»: он нам нужен, как навоз нужен пашне, как свинья нужна кухне, а Шишков русской Академии» (X, 193). Другой участник «Беседы…» – знаменитый графоман граф Хвостов. Неоднократно высмеянный Пушкиным и поэтами-арзамасцами граф Д. И. Хвостов реабилитируется в некоторых современных работах23, где, в частности, указывается на факт заимствования некоторых важных тем и образов младшим поэтом у старшего, что позволило «остряку замысловатому» князю Вяземскому обличить своего друга: «Ты сам Хвостова подражатель, / Красот его любостяжатель»24. Та же ситуация наблюдается и с другим оппонентом Пушкина – А. С. Шишковым25.
Очевидно, что карикатурно заостренные фигуры, вроде доносчика Булгарина («Фиглярин» из «Моей родословной»), графомана Хвостова («Седой Свистов» в посвященной ему эпиграмме), архаиста Шишкова26 (названного в личном письме «свиньей» русской Академии) были необходимы Пушкину для создания антитезы к автомифу. Их образы не только противостояли пушкинскому образу, но и служили поводом для вдохновения. Например, в «Моей родословной» автор переходит от агрессии по отношению к литературному врагу Булгарину (явившейся первотолчком к созданию стихотворения) к оде своей пушкинско-ганнибальской родословной. Заметим, что до начала полемики с «Фигляриным» у Пушкина есть вполне благожелательный отзыв как о самом Булгарине, так и о его издании, которое поэт, противопоставляет «Полярной звезде» К. Ф. Рылеева: «Вы принадлежите к малому числу тех литераторов, коих порицания или похвалы могут быть и должны быть уважаемы, Вы очень меня обяжете, если поместите в своих листках здесь прилагаемые две пьесы. Они были с ошибками напечатаны в „Полярной звезде“, отчего в них и нет никакого смысла. Это в людях беда не большая, но стихи не люди. Свидетельствую вам искреннее почтение» (Х, 65).




