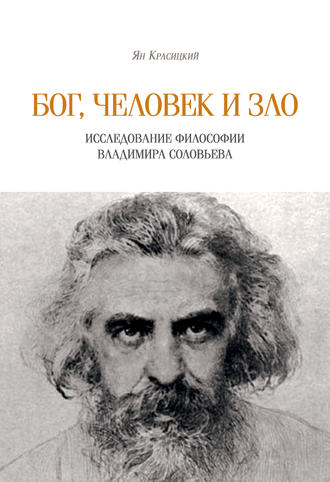
Полная версия
Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева
Но как в самом человеческом эгоизме, так и в жизни природы, полагает философ, при всей их абсурдности и иррациональности, заключен определенный момент более высокой рациональности, высший Смысл, открыть который может только свет высшего сознания. Ошибка эгоизма заключается не в том, что человек приписывает себе абсолютное “значение” По сути, человек как существо, сотворенное “по образу Божьему“ (Быт, 9:6), и как личность обладает абсолютной ценностью и абсолютным достоинством. Ошибка эгоизма заключается в том, что данный человеческий индивидуум, считая себя “центром жизни”, приписывая себе абсолютные ценности и требуя соответствующего признания этих ценностей, вместе с тем “отказывает в этом другим” Поступая так, он в сущности приписывает себе компетенции Бога, который “есть всё, то есть обладает в одном абсолютном акте всем положительным содержанием, всею полнотою бытия” в то время как человек, “будучи фактически только этим, а не другим, может становиться всем, лишь снимая в своем сознании и жизни ту внутреннюю грань, которая отделяет его от другого”[99]. Человек всегда остается лишь отдельным существом, и та абсолютная ценность и достоинства, какими он обладает, являются не чем-то изначально и непосредственно данным, а заданным ему (как урок, как возможное направление его развития). Сами по себе они остаются идеалом, духовным “зерном”, способным прорасти, заложенным в человека и имеющим перспективу развития[100]. Это нечто, что является скорее постулатом, нежели уже реальным, реализованным моментом – качеством, которым он исходно обладает. Человек, оставаясь неотторжимой (неотделимой) и незаменимой частью всеединой цельности, самостоятельным, живым, своеобразным органом абсолютной жизни, может реализовать свое абсолютное предназначение только при том условии, что он отступится, откажется от своего эгоизма. Будучи фактически “только этим, а не другим”, он может “стать всем” только вместе с тем, что представляют собой другие, только в неразрывной связи с этими “другим и” он может спасти свою истинную “индивидуальность” Настоящая “индивидуальность” (в значении, которое скорее надо понимать как личность, как личная неповторимость) является “определенным обликом (образом, проявлением) Всеединства, а следовательно, и определенным видом восприятия, усвоения, понимания и присвоения себе того, что представляют собой другие.
“Утверждая себя вне всего другого, – пишет Соловьев, – человек тем самым лишает смысла свое собственное существование, отнимает у себя истинное содержание жизни и превращает свою индивидуальность в пустую форму. Таким образом, эгоизм никак не есть самосознание и самоутверждение индивидуальности, а напротив – самоотрицание и гибель”[101].
Стремление человека “быть Богом” сотворить Бога из себя самого, силой своего эгоизма, оборачивается в конечном счете против человека. Эгоистическое существование индивидуума (“человеческой монады”) становится чем-то вроде ада на земле. Одинокое, изолированное существование отдельного человека, его “самоутверждение” – это по сути отчуждение от жизни. Сам феномен жизни у Соловьева – это не существование монады “без окон”, но “сосуществование с другими”, разделенное и совместное с ними бытие.
3. Смысл и бессмысленность мира
Если эгоизм и всеобщая вражда являются “бессмыслицей” то “смысл мира, в нем же и правда Божия, – пишет философ, – есть внутреннее единство каждого со всем. В виде живой личной силы это единство есть л ю б о в ь”[102]. Силе эгоизма может противостоять только сила, в основе которой лежат любовь и органичное единство, и олицетворением этой силы является Христос – Новый Адам[103].
Биологическая и материальная жизнь имеет не только свою иррациональную сторону, лишенную смысла, но и свой высший смысл, этот смысл стал Откровением. В Слове – Иисусе Христе (“И Слово стало плотью” – Ин 1:14). Это то Слово, через которое всё “начало быть” (Ин 1: 3). Этот Смысл – подлинный смысл вселенной, но дотоле он пребывал в мире как смысл неявный, скрытый. Слово “было” в мире, и – философ вспоминает начало Иоаннова Евангелия – мир стал через Слово, но “мир Его не познал” (Ин 1: 10). Поскольку мир не принял полностью Слова Божия, он еще не является тем местом, где торжествуют основы Жизни, основы Смысла, Слова, Добра, но остается тем местом, где царят смерть, зло и хаос. Поэтому в мире продолжается борьба Света, который и “во тьме светит” (Ин 1: 5), с силами зла, мрака, тьмы, смерти. И именно этот Свет, философ ссылается на Пролог Евангелия от Иоанна, есть “свет истинный”, в котором – “жизнь” и “свет человеков” (Ин 1: 9; 1: 4) [104]. Слово – это Смысл вселенной; в нем пребывает “истинная жизнь”[105].
Смерть как всеобщий “факт”, в котором не приходится сомневаться, выступает как “крайнее зло”, “как явный” знак торжествующих в мире сил зла[106]. Она одновременно выявляет бессилие человека как естественного существа (как части природы) перед злом в этом мире и заставляет обратиться – в борьбе со злом – к высшей по сравнению с природной, естественной, а именно к духовной основе, одним словом, к Божьей Милости. Для успешной борьбы со злом “нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия”[107]. Осознание моральных обязательств, осознание необходимости творить добро, – пишет Соловьев, ссылаясь на слова апостола Павла (Римл 7:14–25), – само по себе еще не дает силы для выполнения этой задачи. Поскольку человек по природе своей грешен, и эта наша природа не случайно, но “в основе своей” порочна и зла, постольку одного сознания, одной мысли недостаточно, чтобы человек освободился от зла. Поэтому, полагает Соловьев для того чтобы на самом деле можно было изменить и исправить нашу грешную природу, должен объявиться в нас иной, истинный и потому способный к действию источник иной жизни, лежащей вне нашей нынешней, злой природы. Эта жизнь должна существовать независимо от нашей воли, человек не может создать ее сам, он может только принять, получить ее. Но зародыш, “зачаток” этой жизни уже находится в н а с[108].
В евангельской метафоре “света” (“жизни”) и “тьмы” (“смерти” и “греха”), которой пользуется Соловьев для выражения своих взглядов, отражается, с одной стороны, вера в вечность и неистребимость той Жизни, которая была “от начала” (Ин 1:1), которая продолжается и “зачаток” которой находится в н а с, а с другой стороны, тот факт, что Эту Жизнь уничтожил [отнял у человека] Грех. Отсюда необходимость дара, Милости, ибо так же, как злую природу жизни человек не создает, не сотворяет сам, а получает от мира, так и новую, добрую жизнь он получает от Того, кто стоит над миром и кто лучше этого мира. Поэтому эта новая, лучшая жизнь, которую человек получает от Бога, называется благодатью, Милостью Божьей. “Новая, благая жизнь даете я Богом, это есть благодат ь[109].
В разделе Духовных основ жизни, озаглавленном О молитве, философ пишет:
“Когда мы ощутили сердечное отвращение от зла, господствующего в мире и в нас самих; когда мы делали усилия, чтобы побороть это зло, и опытом убедились в бессилии нашей доброй воли, тогда наступает для нас нравственная необходимость искать другой воли, – такой, которая не только хочет добра, но и обладает добром,
и, следовательно, может сообщить и нам силу добра. Такая воля есть, и прежде чем мы поищем ее, она уже находит нас” (С. 315).
Эта Воля – не что иное, как Воля Бога. Однако Бог, который вместе с тем является абсолютным Добром, не может действовать против нашей собственной воли, и только актом собственной воли, подчеркивает философ, человек может отринуть зло, и только актом [собственной] воли может он познать истинное Добро, или Бога. Бог, считает Соловьев, не хочет быть внешним фактом, навязанным нам с и л о й. Бог – это внутренняя правда, постижение которой требует веры. Вера в Бога – это вместе с тем и вера в абсолютное Добро, вера в то, что “все добро воистину есть в Боге “ (С. 316). Поэтому верить в Бога – это значит верить во всеобщее (вездесущее), полное и абсолютное Добро[110], это значит уверовать и признать существование иной, высшей, силы (основы), чем та, что царит в мире, признать, что Бог как абсолютное Добро есть господин Жизни. А это значит признать и то, что эта “Жизнь явилась” (Ин 1:2)…
“И видихом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины”[111].
4. Философема жизни и философема смерти
Жизнь во всей своей полноте явилась в акте Воскресения Христа из мертвых. В “факте” Воскресения нашла свое воплощение провозглашенная человеческим разумом, предвосхищенная в различных религиях Древнего мира, совершенно новая, неизвестная до сих пор человечеству идея вечной и бессмертной Жизни. Воскресение Христа Соловьев считает событием, предопределенным как религиозным, так и рациональным сознанием, и – при всей его необычной “чудесности” – “рациональной” и логически “обязательной” истиной. Это событие можно считать “чудом” только в том смысле, что оно было чем-то “необычным” с точки зрения человеческого опыта[112], в то же время это нечто рациональное, даже непременное, обязательное, логичное в плане логики “вселенского процесса” и вечных поисков Человечеством истинного Смысла жизни.
Борьба между жизнью и смертью идет в природе непрерывно, с самого начала ее сотворения, однако до Воплощения (Вселения Бога в человека) и до Воскресения принцип Вечной Жизни оставался закрытым, необъявленным (не явленным людям). Он открывался постепенно, однако полного своего проявления достиг только в том окончательном воплощении (теофании) Бога, каким является Иисус Христос. До момента Воплощения и до окончательной победы, одержанной Христом над смертью, эта борьба развивалась в двух плоскостях, проходила два этапа: физический и духовный, или моральный; после первого этапа “Война между жизнью и смертью вступает в новый фазис с тех пор, как ведется существами не только живущими и умирающими, но, сверх того, мыслящими о жизни и смерти”[113].
До момента Воскресения Христа из мертвых в мире, – в том значении, какое придает этому понятию автор четвертого Евангелия, к которому и философ обращается в своих аналитических рассуждениях, – в мире не было “Жизни” Ей еще только предстояло “явиться” и она, как говорит Евангелист, воистину “явилась” (Ин 1:2). В мировой строй жизни, которая по сути была псевдожизнью, имитацией жизни, увековечением смерти, вторглась иная Реальность. В мире наступила “эпифания” Жизни (Ин 1:4), и кажущаяся, мнимая, видовая, биологическая “жизнь”, которая по существу есть Смерть, уступила место истинной Жизни. Вместе с Воскресением Христа из мертвых “поглощена смерть победою” (Кор 15:54).
Это не значит, что никто до Христа не принимал вызова смерти как “высшего” “крайнего” зла. Напротив, Соловьев подчеркивает, что эта проблема занимала центральное место в учениях таких деятелей, как Будда или Сократ. Однако богочеловеческий принцип, заложенный и выявленный в христианстве, во много раз превосходит то, что имело место в жизни и деятельности этих великих мыслителей Древнего мира. Человек, говорит Соловьев, каждый человек, в том числе и мыслитель, умирает потому, что его внутренняя духовная сущность не в состоянии “преобразовать, превратить в себя всю нашу внешнюю, телесную сущность” отсюда наше “бессмертие” всегда остается “половинчатым”: бессмертна только внутренняя сторона, только “бестелесный дух”[114]. И только в этом значении “бессмертие” было известно и доступно людям Древнего мира. Поэтому идеи и дела Будды и Сократа, величайших “героев человеческой мысли”[115], принявших вызовы смерти, были едва лишь зародышем, зачатком будущей Победы, то есть окончательной победы над смертью, но еще не самой этой “победой” Истинная, окончательная Победа могла быть достигнута только Тем, кто обладает бесконечной, а не ограниченной духовной силой. Во Христе, говорит Соловьев, “никакая частица Его существа не могла остаться добычею смерти” и даже если Будда и Сократ в своей духовной сущности не умерли, не исчезли и до сих пор живут в духовном измерении, то только Христос “воскрес всецело”[116]. Во Христе воистину и окончательно Торжество Избавления “попрало смерть”: “Поглощена смерть победою” (Кор 15:54.).
Однако смерть Сократа, которая предшествовала смерти Христа – “Избавителя от смерти”, имела огромное значение для понимания феномена смерти. В Сократе, пишет Соловьев в статье Жизненная драма Платона, человеческая мудрость достигла своей вершины: она показала свое превосходство над моральным злом, но вынуждена была капитулировать перед окончательным злом, то есть перед смертью. Смерть Сократа выявила бессилие человека перед злом смерти и одновременно потребность в формировании идеи, более высокой, чем тот моральный принцип, олицетворением и историческим воплощением которого был Сократ, – идеи, которая имела бы высшее превосходство над всяким злом, общественным, моральным и политическим, которая в самой сути своей была бы высшим абсолютом, превосходящим абсолютное зло, то есть зло смерти.
Бессилие человеческой мудрости перед фактом смерти выявляет также реакция Платона на смерть его любимого Наставника. Платон, который (на первом этапе своего творчества) выражает протест против “легального убийства учителя”, а в Законах (под конец жизни) “всецело становится на точку зрения Анита и Мелита, добившихся смертного приговора Сократу”[117], подтверждает таким образом собственное бессилие перед наличием зла в мире и признает, что этот мир не удастся вылечить никакими политическими или социальными реформами, проведенными снизу, что здешний мир был, есть и останется – до тех пор, пока не будет побежден “внешней” силой, чье происхождение не связано с этим миром, – царством зла и обмана (иллюзий, миражей). После реформаторских поисков и порывов, нашедших свое отражение в Государстве и Законах, Платон в конце своего философского пути, пишет Соловьев, вынужден был признать, что Смысл жизни существует, но находится он в ином, идеальном мире. Исполнение надежд на постижение этого Смысла недостижимо посредством одной лишь человеческой, природной мудрости. То, что Платон интуитивно предчувствовал, нашло свое осуществление в Воплощенном Логосе, в Личности БогоЧеловека.
“Сократ, – пишет Соловьев в завершение приводимой здесь статьи Жизненная драма Платона, – своей благородной смертью исчерпал нравственную силу чисто-человеческой мудрости, достиг ее предела. Чтобы идти дальше и выше Сократа – не в умозрении только и не в стремлении только, а в действительном жизненном подвиге, – нужно было больше, чем человека. После Сократа, и словом, и примером научающего достойной человека смерти, дальше и выше мог идти только тот, кто имеет силу воскресения для вечной жизни[118].
Взгляд на смерть как на абсолютное зло, перед которым капитулирует любая человеческая сила, является основной предпосылкой не только для понимания проблемы зла в философской мысли Соловьева, но также для понимания всей его философии, и только в этом контексте можно понять то особое почтение, какое он проявлял к учению “частного философа” (по определению Л. Шестова) Н. Федорова о “воскрешении отцов”; только в этом контексте становится ясной причина нарастающего с годами раздражения и негативного отношения Соловьева к игнорировавшему реальность Воскресения из мертвых Льву Толстому, к его “лжехристианству”, по определению Соловьева, а также понятным становится критический подход философа к “буддийскому настроению”[119], которое стало господствующим в кругах русской артистической богемы конца XIX века с ее культом буддийской нирваны и декадентским культом смерти.
С этой точки зрения Соловьев рассматривает в одном ряду „буддизм” в поэзии, „буддизм” Льва Толстого и „необуддизм” Елены Блаватской[120], полагая, что эти явления заслуживают одинаковой оценки. Современные “буддисты” и “необуддисты” утверждает философ, принимая учение Будды за свое кредо веры, поступают так, словно не было Христа, не было его Воскресения из мертвых и истинной победы, которую он одержал над смертью; своими практическими действиями, своим поведением они по сути отрицают избавительную миссию “Богочеловека”, его роль, превращают ее в ничто. Такой подход является “изменой” и уничтожением, растратой, обращением в пыль того духовного “капитала”, который Христос – всей своей жизнью и своим Воскресением из мертвых – оставил всему, а не только христианскому миру
Это не христианский подход, потому что он впитывает в себя только “аскетический” “пессимистический” то есть собственно “буддийский”, элемент христианства, не желая помнить об “оптимистических” основах христианства, о Послании Воскресения из мертвых. “Отказ от борьбы” или характерное для Будды восприятие смерти, убеждает Соловьев, после “факта” Воскресения Христа уже не является и не может быть единственной правильной позицией человека перед лицом смерти, а тем более не может быть христианской позицией. Эта позиция осталась в прошлом, ушла в историю, в те времена, которые ее породили, и сама по себе является не только, как в случае с Буддой, “отказом от борьбы”, но настоящей капитуляцией перед властью “имеющего державу смерти, то есть дьявола” (Евр 2:14.). Вместо борьбы со злом, в котором “лежит мир” – к чему призывает Христос, – эта позиция является капитуляцией перед Злом, передачей мира Злу. Эта позиция тем более не соответствует истинному духу христианского вероучения, что, насколько Будда игнорировал мир, считая его небытием, ничтожеством, видя в материи лишь орудие зла и уходя из реального мира в нирвану – на позицию, недоступную для врага (то есть для смерти), настолько Христос своим Воскресением и Богочеловеческим подвигом призывает к решительному и активному преобразованию мира, к переменам, которые совершаются уже сейчас, в каждом акте человеческой воли, хотя окончательное их исполнение мыслится только в эсхатологическом измерении.
5. Философия “общего дела” и философия “Богочеловеческого поступка”
Проблема смерти как величайшего зла, обращающего в пародию все человеческие идеалы, – это настоящий “соблазн” для человеческого разума и вместе с тем вызов для христианской веры. В этом вопросе главное значение, – хотя отнюдь не репрезентативное для официального учения Православной Церкви, – для Соловьева, судя по всему, приобретают фигуры Ф. Достоевского и Н. Федорова. Глубокое внутреннее родство Достоевского с Соловьевым в подходе к вопросу Воскресения из мертвых выявилось уже в письме писателя к Н. Петерсону от 24 марта 1878 г.[121] – издателю Философии общего дела Федорова (с этим произведением Достоевский познакомился в изложении, представленном Петерсоном). Достоевский заметил не только совпадение своих собственных взглядов со взглядами Федорова, но и еще более глубинное сходство между идеей “воскрешения отцов” Федорова и основным эсхатологическим “проектом” Соловьева. Основное совпадение во взглядах Федорова и Соловьева, несмотря на различия в их представлениях о способе реализации эсхатологического “проекта”, заключается в общей вере в “Христову религию” как “религию Воскресения”. С этим связаны также понимание смерти как “высшего зла” в котором пребывают природа и человечество, и тот постулат преодоления смерти, победы над смертью, который оба считают моральной обязанностью христиан. Не случайно Соловьев именно в этом отношении признал “проект” Федорова “первым шагом” “первым движением человеческого духа по пути Христову”, а автора Философии общего дела назвал своим учителем и отцом духовным[122].
Однако цель Философии общего дела не исключает существенных различий между двумя “проектами” Для Соловьева, в противоположность Федорову, важнейшим представляется не глобальный, не общественный (соборный), не коллективный аспект Воскресения, а его Богочеловеческий аспект, имеющий своей целью новый, свободный от врожденного фатализма статус человеческой личности. “Простое физическое воскресение умерших само по себе, – подчеркивал Соловьев в другом своем письме Н.Ф. Федорову, – не может быть целью”[123]. Наш философ, – в отличие от Федорова, в своих рассуждениях о смерти более напоминавшего “законодателя и благодетеля в духе XVIII века”[124], нежели последовательного защитника христианской позиции, пытавшегося в своем учении соединить христианскую эсхатологию с элементами утопизма Фурье, позитивизма и сциентизма, сосредоточенного почти исключительно на “технической” стороне “общего дела”, – делал прежде всего акцент на новом, свободном от врожденного “эгоизма” христологическом статусе человеческой личности. Федоров, упрекая Соловьева в совершенном непонимании обязанности “воскрешения” умерших отцов их сыновьями[125], именно эту сторону считал целью своего “проекта” Соловьев же будущее состояние эсхатологического “преображения” отдельного человека и всего Человечества понимал прежде всего в перспективе “Богочеловеческой религии” как будущее обожение и персонализацию человеческого бытия.
Если все же посмотреть на взгляды обоих философов в перспективе “Богочеловеческого поступка” Христа, или его Воскресения, то окажется, что по существу гораздо большее их объединяет, нежели разделяет. И у Соловьева, и у Федорова появляется не только констатация того, что смерть есть окончательное, последнее зло, но также описание пути действенного преодоления смерти, достижения победы над ней. В этом смысле философия “общего дела” одинаково определяет концепции и Федорова, и Соловьева. И у Соловьева, и у Федорова, несмотря на различия их эсхатологических представлений, человек появляется как Богоподобное существо, способное к действенному теандрическому сотрудничеству с Богом, имеющее по отношению ко всему космосу (Вселенной) единую, общую задачу, от которой нельзя отступить. Человеческое существо предназначено для того, чтобы своими делами дополнить божественный акт творения, довести его своими богочеловеческими действиями, поступками до эсхатической Полноты (Pleroma). Это программа действенного, активного преображения не только собственного бытия отдельного индивидуума, но и преображения всего Универсума, основа действенной, творческой религиозности (в этом значении и слово “дело” в заглавии работы Федорова следует понимать как “действие”), отбрасывающей все формы религиозного эскапизма как в формах спиритуализма, частной религиозности, так и в формах “буддийской” пассивности, самоустраняющейся от мира. Характерная цитата из Евангелия от Иоанна, которую приводит Федоров (“Отец Мой доныне делает, и я делаю” – Ин5:17), и многочисленные ссылки на аналогичные тексты из Священного Писания у Соловьева не оставляют в этом вопросе никаких сомнений – “общее дело” не осуществляется в силу одного лишь “исторического развития” самого по себе (как писал об этом Соловьев в своей ранней работе Философские начала цельного знания)[126]. Это дело (действие) свободных и осознающих свое конечное предназначение личностей, дело Богочеловечества.
Это одновременно позиция, говоря словами Бердяева, “активной эсхатологии”[127], адресующей свое глубочайшее воззвание человеку как существу, не только ответственному за собственную судьбу, но и обладающему космической ответственностью[128], – идея, вокруг которой объединены усилия едва ли не всей русской религиозной мысли. Человек, согласно такому предназначению, становится ответственным, как говорит об этом старец Зосима в Братьях Карамазовых Достоевского, не только за жизнь своих близких, но за всякое существо: “Одно тут спасение: возьми себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской”[129].
6. Религия “Богочеловека” и религия “Великого Человечества”
Подобным образом Соловьев интерпретировал также идею Великого Человечества, “Великого существа” Конта. В докладе, прочитанном им за два года до смерти (Идея человечества у Августа Конта [130]), он, во всяком случае, отдал дань признания “позитивной науке”: идею Вечного Человечества он воспринимал как утверждение “Богочеловеческой религии” и признавал, что в те годы, когда он писал свои первые произведения, прежде всего направленную “против позитивистов” работу Кризис западной философии, он еще не был в состоянии оценить оригинальность и величие учения французского позитивизма.
По мнению Соловьева, большой заслугой Конта является то, что Вечное Человечество не остается для него абстрактным “понятием” абстрактной Идеей, а предстает как живое Великое Существо (“Великое Существо не есть олицетворенный принцип, а Принципиальное лицо, или Лицо-Принцип, не олицетворенная идея, а Лицо-Идея”[131]). Дело в том, что истинным человечеством для французского философа является не человечество в его естественном виде, переживающее распыление, смену поколений, умирание, а человечество в идеальном смысле, в том состоянии “единения”, “нераздельности” которое для Соловьева означает “воскресение” Было немало философов, которые приближались к этой идее, пишет Соловьев о французском мыслителе-провид-це. Идею Вечного Человечества Конта Соловьев воспринимает в духе собственной концепции христианства как религии “Богочеловеческой”, а также в духе федоровской концепции “воскрешения мертвых” Различие между Соловьевым и Контом заключается, в частности, в том, что Конт большее значение придает умершим, а не живым, ибо именно умершие у него являются “примерами”, “образцами” для живых, их духовными “пастырями” “руководителями” и именно с их помощью и на основе собственных “внутренних органов” Великое Существо ведет отдельных людей к идеальной Цели и действует в универсальной истории.

