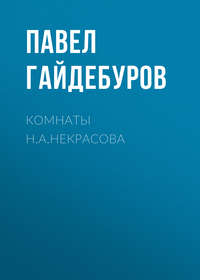полная версия
полная версияВнутреннее обозрение
Без сомнения, дело это будет в скором времени выяснено во всех подробностях судом. Кто окажется в нем наиболее виновным, князь ли Урусов или г. Арсеньев по вопросу о личных столкновениях и о поведении их относительно друг друга – об этом мы узнаем в скором времени положительно. Что же касается того, что г. Арсеньев дозволил себе продолжать заседание по удалении защитника, то в официальном органе министерства юстиции уже появилась статья, доказывающая, что действия председателя в этом отношении были совершенно неправильны. «Удаление защитника, говорит газета министерства, должно необходимо иметь последствием приостановку заседания, но определению о том суда. Исключение может составить только один случай, именно, когда подсудимый тут же, на суде, заявит желание защищаться лично, без защитника. Одновременно с приостановкою заседания, вследствие удаления защитника, в большей части случаев, должны последовать и распоряжения председателя о назначении нового защитится. Затем, в этих случаях присутствие присяжных заседателей должно быть распущено по домам так как вновь назначенному защитнику должно быть предоставлено достаточно времени для изучения дела и приготовления к защите. При возобновлении дела, следовательно, должно быть составлено новое присутствие присяжных и возобновлено с самого начала судебное следствие.»
Как видно, удаление кн. Урусова из залы заседания не есть единственный пример удаления защитников. «Московские Ведомости» вспоминают по этому поводу еще один подобного же рода пример, бывший в Москве месяца полтора назад. Производилось дело о пожарном служителе, обвинявшемся в укрывательстве краденой на пожаре лампадки. Судебное следствие и прения были уже окончены; стороны приступили к препирательству о постановке вопросов. В это время возник, но словам «Московских Ведомостей,» запальчивый разговор между председавшим (г. Донор) и защитником (г. росенберг). Защитник просил включить в число вопросов новый, который потом и был принят судом. В подтверждение своей просьбы, защитник сказал, что на содержании этого вопроса была основана вся сила защиты. Возражая ему, председатель спросил защитника, чем же он доказал в своей речи это основание. В этих словах заключалось суждение, которое могло подействовать на присяжных, а потому председатель, по роли своей на суде, не должен был его высказывать. Защитник счел нужным просить о занесении слов председателя в протокол; но так как эта просьба последовала уже по объявлении вопросов, то председатель, опираясь на это, решительно отказал в просьбе защитника. Этот ответ председателя – защитник снова просил занести в протокол, ссылаясь на статью закона, дающую право защитнику делать замечания о всяком действии на суде. Но тогда председатель приказал судебному приставу предложить защитнику, не угодно ли ему будет оставить зало заседания; защитник, конечно, не мог не повиноваться распоряжению председателя и немедленно вышел из залы; но вслед за тем немедленно подал в сенат просьбу на председателя за превышение власти.
Другое дело, также обращающее на себя внимание, производилось около двух недель назад в с. – петербургском окружном суде; это – дело об оскорблении купца Малькова г. Аскоченским, редактором издателем «Домашней Беседы.» Кто хоть сколько-нибудь знаком с этим журналом, тот знает, каких приемов держалась и держится постоянно его редакция. Эти приемы – обличительно-полемические, при чем г. Аскоченский не скупите» на выражения с целью заявить свою несомненную благонамеренность на ряду с неблагонамеренностью его противника. Так случилось и с г. Мальковым.
В 31-м выпуске «Домашней Беседы» за настоящий год напечатана статья под заглавием: «Заявление алтайских миссионеров к покровителям и членам ревнителям миссионерского общества.» В этой статье взводится обвинение на Совет Общества за то, что он, будучи извещен о неблагонадежности г. Малькова, не обратил на это заявление никакого внимания, но еще оскорбился на начальника миссии. «Перед лицом всех вас, пишут приславшие заявление три иеромонаха, пять священников и один дьякон, заявляем, что Мальков действительно человек неблагонадежный, недобросовестный, и что его пребывание в миссии вредно для миссионерского дела.» К этим словам г. Аскоченский, но обыкновению, делает свое собственное примечание следующего рода: «Мы имеем множество поразительных фактов, указывающих крайнюю недобросовестность этого прошлеца Малькова, лично нам известного с 1861 года. В случае надобности мы их опубликуем. А между тем этому Малькову совет назначает на путевые издержки от Томска до Петербурга 182 рубля и ему же в счет перерасходованных будто бы на нужды удалинской общины 291 р. 75 кои.» Далее, в заявлении иеромонахов, священников и дьякона говорится: «секретарь общества, за обнаружение правды о Малькове, грозил начальнику миссии судом, сменою и заключением в монастырь.» Здесь опять г. Аскоченский прибавляет от себя следующие слова: «Каково?! секретарь позволяет себе угрожать архимандриту! Храбрый, должно быть, человек!»
Г. Аскоченский, начиная оправдываться после нескольких слов, сказанных в свою защиту г. Мальковым, прежде всего заявил, что журнал его издается под предварительною цензурою, которая ничему предосудительному не дает появиться в печати; поэтому он убежден, что суд не станет входить в обсуждение существа дела. Тем не менее он начал подробно излагать те основания, которые, по сто мнению, давали ему полное право как напечатать письмо трех иеромонахов, пяти священников и одного дьякона, так и высказать свое личное мнение о г. Малькове. «В течении десятилетней моей практики на журнальном поприще, заключил г. Аскоченский, я всегда держался строго-православной, русской религии, чистого русского духа и писал то, что соответствовало совести.»
Однакож, в глазах суда эти заслуги не показались на столько великими, чтобы давать право г. Аскоченскому публично оскорблять человека. Суд признал г. Аскоченского виновным в оскорблении Малькова печатно, выражениями: «прошлец,» «недобросовестный» и т. п., и потому приговорил: подвергнуть его, Аскоченского, двухнедельному домашнему аресту и штрафу в размере двадцати-пяти рублей.
Мы предаем важное значение этому делу и думаем, что оно будет иметь не малое влияние на облагорожение наших литературных обычаев. В последние три-четыре года инсинуация была хроническим недугом нашей журналистики. Под покровом собственной благонамеренности, редакторы некоторых газет и журналов позволяли себе такие выходки против ненравящихся им лиц, что ставили их в совершенно-безвыходное положение, лишая даже возможности оправдываться. Гласный суд, конечно, положит конец подобным приемам, начало чего мы и видим в деле г. Аскоченского.
* * *Третье дело производилось в Сенате: о взыскании бывшим содержателем Екатерингофского вокзала убытков с петербургского обер-полицмейстера, понесенных им вследствие неправильного распоряжения генерал-лейтенанта Трепова. Это уже не первое дело в нашей судебной практике по взысканию частными лицами убытков с начальствующих лиц. Первым было дело обратившее на себя всеобщее внимание, по жалобе содержателя типографии Куколь-Яснопольского с генерал-майора Чебыкина, бывшего старшим инспектором типографий, литографий и книжной торговли. Г. Чебыкин нанес г. Куколь-Яснопольскому убытки тем, что явившись в его типографию для проверки количества находящегося в ней шрифта, смешал большую его часть, отчего и сделал ее негодною к дальнейшему употреблению. Г. Куколь-Яснонольский начал иск, обратившись в Судебную Палату, в которой на этот случай составилось особое присутствие из местного губернатора, двух членов судебной палаты, председателя казенной палаты и управляющего палатою государственных имуществ и г. обер-полицмейстера, как ближайшего начальника ответчика. Хотя прокурор судебной палаты дал заключение в пользу Куколь-Яснопольского, но Палата все-таки отказала ему в иске. Тогда он обратился с жалобою в Сенат, который и решил дело в его пользу, присудив г. Чебыкина к уплате определенного количества убытков. Нам неизвестно, когда именно начал свой иск г. Петров, бывший содержатель Екатерингофского вокзала; но думаем, что его побудил начинать дело успех г. Куколь-Яснопольского. Между тем в этих делах нет ничего общего, так что из проигрыша дела г. Петровым вовсе нельзя заключать о трудности начинать дела против административных лиц, если действия их действительно сопровождались «нерадением, неосмотрительностью или медленностию,» как сказано в 1376 ст. Устава гражд. судопроизводства.
Сущность жалобы г. Петрова заключается с следующем: генерал-лейтенант Трепов запретил производить в Екатерингофском воксале трактирную торговлю после 12 часов ночи, а также иметь музыку и разного рода увеселения. Между тем по контракту, заключенному Петровым с петербургскою распорядительною думою, ему предоставлено было право производить торговлю в Екатерингофском вокзале во всякое время, и независимо от того иметь музыку, давать танцевальные вечера, маскарады и увеселения всякого рода. Вследствие упомянутого распоряжения г. обер-полицмейстера, г. Петров обратился в Распорядительную Думу с просьбою о восстановлении предоставленного ему права. Дума обратилась к обер-полицмейстеру, но ходатайство её осталось без всякого результата, так как генерал-лейтенант Трепов, объяснил; что его распоряжение о превращении в Екатерингофском вокзале торговли после 12 часов и проч. основано на Высочайшем повелении от 14 июля 1866 года, которым производство торговли в трактирах, а также содержание музыки и увеселений всякого рода ограничено было для всех трактирных заведений. Действительно, вместе с этим, высшему полицейскому начальству предоставлено право делать исключение для содержателей более благонадежных; но это уже зависит от личного усмотрения обер-полицмейстера, в применении которого он не обязан руководствоваться какими-нибудь правилами. Полицейская власть, на основании Высочайшего повеления, предписала екатерингофскому вокзалу закрываться в 12 часов; затем г. обер-полицеймейстер имел в виду данные относительно неблагонадежности г. Петрова и не сделал, на основании предоставленного ему права, исключения из общего правила в пользу г. Петрова. Таким образом, действия высшей полицейской власти представляются в настоящем случае основанными на букве закона, избавляющего ее от всякой ответственности. Конечно, г. Петров понес убытки, но за них он не мог претендовать на г. обер-полицеймейстера. Контракт его, заключенный с петербургской думой, должен считаться нарушенным, но опять не вследствие распоряжения со стороны полицейской власти. Естественно, что сенат в иске г. Петрову отказал, возложив на него и судебные издержки по настоящему делу.
Но повторяем, неудача г. Петрова не может служить доказательством трудности взыскивать с административных властей убытки, в тех случаях, когда эти убытки произошли действительно по вине администрации. Дело г. Куколь-Яснопольского служит лучшим тому доказательством.