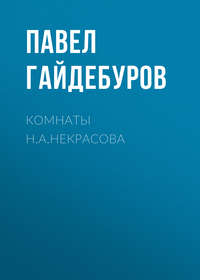полная версия
полная версияВнутреннее обозрение

Павел Гайдебуров
Внутреннее обозрение
Очерк направлений общества и журналистики за последнее десятилетие. – Направление либеральное, и причины его недолговечности. – Направление реакционное. – Причины его породившие. – «Северная Почта» о прибалтийском крае, протесты против г. Аксакова и протест г. Стебницкого как признаки ослабления реакции. – Попытки взглянуть беспристрастно на дела западного края. – Каково будет наступающее направление русского общества. – По поводу отчета «магазина женских изделий.» – Как мы смотрим на «женский вопрос.» – Из судебной хроники: столкновение в московском окружном суде между председателем Арсеньевым и кн. Урусовым. – Дело об оскорблении г. Аскоченским купца Малькова. – Дело о взыскании г. Петровым убытков с петербургского обер-полицмейстера, генерал-лейтенанта Трепова.
Положение общественного деятеля в России едва-ли не одно из самых невыгодных. Производство какой бы то ни было работы, занятие каким бы то ни было промыслом естественно предполагают в работнике знание потребностей той среды, которой он предлагает результаты своих трудов. Но подобного знания не существует у общественного деятеля в России. Ему постоянно приходится сталкиваться с такими противоречащими друг другу явлениями, представляемыми нашею общественною жизнью, которые необходимо должны поставить его в тупик и окончательно сбить с толку, при чем естественно никакого дельного знания выработаться не может. Все это подтверждается явлениями нашей периодической печати и господствующими в ней так называемыми «направлениями.» Мы, конечно, не будем говорить о газете «Весть,» которая одна из всех существующих у нас органов печати может чистосердечно сказать, что знает стих читателей, следовательно и свое «общество.» Но эта газета представляет явление совершенно исключительное: действуя в пользу одного только сословия, да и то не во всем его объеме, она могла бы иметь действительно серьезное значение в таком только случае, еслиб в нашей журналистике существовали органы противоположного ей и строго определенною направления. К сожалению, этого нет, так что газета «Весть» представляет из себя явление совершенно уединенное, исключительное, не имеющее прочной связи ни с последними реформами, ни с характером всей нашей журналистики. Сойди она завтра же со сцены – и никто не заметит её отсутствия, кроме лиц, особенно горячо ей преданных. Теперь взгляните на остальные наши журналы и газеты, не имеющие сословного характера; в чем смысл и цель их существования? Мы видим, что некоторые из них идут постоянно ощупью, наудачу и нередко меняют однажды принятое направление на совершенно ему противоположное; другие сочинят себе какую-нибудь задачу, не имеющую в действительности никакой основы, и начинают упорно ее преследовать, стараясь уверить и себя, и своих читателей, что задача эта взята прямо из жизни; третьи полагают, что единственное достоинство печатного органа заключается в честности его деятелей, забывая при этом, что честность вовсе не условливает собою понимания действительных общественных потребностей, и что результаты одного и того же дела, совершенного людьми одинаковой честности, но не одинакового развития, могут быть совершенно различны; четвертые избирают своим направлением какие-нибудь общие, отвлеченные принципы, не укладывающиеся в определенные формы и т. д. Подобные явления происходят, разумеется, оттого, что в самом обществе трудно уловить какие-нибудь определенные направления, потому что трудно предположить, чтобы наши печатные органы намеренно игнорировали общественные потребности; нет, тут одно из двух, или этих потребностей вовсе не существует, или же они до такой степени неясны, что наша печать их не может подметить. Эта неопределенность всего лучше выразилась в объявлениях о некоторых новых периодических изданиях, предпринимаемых с будущего года. С какою целью намерены они увеличить собою число наличных органов печати? замечают ли они какой-нибудь пробел в нашей журналистике? Сознают ли, что наше общество нуждается в таких изданиях, каких до сих пор не существовало? Ничего этого не видно; напротив, новые издания сомневаются в своем успехе, и потому стараются привлечь на свою сторону подписчиков совершенно посторонними средствами. Мы остановимся несколько на этих средствах, потому что хотя они чисто-фельетонного свойства, однако же довольно резко характеры чуют состояние современной русской печати.
В Москве с декабря месяца начала выходить новая газета. Не говоря ни слова о том направлении, какого она намерена держаться, и не объясняя причин своего появления на свет, новая редакция обращает внимание будущих своих подписчиков на следующие свои особенности: во-первых, за исключением пяти или шести дней в году, газета будет выходить ежедневно; во-вторых, год считается с января, но подписавшиеся ранее этого месяца получают нумера за декабрь нынешнего года бесплатно, начиная с того числа, в которое принята будет подписка; в-третьих, при конторе газеты основывается книжная торговля, распорядители которой, по условию заключенному с редакцией, обязаны исполнять все требования по выписке книг точно и добросовестно. – В Петербурге явятся два новых еженедельных издания; одно из них сопровождается «совершенно независимым» к газете приложением «Художественный Листок,» на который, однако ж, подписка отдельно не принимается; другое, заявляя о себе, говорит, что для желающих представляется возможность получать эту газету бесплатно; стоит только выписать через посредство такого-то книгопродавца книг на 30 р. – и газета будет высылаться даром. Приведенные нами три примера ясно показывают? что вновь возникающие издания не надеются на свои силы, что они являются вовсе не для удовлетворения какой-либо общественной потребности, а совершенно случайно; поэтому они и стараются обставить свое появление таким образом, чтоб хоть искусственными путями обратить на себя внимание публики. Это, повторяем, доказывает или то, что в настоящее время никаких общественных потребностей не существует, или то, что их не знают наши литературные деятели.
Если мы обратимся к тем мнениям о нашем обществе, какие высказываются почти в одно и тоже время различными органами журналистики, то увидим поразительную смесь самых несоединимых противоположностей: одни находят, что наше общество, в делом своем составе, в высшей степени консервативно; другие, напротив, утверждают, что оно ясно выказывает постоянное стремление подвигаться вперед, но что ему только не достает необходимой инициативы; одни радуются тому, что общество в последнее время стало интересоваться всем, что в среде его совершается; другие, напротив, скорбят о том равнодушии к собственным нуждам, каким отличается русское общество и т. д. Подобного рода противоположные одно другому мнения приходится слышать постоянно, и каждое из них подкрепляется большим или меньшим количеством фактов, взятых непосредственно из жизни. И каждое из этих мнений оказывается более или менее справедливым. Словом, кто чего захочет искать в нашем обществе, тот то и находит.
А между тем было время, когда наша общественная жизнь представляла такие явления, которые действительно имели вполне общественный характер. Все мы знаем, например, что несколько лет назад, когда журналистика серьезно заговорила о важности народного образования, общество приняло самое живое участие в деле народных школ; когда зашла речь о необходимости разумного образования для женщин, то скоро не осталось почти ни одного губернского города, в котором не было бы женской гимназии; открытие, например, «Общества для пособия нуждающимся литераторам» сопровождалось такими многочисленными заявлениями сочувствия к литературе неё деятелям, пожертвования сыпались в таком количестве, что этому движению нельзя было не придать характера вполне общественного; журналистика пользовалась таким всеобщим и сознательным уважением, что его никак нельзя было считать чем-то случайным, скоропреходящим; всякая публичная ложь и инсинуация порицались с таким откровенным негодованием, которое невозможно было заподозрить в неискренности или придать ему совершенно исключительный, частный характер. Словом, общество русское представляло тогда резко очерченную физиономию, насчет характера которой не могло существовать двух мнений. Приютом оно представлялось активной массой, которая не сама подчинялась всякому встречному, но подчиняла себе других.
Прошло пять-шесть лет, – и картина совершенно изменилась. Прежняя добродетель начала считаться чуть не пороком; то, что прежде подвергалось единодушному порицанию, начинает снова выступать на сцену и авторитетно провозглашать свои сомнительные доблести; молчавшие прежде органы печати заговорили, говорившие прежде – замолчали. Все стало делаться как-то на выворот, отрицая и порицая недавно минувшее; настала пора – не утомления (это бы еще ничего, это бы свидетельствовало, по крайней мере, о живучести общественного организма), а пора озлобленной ломки того, что еще недавно было насаждено и не успело дать никаких видимых результатов. В обществе началась крутая и суровая реакция, в подробности которой входить еще слишком рано. Но подобное превращение, совершившееся в такое короткое время, невольно вызывает всякого на размышление: что же это такое? где же настоящие, действительные симпатии нашего общества? увлекалось-ли оно тогда, пять-шесть лет назад, или увлекается теперь? Теперь или тогда было оно более похожим на самого себя?
Припоминая общий характер конца пятидесятых годов, нельзя не обратить внимания на то, что эти годы предшествовали манифесту 19 февраля, положившему начало великой социальной реформе в нашем отечестве. Общество было совершенно не подготовлено к тому, что его в скором времени ожидало. Дело подготовления взяла на себя наша периодическая печать, в лице лучших её представителей. Правительство ясно сознавало, что направление тогдашней журналистики совершенно совпадало с его ближайшими видами, и потому не препятствовало довольно свободно проявляться этому направлению. Таким образом, оно несло в себе двоякого рода силу: силу таланта и мысли литературных деятелей и силу отрицательного покровительства со стороны высших властей; отсюда – сила того влияния, какое оно имело с одной стороны на молодое поколение, с другой – на всю массу читающего общества. Нетрудно понять, каким образом действо пало это направление на публику; нельзя сказать, чтобы она ясно понимала все то, о чем говорила журналистика, потому что последняя стояла во всяком случае несравненно выше первой; но если публика не могла основательно ознакомиться с частностями нового направления, за то вполне усвоила себе общий его характер; публика чувствовала, что готовится нечто новое, до тех пор невиданное и неслыханное, что печать усваивает себе тон самостоятельный, самоуверенный – и мало помалу начала бессознательно подчиняться этой силе, имевшей основание в той реформе, которая со дня на день ожидала своего осуществления в жизни; это новое направление действительно имело в себе что-то деспотически-обаятельное для всякого; но это был деспотизм нравственной силы, которая глубоко действует только на людей свежих, неиспорченных, какими и была действительно молодая часть нашего читающего общества.
Теперь естественно представляется следующий вопрос: почему же результаты этого направления, так гармонировавшего с правительственными реформами, не успели проявиться вполне, а как-то заглохли и исчезли большею частью бесследно? Положим, та часть общества, которую крестьянская реформа застала уже в немолодых летах, могла впоследствии одуматься от своего временного увлечения и пойти по прежней дороге; но что же сталось с более молодою частью, которая, конечно, принимала ближе к сердцу тогдашнее направление и живее ему сочувствовала? Что она сделала в эти пять-шесть лет, по прошествии которых она естественно стала более прочно в обществе? Отвечая на этот вопрос, мы по необходимости должны заметить, что направление, о котором мы говорим, имело довольно значительные недостатки, неразлучные, впрочем, с того ролью, которую ему приходилось играть в обществе: оно только развивало читателей давая им при этом слишком мало знаний, и предполагало эти знания существующими, когда их на самом деле вовсе не существовало. Поэтому многие смотрели на новое направление слишком неправильно, относились к нему слишком легко, наивно предполагая, что все его отличие от прежних заключается в одной внешней стороне, что стоит только сказать: «я последователь такого-то направления,» чтоб быть действительным его последователем, Подобные взгляды и произвели то, что в суждениях таких последователей явилась поверхностность, которая впоследствии не могла устоять перед напором противоположных воззрений, подкрепленных более основательным знанием фактов жизни.
Крестьянская реформа совершилась. Напряженное состояние общества было удовлетворено чтением манифеста 19 февраля 1861 года. Многие, и даже большая часть людей, сочувствовавших новому направлению, решили, что дело выиграно. Началось практическое осуществление начал, провозглашенных манифестом 19 февраля. Открылась деятельность мировых посредников, их съездов и губернских по крестьянским делам присутствий; пошли разверстания угодий, уставные грамоты, добровольное и обязательное соглашения. Спрашиваем теперь, кто из лиц, так горячо сочувствовавших крестьянской реформе, знаком хотя сколько-нибудь с «Положением о крестьянах» – кто, кроме, разумеется, мировых посредников, да некоторого числа помещиков? Кто, кроме этих же самых лиц, следил за тем, как осуществлялся в жизни манифест 19 февраля? Кто может ответить на наш вопрос, в каком положении находится крестьянское дело в настоящую минуту? Кто ответит нам, если мы спросим, почему «Положение о крестьянах» в одних местах применялось более или менее успешно, чем в других; в чем заключались причины тех многочисленных столкновений между помещиками, крестьянами и мировыми посредниками, о которых в свое время заявлялось иногда в газетах? Смело утверждаем, что никто. Кроме мировых посредников и некоторого числа помещиков, вряд-ли можно насчитать сотню или две людей в целой России, которые имели бы ясное понятие о положении этого громадного и важнейшего для нас вопроса. Понятно, таким образом, что из этого следует то, что люди, так горячо сочувствовавшие крестьянской реформе, или сочувствовали ей только на словах, по моде, или же ожидали от неё сразу таких блестящих результатов, что их постигло разочарование, когда они увидели, что результаты не могли соответствовать их ожиданиям. На разочарованием естественно последовало охлаждение к делу.
С это же время началось охлаждение общества и к литературе, которая в предшествующие годы приобрела такой громадный авторитет. Литература на первых порах пробовала перенести вопрос из области чувства в область знания и начала следить довольно подробно за тем, как применялась крестьянская реформа к жизни. Это показалось публике слишком скучным, неинтересным – и она отвернулась от журналистики. Крестьянский вопрос был уже пережит чувством, без посредства знания, возвращаться к которому теперь уже было несвоевременно.
Как естественное продолжение крестьянской реформы явились земские учреждения. Открытие земских собраний и управ хотя и сопровождалось постоянно горячими благожеланиями со стороны печати, но публике уже и они казались мало интересными. Правда, много способствовало то обстоятельство, что земские учреждения вводились во время польского восстания, которое обращало на себя внимание всего общества. Тем не менее на первых порах публика стала довольно усердно посещать собрания гласных: но узнав, что они толкуют о раскладках податей, о починке дорог и мостов, изредка о школах, словом о предметах мало интересных, перестала ими заниматься. Это равнодушие, увеличиваясь все больше и больше, дошло, наконец, до того, что в скором времени проникло даже в среду самих гласных, многие из которых стали смотреть на земские учреждения как на вещь, нестоящую особенного внимания. Их поддерживало пока еще то, что журналистика принимала довольно заметное участие в деятельности земских собрании, печатая подробные отчеты о заседаниях, речи гласных, отчеты о прениях, протоколы заседаний и т. п. Когда же издано было Высочайшее повеление о том, что протоколы земских собрании могут появляться в печати только с утверждения местных губернских начальств – равнодушие гласных к принятой на себя обязанности дошло до крайних пределов. В последнее время в газетах часто стали появляться известия подобного рода. Например, в Ананьеве было открыто 13 сентября уездное собрание. В первое заседание из 38 гласных явилось только 15, так что председатель управы принужден быль гласно заявить о равнодушии земских деятелей к общественному делу. Во избежание подобных случаев на будущее время, собрание нашло себя вынужденным постановить следующее: «сделать для гг. гласных обязательным, чтоб те из них, которые почему-нибудь не могут явиться в собрание, извещали управу за месяц до дня, назначенного для открытия собрания. Управа, получив эти заявления, если найдется их столько, что не может состояться собрание, приглашает кандидатов, а заявления представляет в собрание, в первый день его открытия. Допущенных к заседанию кандидатов на место гласных, причина неявки которых будет признана неуважительною, предполагается оставлять гласными до окончания выборного срока». 28 сентября назначено было открытие самарского земского собрания; но в этот день открытие не могло состояться за неприбытием в заседание и одной трети всех гласных, числящихся по спискам. «Стали ждать их, говорит корреспондент Голоса, по безуспешно: более тринадцати человек не явилось. Поэтому председатель объявил, что открытие собрания откладывается до 29 сентября. На следующий день явились другие личности из гласных, но за то не пришли некоторые из тех, которые были вчерашний день – и опять не состоялось законного числа членов, и опять собрание было распущено до завтра. Но в этот же день приняты меры к тому, чтоб и в третий раз не разочароваться. Члены уездной земской управы, ближайше заинтересованные в деле, принялись хлопотать о составлении надлежащего комплекта членов к открытию собрания для того, чтоб приготовленные ими дела не оставались до чрезвычайного или до следующего очередного собрания; один из них лично поехал приглашать гласных от города и некоторых от крупных землевладельцев. Наконец, 30 сентября гласные явились в числе 22 (полный комплект 59, следовательно едва дотянули до требуемого законом числа гласных) и открытие, наконец, совершилось. 1-го ноября открылись заседания херсонского губернского земского собрания. «С.-Петербургские Ведомости» говорят, что херсонские гласные съезжались несколько раз и прежде 1 числа, но собрание не могло состояться по недостаточному числу наличных гласных. Таким образом мы видим, что равнодушие и небрежность гласных в исполнении принятых на себя обязанностей есть явление далеко не случайное, и повторяется во многих местах в одной и той же форме. Что касается херсонского земства, то оно так озабочено этим печальным явлением, что назначило особую комиссию «для обсуждения вопроса о причинах, имеющих влияние на отсутствие значительного числа гласных». Между тем роль земских учреждений, по крайней мере, в народном хозяйстве, чрезвычайно велика, и потому равнодушие к ним не только общества, но даже самих гласных, будет, конечно, иметь очень плачевные последствия для общества.
Таким образом, от усиленной деятельности, от мгновенного оживления общество мало по малу стало переходить к полному равнодушию. Но тут произошло польское восстание, которое снова оживило массу, по уже в противоположном смысле. Журналистика, на этот раз уже в лице «Московских Ведомостей», снова приобрела необыкновенное влияние на общество; многие буквально повторили тирады, целиком выхваченные из передовых статей гг. Каткова и Леонтьева; люди противоположного образа мыслей сочли за лучшее совсем замолчать – и, разумеется, прекрасно сделали, потому что их никто не стал бы слушать, как не слушали «Московских Ведомостей» несколько лет перед тем. Началось всеобщее гонение против всего, что было утверждено предшествующим временем; общество усиленно искало в своей среде тех врагов, которых указывали ему «Московские Ведомости» и, разумеется, находило их без особенного труда. Едва только начало успокоиваться это неестественно-сильное движение – произошло событие 4 апреля, давшее новый поводе московской прессе забить всеобщую тревогу. Подозрительность общества росла с часу на час, проявляясь в самых разнообразных формах, достигая самых неестественных размеров. Молодые люди, не в чем неповинные, целыми десятками бросали службу в провинции и уезжали спасаться в Петербург, предпочитая бедную столичную жизнь обеспеченной жизни в провинции, где спокойное существование становилось невозможным, и где на них открыто указывали пальцами.
Было ли в этом движении что-нибудь неестественное? Что касается до нас, то мы его считаем вполне естественным, логично вытекающим из предшествовавших обстоятельств. Мы говорили выше, что движение конца пятидесятых и начала шестидесятых годов было совершенно исключительное, вызванное особыми условиями; притом же это движение происходило во имя отвлеченных начал, провозглашенных манифестом 19 февраля, которые казались привлекательными в своем общем, принципном виде, но которые показались обществу скучными в применении к жизни. Ясно, что такое настроение, долго продолжаться не могло; слишком быстрое движение общества в одну сторону – движение, не основанное на глубоком знании жизни – должно было замениться таким же сильным движением в сторону противоположную; как то, так и другое было основано на чувстве, на увлечении, как в том, так и в другом было много крайностей, как то, так и другое не могло продолжатся слишком долго, потому что не было основано на знании фактов. исчезло движение, возбужденное манифестом 19 февраля, по исчезло и движение, возбужденное польским восстанием и другими, современными ему, событиями. исчезли с поля журналистики литературные деятели того времени, но точно также исчезли (если не на самом деле, то по крайней мере потерею своею авторитета) и деятели 1863-66 годов. В самом деле, что такое теперь «Московские Ведомости?» они представляют самое печальное явление, невольно возбуждающее чувство сострадания, не больше. они по необходимости выдохлись и потеряли все свое влияние. они даже не находят предметов для бесед с читателями и обращают преимущественно внимание на иностранную политику, иногда очень неловко связывая ее с русской. Правда, осталась газета «Весть», но она, как мы сказали выше, имеет особенный круг читателей, представляя собою интересы исключительно крупных землевладельцев; в обществе же она не имеет ровно никакого влияния.
Таким образом, мы дошли мало-помалу до полного обезличения. По крайней мере, из литературных деятелей никто не может по совести сказать, с какого рода публикой, с какого рода убеждениями приходится ему теперь иметь дело. Все идут ощупью, стараясь обратить на себя внимание какими-нибудь особенно резко бросающимися в глаза выходками, преимущественно так называемого «патриотическаго» свойства. Патриотизм стал любимой темой некоторых наших публицистов, и начал, наконец, заходить так далеко, что даже правительство нашлось вынужденным вмешаться в дело. Когда был кончен польский вопрос и притуплены перья по поводу различных способов обрусения западного края, газеты обратили свое внимание на при-балтийских немцев. Доказывалось, что немцы в этом крае должны быть сделаны безусловно русскими, причем пускались в ход самые неприличные приемы. Особенно отличались на этом поприще «Москва», «Московские Ведомости» и «Голос». Прикрываясь идеей народности и желанием защищать русские интересы, эти газеты начали, но словам официальной статьи органа министерства внутренних дел, «возбуждать неосновательные подозрения и распространять неосновательные нарекания». По поводу этих нареканий правительство принуждено было заявить, что оно не относится с пренебрежением к тому, что дорого для той или другой части населения по историческим условиям и формам его гражданского и общественного образования, что оно, не стремится к принудительному сглаживанию всех оттенков и не имеет в виду безразличного уничтожения всех особенностей края, и т. п. «Возбуждение племенной неприязни, заключает орган министерства внутренних дел, систематическое порицание завещанных временем и временем освященных особенностей, упорное заявление подозрений и недоверия, и всякое усилие восстановить один класс общества против другого или одну част населения против другой, прямо противоречат коренным началам государственного единства. Вредные последствия подобного направления несомненны. Оно предусмотрено и возбранено законом 6 апреля 1865 года, и правительство исполнит лежащую на нем обязанность применения и охранения силы этого закона». Таким образом наши публицисты должны теперь понять, что они зашли слишком далеко, и что литературные приемы, терпимые во времена исключительные, совсем непригодны для настоящего времени, когда для государства и народа никакой и ни откуда опасности не предвидится. Но что же им теперь делать и чем заниматься? Это вопрос, на который пускай отвечают они сами. Вероятнее всего, что они начнут прилагать свои любимые приемы к отдельным, частным личностям, как это сделал недавно г. Аксаков, редактор газеты «Москва». Впрочем, это факт на столько интересный, что о нем стоит поговорить подробнее.