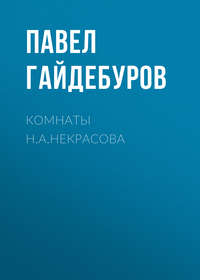полная версия
полная версияВнутреннее обозрение
Дело происходило следующим образом: профессор харьковского университета Каченовский, занимающий кафедру международного права, читая однажды лекцию, коснулся в ней славянского съезда В Москве. Высказывая свой взгляд на характер и значение этого съезда, профессор заметил, между прочим, что славянофилы придали этому съезду характер политический, что на этом съезде бы.ю. выражено довольно ясное желание прибрать славян к рукам и прорывалось стремление к гегемонии над славянством и т. п. Какой-то услужливый корреспондент, сообщая в редакцию «Москвы» об этой лекции, совершенно извратил слова профессора, уверяя, будто он в таких выражениях передал свое мнение о славянском съезде: «Это искусственное подогревание – дело шайки славистов, вызвавших для чего-то и каких-то славян на чужия деньги», и проч. Г. Аксаков, как видно, на столько обиделся названием сочувственных ему людей «шайкой славистов», что не только счел себя вправе напечатать в своей газете ничем не проверенное известие о лекции университетского профессора, по даже прицепил к нему свое собственное замечание; «конечно, прибавляет г. Аксаков, каждому вольно говорить и думать, что ему угодно; но мы полагаем, что человеку с таким образом мыслей и с такою его наклонностью пропагандировать – место не на кафедре русского университета, а в редакции венской газеты Neue freie Presse, или Dzieimik Poznanski или мадьярской газеты Hirnok, или же какого либо официального органа правительства его величества падишаха. Хороша должна быть и публика, заключает г. Аксаков, этого университетского города: наполняя аудиторию в числе трехсот человек, она спокойно допустила такое публичное оскорбление нашим бывшим гостям, такое наглое осмеяние самых святых и чистых братских чувств, связывающих с Россией единоверные и единоплеменные ей народы». Прочитавши этот отзыв в газете г. Аксакова, мы не обратили на него ровно никакого внимания, потому что он нисколько не показался нам выходящим из ряду как обыкновенных привычек г. Аксакова, так и общих обычаев, которых держалась в последние три-четыре года русская периодическая печать. В самом деле, что же в нем особенного? Человек, высказавший с кафедры мнение, несогласное с мнением господствующей в литературе партии, обзывается государственным изменником. Да разве это первый случай в подобном роде? Разве не обвинялись тою же газетой гг. Кулиш и Костомаров в государственных преступлениях за свои личные мнения? Разве не преследовала она подобными же обвинениями тех гласных в земских собраниях, которые не соглашались предоставить народное образование исключительно в руки духовенства? Разве трудно найдти чуть не в каждом её нумере хоть по одному факту в подобном роде? И однако ж, все эти факты проходили бесследно, а из отзыва г. Аксакова о профессоре Каченовском сделали целую историю. В «С.-Петербургских Ведомостях» появилось сразу два протеста против выходки г. Аксакова; протесты эти были присланы из Харькова; к ним присоединилась и сама редакция «С.-Петербургских Ведомостей», предпославшая этим протестам особую передовую статью; наконец, харьковские студенты уполномочили одного из своих товарищей послать протест и к г. Аксакову, который и напечатал его в своей газете, вслед за статьей, где он объявляет все эти протесты нелепыми, и где заявляет, что они нисколько не заставили его «раскаяться в своих словах и взять хоть одно из них назад». Такая последовательность, разумеется, весьма похвальна в г. Аксакове, и мы искренно желали бы, чтобы он оставался таким же и до конца дней своих. Мы уважаем последовательность, потому что при ней труднее заблуждаться и обманываться публике.
Но однако чем же можно объяснить появление протестов, о которых мы только-что говорили? Почему они не появлялись по поводу подобных же выходок в течение последних трех-четырех лет, и стали появляться теперь? Это можно объяснить только тем, что общество начинает приходить в несколько более нормальное положение, что ему надоели те постоянные и бесчисленные инсинуации, которыми отличалась русская печать последнего времени, что оно начинает снова чувствовать потребность общественной правды, отсутствием которой страдала русская журналистика последних лет. Это наше предположение подтверждается еще следующим случаем. Вероятно, многим известно о существовании господина Стебницкого. Это – писатель, отличавшийся некогда горячим сочувствием ко всему честному, как в литературе, так и в жизни. Не знаем, какие именно обстоятельства заставили его потом спуститься до написания романа «Некуда», наполненного личностями и имевшего целью бросить грязью в молодое поколение. В некоторых газетах появились тогда подробные разборы этого романа, а одна из газет особенно сильно нападала на г. Стебницкого, обвиняя его в инсинуациях. Г. Стебницкий величественно отмалчивался, будучи, вероятно, убежден, что подобные нападки вполне соответствовали его желаниям. Но вот прошло с тех пор около трех лет. Г. Стебницкий пишет драму «Расточитель», которую и ставит на сцену. В одной небольшой газетке, именно в «Петербургском Листке,» появилась по этому поводу заметка, в которой говорилось, между прочим, следующее: «г. Стебницкий давно уже знаком читающей публике эксцентричностью, чтобы не сказать более, своих воззрений. В былые времена он, не краснея, взваливал на известное общество столичных молодых людей небывалые вины и созидал инсинуации, лишенные и логики, и еще более дорогой черты – человеческого достоинства.» Казалось бы, что тут может быть особенно оскорбительного для г. Стебницкого? Ведь не протестовали же гг. Катков, Аксаков, Краевский, Скарятин и т. п., которых г. Стебницкий называет «уважаемыми редакторами,» не протестовали они против подобного же рода обвинении, сыпавшихся на их главы, а напротив, ставили их себе в заслугу; не протестовал, повторяем, и сам г. Стебницкий, когда в «С. Петербургских Ведомостях» печатались статьи по поводу его романа; а теперь вдруг он счел нужным протестовать. «Объявляю, говорит г. Стебницкий, что никогда не было таких былых времен, когда бы я взваливал на известное общество столичных молодых людей небывалые вины, а также нет человека в мире, который мог бы доказать, что я когда-нибудь созидал инсинуации, лишенные и логики, и еще более дорогой черты – человеческого достоинства. Вследствие того я имею полное право, которым и пользуюсь, назвать распространение такого ложного на мой счет слуха, легкомысленною, а может быть и злонамеренною ложью.» Желание г. Стебницкого восстановить свою литературную репутацию идет так далеко, что он просит перепечатать свой протест, появившийся в «Голосе,» в семи других газетах, забывая, вероятно, что заметка «Петербургского Листка» нигде не была перепечатана и что, следовательно, совершенно достаточно было поместить протест именно только в одной этой газете. Мы не знаем, на чем собственно основан этот протест. Имел ли в виду г. Стебницкий, печатая его, буквальные выражения «Петербургского Листка», то есть не нравится ли ему выражение известное общество столичных молодых людей, когда может быть, по мнению г. Стеблицкого. это общество вовсе неизвестно; считает ли он для себя обидным мнение, что его инсинуации были лишены логики, когда они казались г. Стебницкому совершенно логичными – это, повторяем, нам неизвестно. Во всяком случае невольно обращает на себя внимание тот факт, что г. Стебницкий счел нужным протестовать, оправдываться от таких обвинений, которые еще очень недавно вовсе не считались оскорбительными.
Многие, быть может, подумают, что мы увлекаемся, приписывая трем вышеприведенным фактам такое значение, какого они на самом деле не имеют. Действительно, более крупных фактов у нас в настоящее время еще нет; но мы все-таки полагаем что и приведенным нами нельзя не придавать некоторого значения. С одной стороны, псевдо-патриотизм некоторых наших органов печати, тяготевших над обществом в последнее время, дошел до громадных размеров, с другой – из среды самого общества являются попытки обуздать слишком забывшихся публицистов; наконец, один из этих публицистов начинает обижаться тем, чем он прежде гордился и публично отрекаться от своих заслуг в этом роде. Подобные факты невольно обращают на себя внимание. Впрочем, есть и некоторые другие признаки, но которым можно заключать, что влияние московской прессы, державшей русское общество в постоянном страхе, если не прошел, то заметно начинает проходить. Действительно, «Московские Ведомости» ясно сознают уже свое бессилие; они высказали все, что могли высказать; их ближайшие последователи в журналистике испытывают туже участь; петербургская газета «Весть» обращала сперва на себя всеобщее внимание теми конечными целями, к которым она, очевидно, стремилась, но которых не высказывала прямо; теперь и она договорилась до конца, заявив в разных нумерах последнего месяца, что по её глубокому убеждению «несостоятельность земских учреждений заключается преимущественно в их демократическом характере – характере, несоответствующем ни нравам, понятиям, и привычкам большинства русских, ни вообще русскому общественному и государственному строю;» что «дворянские собрания выражают действительное мнение русского земства гораздо ближе, чем земские собрания,» что в наших тюрьмах содержание арестантов должно быть ухудшено, потому что теперешняя арестантская пища, как она ни плоха, все-таки лучше крестьянской, вследствие чего тюрьма в глазах крестьянина теряет устрашающий характер; что телесное наказание есть наиболее действительное средство исправления русского мужика; что мировые судьи, разбирая дела между помещиками и крестьянами, всегда должны помнить, что чувство чести у тех и других развито весьма различно, и что если, например, образованный человек оскорбит действием необразованного, то к этому случаю нужно относиться снисходительнее, чем к тому, когда подобное столкновение произойдет наоборот. Все это уже высказано прямо, откровенно, наразные лады. Что же может еще сказать газета «Весть?» Очевидно, она по необходимости начнет повторяться, и лишится, вероятно, сочувствия даже многих из тех лиц, которые ей сочувствовали до последнего времени.
Потребность освободиться, наконец, из-под давления того гнета, который так долго тяготел над русскою жизнью и мыслью, чувствуется уже на столько сильно, что в газетах стали появляться статьи, пробующие взглянуть беспристрастно на дела западного края, – того самого края, о котором еще недавно не могли существовать двух мнений, без того, чтобы одно из них не было названо изменническим. Автор целого ряда «Виленских писем», печатающихся в «С. Петербурских Ведомостях», говоря о той мгле, которая покрывала до сих пор дела западного края, следующим образом объясняет причины, по которым невозможна была беспристрастная оценка тамошних дел: «наша журналистика, говорит он, вместо того, чтобы изучать этнографические оттенки разных местностей России, окрасила всю карту России двумя цветами, цветом благонадежности и благонамеренности и цветом неблагонадежности и измены. Любопытно взглянуть на эту карту. Вы ошибетесь, если вообразите, что обширные местности, обитаемые великорусским племенем, окрашены густым цветом благонадежности: самые густые, но крохотные пятна лежат только над Москвою, над половиной Вильни и Киева, над кусочком Петербурга, да едва заметными крапинками в других местностях. Иначе расположены цвета неблагонадежности и измены. Прежде всего неблагонадежен почти весь Петербург: в нем был жонд народовый, в нем служил Огризко, в нем живут полонофилы, в нем вечно парализуются меры, которых практическое применение испытано в Москве; потом неблагонадежен Харьков, где есть профессор, не восторгающийся Москвою, не может быть благонадежна и Казань, где университет что-то молчит и не заявляет о своей солидарности с московской журналистикой; не могут быть вполне благонадежными и другие университеты, начиная от московского и кончая киевским, ибо, если даже профессоры, как г. Погодин, выделяет себя из московской журнальной опеки, то можно ли быть уверенным в тех, которые не состоят сотрудниками московских редакторов; неблагонадежны больше чем на половину и другие города, особенно северные и южные; неблагонадежны все господа от А до Z, ибо они читают и другие газеты.» Все согласятся с нами, что подобным, хотя и весьма скромным образом, никто не решился бы изъясняться какой ни будь год назад. Только слишком сильная потребность высказаться и стать, наконец, на беспристрастную точку зрения, только ясно сознаваемая уверенность, что недавний гнет значительно ослабел, могла заставить виленского корреспондента петербургского издания взлянуть с этой стороны на положение дел в западном крае. А это уже много значит.
Действительно, давно ли мы были свидетелями того печального времени, когда ко всему, что говорилось или делалось, прикладывалась одна только мерка благонамеренности и измены. Если бы вы вздумали тогда самым спокойным тоном и с полным желанием добра своему народу высказывать мнения, несогласные с господствующими в московской прессе – вы сейчас же обзывались изменником или человеком, по меньшей мере, опасным. Вы самым искренним образом желали употребить свои средства на дело народного образования – в вас заподозревали вредные намерения; вы в видах облегчения своих неимущих крестьян отдавали им ненужную вам землю вас обзывали социалистом, коммунистом, агитатором; вы хотели взять школу из рук священника, не чувствующего в себе педагогических наклонностей – вы становились материалистом, посягающим на лучшие симпатии народа: вы высказывали мысль, что для южного населения России было бы полезно ввести первоначальное образование на местном наречии – в вас видели опасного сепаратиста; если вы, нуждаясь сами в средствах к жизни, хлопотали о том, чтоб жена наша получила возможность заработывать сколько ни будь денег своим трудом – в ней и в вас видели опасных нигилистов. Словом, не могли вы сделать ни одного движения, чем-нибудь выходящего из ряду, чтоб не обратить на себя внимание журнальные?» соглядатаев и не прослыть безнравственным или вредным человеком. Теперь, конечно, рано еще исчислять убытки, нанесенные подобным направлением нашему общественному развитию, нашему народному образованию и хозяйству. Цифра этих убытков – во всяком случае громадная – обнаружится лишь впоследствии, когда исчезнут даже признаки этого направления. Нам остается только желать, чтоб это время наступило как можно скорее, потому что единственно только оно может вывести нас из того запутанного положения, в каком «мы все теперь находимся.
Среди этих обстоятельств совершилось введение судебной реформы. Хотя она и не произвела на общество такого впечатления, какое могла бы произвести при других обстоятельствах, хотя на каждый беспристрастный приговор мировых судей, не обращавших внимания на звание истцов и ответчиков, указывали пальцами, а газета «Весть» чуть не прямо обзывала некоторых нигилистами, тем не менее судебная реформа оказала довольно заметное влияние на ослабление господствовавшего направления.
И так, теперь перед нашими глазами одни развалины теорий, направлений, патриотических принципов, террористических идеалов. Но из-за всего этого тумана общества все-таки не видно; оно постоянно шло вслед за господствующими направлениями, усердно их поддерживая. На чьей же стороне теперь победа? Мы опять пришли к поставленному в самом начале вопросу: кому же более сочувствует общество, на чьей стороне ею действительные симпатии? Кто теперь может сказать откровенно: «я знаю, что нужно нашему обществу?»
Сказать подобным образом не может никто, потому что действительные общественные потребности ни разу не выяснились сознательно. Вместо них теперь остались на сцене те начала, имеющие уже не принципный, а действительный характер, которые положены в основу новейшего русского законодательства, и которые до последнего времени заслонялись от общества направлением московской прессы. Важнейшие из этих начал следующие: равноправность всех сословий, провозглашенная земскими учреждениями и судебными уставами; естественно проистекающие отсюда суд присяжных и равная ответственность всех перед законом; признанная законом самостоятельность суда, выраженная статьей о несменяемости судей; признанное преимущество свободы печати перед системой предварительной цензуры. Вот что осталось нетронутым в этой общей свалке, и вот на чем должно основаться наше общественное развитие.
Но из всего вышеизложенного становится ясным, в чем нуждается наше общество для того, чтобы эти начала не остались бесплодными – так как одни начала, хотя бы и освященные законом, без поддержки со стороны Общества, не могут улучшить нашу жизнь? Общество нуждается в знании, которого ему до сих пор не доставало, в серьезном изучении и понимании тех начал, которые положены в основу новейшего законодательства., Только такое знание может гарантировать нас от возможности снова подчиниться тому террору, господство которого только теперь начинает проходить; только через посредство такого знания и понимания может установиться прочная связь между литературой и обществом, при чем последнее получит возможность сознательно отличать друзей от врагов, людей честных от спекулянтов, пользующихся известным настроением для своих эгоистических целей. Словом, без такого знания общественное развитие становится невозможным. Немыслимо, чтобы человек, которому предоставлена хотя самая ничтожная доля участия в общественных делах, не знал тех нрав, какими он может пользоваться – а у нас их не знают; немыслимо, чтобы гражданин не дорожил этими нравами и отказывался от лих по первому требованию ловкого рутинера, – а у нас готовы отказаться от всего, что дано законом. Мы должны знать, по крайней мере, сущность наших учреждений; мы должны быть знакомы хотя с основными началами судебной реформы; а у нас, между тем многим кажутся скучными занятия земских собраний, а многие и до сих пор не знают, в чем заключается право несменяемости судей, или полное отделение суда от администрации.
Мы стоим теперь на повороте, и можно безошибочно предсказать, каково будет направление нашего общества через год или два; это будет направление реально-общественное, при котором явится сознание полной солидарности интересов всех классов общества; направление, при которым почувствуется настоятельная надобность, отбросив всякия патриотические клички, и антипатриотические, серьезно заняться нашими действительными нуждами, которых, к сожалению, у нас так много накопилось за последнее время; направление, при котором толки о женском труде или о реальном образовании не будут возбуждать снисходительной улыбки у одних и озлобленных нападок со стороны других; только при таком направлении могут быть верно поставлены и разрешены многие из существеннейших для нас вопросов, говорить о которых теперь еще не время.
* * *Недавно в газетах напечатан первый полный отчет о полугодовой деятельности «магазина женских изделий, устроенного обществом для пособия бедным женщинам». Очень может быть, что весьма немногие знают о существовании этого магазина, и наверное, еще меньшему числу лиц известно о существовании самого общества. Это, впрочем, имело свою хорошую сторону, потому что дало возможность «магазину женских изделий» предстать перед публикой вооруженным не одними только надеждами, а очень полновесными фактами, говорящими сами за себя. Большинство начинавшихся у нас общеполезных предприятий не удавалось главным образом потому, что большая часть труда предпринимателей истрачивалась на теоретическое обсуждение затеваемого предприятия; на практическое его осуществление клалось труда гораздо меньше – словом, дело происходило как раз наоборот. Услужливая журналистика также в этом отношении не мало вредила делу. Толкуя вкривь и вкось о предприятии только-что задуманном, она делала то, что одних слишком преждевременно восстановляла против него, в других поселяла такие преувеличенные надежды, которые никак не могли удовлетвориться действительностью. Таким образом происходило то, что предприятие разрушалось, не успевши еще перейдти из области предположений в область действительности.
«Магазин женских изделий» шел несколько иным путем. Хотя он и печатал краткие отчеты за первые месяцы своего существования, но так как журналистика последних лет относилась не иначе как с усмешкою ко всему, в чем было замешано слово «женщина,» то и на отчеты магазина женских изделий не обращалось никакого внимания. Правда, такое равнодушие также не было особенно выгодно для магазина, который нуждался в заказчиках, и для которого гласность все-таки была желательна, но в конце концов это равнодушие во всяком случае имело хорошее влияние на успех магазина. Отчет, о котором мы говорим, ясно показывает, в какой степени полезно и даже необходимо для Петербурга существование подобного учреждения.
Появление у нас так называемого «женского вопроса» современно крестьянской реформе. Он возник в то время, когда возникали многие другие общественные вопросы, и также как они был сперва обсуждаем в самом общем, принципном виде. Потом он пошел за общественным движением, испытав на себе все последствия реакционного влияния, и, по виду, замер. Но так как этот вопрос не был сочинен неблагонамеренными людьми, как старается уверить один тощий петербургский журнал, так как он нес в себе идеи), почерпнутую непосредственно в явлениях жизни, то вследствие этого и не мог замереть окончательно. Он только вышел из своих первоначальных, общих форм, и распался на несколько мелких практических вопросов.
Теперь, мы думаем, многие убедились, как невыгодно среди нашего общества возбуждать вопросы в их общем виде и потом уже переходить к частностям. Многие, вероятно, пришли к уверенности, что русское общество если поддается чему-нибудь, то во всяком случае скорее фактам, чем идеям (последними оно, правда, увлекается, но только на короткое время). Конечно, многим показалось бы странным и даже смешным, если б кто-нибудь вздумал рассуждать о том, что было бы гораздо выгоднее, если б между производителями и потребителями стояло как можно менее посредствующих лиц; между тем эти же самые «многие», прочитавши например статью г. Шелгунова о вологодских кружевницах, напечатанную в 11 книжке «Дела» и узнавши, что петербургские дамы платят за кружевную косынку 15 р., когда кружевница получает за нее не больше Я р., и работает ее в течении 320 часов, очень легко согласятся с автором, когда он говорит, что для улучшения бедственного положения вологодских кружевниц необходимы энергические меры; необходимо, чтобы кружевницы сплотились в одно целое, устроили свои собственные склады и, став лицем к лицу с потребителями, отняли бы у посредников ту часть платы, которою они пользуются совершенно несправедливо. Это, конечно, зависит от того, что наше общество отличается упорным недоверием к общим идеям, если они чем-нибудь выходят из общего течения. Факты в этом случае единственное спасение.
И так, прежде чем перейдти к отчету «магазина женских изделий,» покажем, что этот магазин не есть забава праздных людей; а что, напротив, он старается удовлетворить насущнейшей потребности Петербурга. А для этого представим несколько цифр о положении женского населения в Петербурге.
Общее число женщин в Петербурге простирается до 221,000 душ; из них почти 70 тысяч девиц, 68 тысяч с небольшим замужних и около 33 тысяч вдов. Исключая из этих цифр женщин моложе 16 и старее 60 лет, оказывается, что общее число женщин способных трудиться доходит до 159 тысяч. Г. Карпович в одном из своих исследований находит, что из этих 159 тысяч женщин, совершенно не нуждающихся в работе, наберется никак не более 40 тысяч; но если эту цифру увеличить еще больше, до 59 тысяч, то все-таки выходит, что число лиц женского пола, нуждающихся в работе, никак не менее ста тысяч. Из этого громадного числа, самая незначительная часть имеет постоянные, хотя и маловознаградительные занятия, именно только 8,288; часть их работает на фабриках (3,475), остальная занимается ремеслами; это – модистки, цеховые прачки, золотошвейки, корсетницы. Таким образом, если считать, что число женщин, нуждающихся в работе, доходит только до ста тысяч, то все-таки остается неизвестным, чем занимаются около 92 тысяч женщин. Очень многие из них существуют работой на дому; это так называемые штучницы, то есть такие женщины, которые постоянной работы не имеют, но или работают поденно, или получают работу из магазинов и мастерских поштучно. Хотя число этих штучниц не может быть точно определено, но во всяком случае оно чрезвычайно велико. Это женщины, которым или не посчастливилось найти постоянное занятие в мастерской, или которых семейные обстоятельства не дозволяют отлучаться из дому на продолжительное время; это жены бедных чиновников, обремененные детьми, или девушки, содержащие своей работою престарелых родных и вместе с тем, присматривающие за хозяйством; или, наконец, вдовы, на руках которых находятся малолетния дети. Многие модные магазины, принимая заказы, и будучи не в состоянии исполнит их во время посредством своих постоянных мастериц, отдают роботу на сторону, штучницам, который, конечно, получат десятую долю того, что получает магазин за исполненную ими работу. Чтобы иметь понятие о том, какая именно доля этой платы приходится работницам, приведем следующие данные: самые богатые магазины платят за работу дюжины рубашек из лучшего полотна, при готовых уже грудях, воротничках и манжетах, 4 р. 50 к., то есть по 37½ к. за рубашку; но прпотом еще вычитается почему-то магазинами 10 % с заработной платы, то есть вместо 4 р. 50 к. платится всего 4 р. 5 к.; такая работа считается самою выгодною; если же рубашка делается из шортинга или коленкора, то за них платится от 3 р. 50 к. до 2 р. 50 к. за дюжину; между тем времени и труда употребляется на них столько же, сколько и на голландские. При такой цене, ловкая и усердная мастерица, работая с раннего утра до поздней ночи, едва в состоянии заработать девять рублей в месяц; обыкновенно же не получается и 7 рублей. Все это сказано относительно лучших магазинов; в апраксином же рынке за работу ситцевой рубахи платят всего 7 копеек, так что там месячная заработная плата становится еще ничтожнее. Плата за другие работы представляется еще менее утешительною: вязаньем чулков нельзя достать в месяц более 1 р. 50 к.; плата за шитье перчаток не может достигнуть в месяц более 3 р., сшиванием мехов можно заработать не больше 2 р. 50 к. в месяц; плетенье аграманта может доставить около 2 рублей.