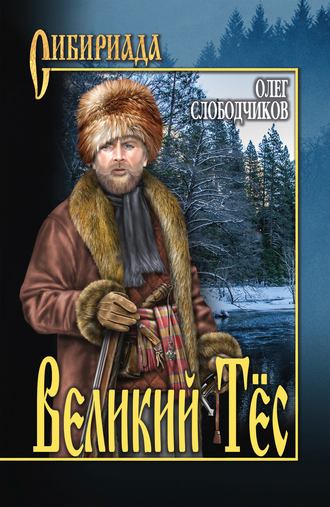
Полная версия
Великий Тёс
– Спрашивал дорогу до города, – виновато замялся Угрюм.
– Откуда знаешь разбойника? – злей прежнего впился в него недоверчивым взглядом служилый татарин.
– Тоже ясырем был! – обидчиво вскрикнул Угрюм. – В одной яме сидели. Но он бежал, а меня продали.
Разбойники скрылись так же быстро, как появились. Обоз двинулся своим путем. Посол все оглядывался на бескрайнее озеро и велел завернуть с тропы на ветер вдоль берега. Когда бухарские охранники стали громко возмущаться, указывая правильный путь, Васильев приказал остановиться. Он сам вошел в крайние заросли камыша, присел, будто по нужде, стал высекать искру кремнем, раздувать огниво. Когда над камышом поднялся дымок, с ухмылкой вернулся к обозу.
– Сыро! Не разгорится! – хмуро заметил долгобородый казак.
– Как Бог даст! – мотнул головой Васильев.
Порыв ветра выстелил дым по земле, а пламя с треском взмыло вверх. Довольный собой, посол сел в арбу, весело взглянул на бухарцев.
– Давно бы надо выжечь берег! – пролопотал на их языке. – Мне отмщение и аз воздам!
– На другой год гуще прежнего вырастет! – буркнул долгобородый.
В Томский город посольский обоз прибыл как раз на мучеников Платона и Романа, в первый день подлинной зимы.
– Платон да Роман кажут зиму нам! – кряхтели казаки, пряча лица от ветра. Последние дни пути он был лютым. Лицо Угрюма покрылось черными коростами. Он чуть не околел в дареном халатишке, который продувало насквозь. Для тепла оборачивался жесткой, как доска, промерзшей бычьей шкурой. Тем и спасся.
Благодарственный молебен заказать было не на что. Угрюм простоял в храме на коленях всю литургию. Это все, чем мог отблагодарить Господа за чудесное спасение. За милости на чужбине.
Едва он вышел из притвора, столкнулся с калмыцким ясырем. Тот стоял поперек пути в добром овечьем тулупе, опоясанном кушаком, в новых ичигах. На боку висел тесак. Глядел он на возвращенца нагло и презрительно.
– Айда, воевода ходи! – ткнул в грудь пальцем.
Дать бы в ухо косорылому! Да город чужой, народ злющий, ясырь неизвестно чей. Угрюм попробовал обойти его. Ясырь вцепился в плечо.
– За тобой посылали! Башка зовет!
– Что буянишь? – строго окликнули за спиной.
Похрустывая снегом, к ним шел казак в долгополой епанче поверх жупана. Индевеющая борода его была коротко стрижена. На усах висели сосульки. Глаза смотрели добродушно и приветливо.
– Из плена вышел, – слезно кинулся к нему Угрюм. – Натерпелся от неруси. А тут опять. У своих.
– Ты чей будешь? – остановился казак и окинул оборванца любопытным взглядом.
– Брат у меня в Енисейском! – обиженно вскрикнул Угрюм. – Служилый Иван Похабов.
– Знаю Ивашку, – казак смахнул сосульки с усов. – Поклон ему от Богдашки Терского. – Строго взглянул на ясыря, который с важным видом что-то бормотал и надувал щеки. – Иди! – приказал. – Сам приведу!
В съезжей избе Угрюма ждал письменный голова. Рядом с ним сидел Лука Васильев. Он непринужденно поглядывал по сторонам, не желая замечать обозного.
Голова вперился в оборванца разъяренными глазами. По его взгляду Угрюм понял: чем меньше скажет о себе, тем лучше. Вылетит лишнее слово – другое и третье палач из него выбьет.
– Сказывай, где пленили! – неприязненно рыкнул голова, едва дождавшись, когда вошедший отвесит поклоны на образа.
Богдан, распахнув епанчу, сел на лавку.
– Тебе чего? – строго спросил его письменный.
– Брат товарища, – коротко, безбоязненно ответил казак и кивнул на растерявшегося Угрюма.
Голова молча согласился с присутствием казака и снова перевел взгляд на пришлого, понуждая его к ответу.
– Ходил с ватагой на промыслы по Тасеевой реке. Захворал там и оставлен был у ясачных тунгусов. Напали на них киргизы, меня пленили, продали бухарцам. Там купил магометанин из бывших русских. Отработал я ему за себя, отплакался. Даром отпустил меня с нашим посольством.
Голова презрительно рыкнул и спросил злей прежнего:
– Воровского передовщика откуда знаешь?
Угрюм вспомнил угрозы Пятунки, слезно затараторил:
– В одной яме сидел с ним, с пленным. А откуда он – знать не знаю! Узнал меня разбойник. Это я уговорил его русский обоз не грабить, – заюлил, стараясь всем угодить и никого не обидеть. Тайком радовался, что в пути ни с кем не подружился и держал язык за зубами.
Голова догадывался, что он что-то скрывает, злился, грозил палачом. Богдан с лавки препирался с ним, защищая брата товарища.
– Найдешь кто залог за тебя внесет – ступай в Енисейский! Скоро казаков туда пошлем. Не найдешь – у Васильева дворовым холопом будешь служить.
Угрюм чуть не задохнулся от обиды. Вскрикнул, указывая на сына боярского:
– Он же крест целовал! Абдула ему даром дал купчую на меня.
Голова перевел строгий взгляд на Васильева. Тот заерзал на лавке.
– Не помню! – сказал с напрягшимся лицом. Ухмыльнулся, хмыкнул, задрав нос.
Богдан поднялся, гаркнул письменному голове:
– Отпусти промышленного! Найду деньги косорылому выкресту! Братья Бунаковы Ивану Похабову не откажут.
– Ты язык-то придержи! – сдержанно поправил его голова. – Он сын боярский и почетный посол нашего воеводы – князя Ивана Шеховского.
Угрюма отпустили. Он вышел из съезжей избы с горькой обидой под сердцем: из одного плена бес привел в другой. Мрачным и убогим показался ему Томский город.
Чуть не до сумерек просидели братья у костра. Остывший конь нетерпеливо мотал головой и перебирал копытами. Угрюм говорил искренне, то и дело увлекаясь воспоминаниями: то жаловался на судьбу, то похвалялся виданным и пережитым. Поглядывал на старшего брата, стараясь понять, что чувствует он, слушая его сказы.
Иван молчал с непроницаемым лицом. Узкопосаженные глаза его были мутны. На рассказы брата то покачивал головой, то хмыкал в бороду. Притом никогда не переспрашивал. Разве когда зашел разговор про Богдашку Терского да про Бунаковых, с которыми Иван когда-то сидел в осаде от тунгусов в Маковском острожке.
Грешным помыслом Угрюм иной раз объяснял себе его молчание завистью. Ведь он – младший, а повидал на своем веку больше, чем иные старики городов и острогов.
– Не сказывай никому! Ты мне божился! – напомнил Ивану, закончив рассказ.
– Да уж не скажу! – глубоко, как конь, вздохнул тот. – И ты помалкивай. А то ведь стыдно!
– Что стыдно? – вскрикнул Угрюм с ошарашенным лицом.
– Стыдно! – отводя мутные глаза, тихо повторил Иван. Брови его досадливо хмурились. – Столько претерпел. Ни во славу Божью, ни за Русь Святую, а так, живота ради, по бесовскому научению.
Угрюм метнул на брата злобный и удивленный взгляд, насупился, замкнулся. Иван понял, что обидел младшего. Стал сопеть, кряхтеть, почесываться, не зная, как замять неловкость. Долго думал, потом начал оправдываться:
– Я смолоду чего только не наслушался от старых казаков. И тогда много было видальцев: всяких пленных, беглых, которые жили в дальних странах, среди чужих народов. Мы, молодые, слушали их, разинув рты. Восхищались. А после приметил я, что все те, которые вернулись от чужих, уже как бы и не свои. Слушать-то их слушали, а сторонились, как порченых, будто они какую грязь или заразу принесли из своих скитаний. – Иван снова шумно и глубоко вздохнул: – Забыть бы тебе все, про что говорил. Молиться да служить. Глядишь, выправил бы судьбу! – жалостливо взглянул на брата прояснившимися глазами.
– Будто ты не средь чужих народов служишь? – огрызнулся Угрюм и скривил губы в шелковистой бороде. – Лет уж десять, больше.
– Это другое! – болезненно сморщился Иван. – Мы пришли по воле Божьей, чтобы дать закон здешним народам. Иные нас сами зазывают.
– Слыхал! – опять скривил губы Угрюм. – Жена князца Немеса приехала в Томский шертовать царю за мужа и за весь род. Тамошние воеводы как увидели на ней соболью шубу, так стали сдирать с плеч силой. А князец недавно только воевать перестал. Утешился от обиды или помер.
Иван бессильно опустил голову, долго глядел на тлевшие угли костра. Наконец вскинул глаза на брата:
– Тебе бы не погнушаться, со скитником Тимофеем поговорить или с попом Кузьмой… Потомки Израилевы, которых Бог вел на Обетованную землю, не меньше нашего грешили. За то их Господь казнил сотнями и тысячами. Но были и верные Его Заветам. Они перешли Иордан и расселились.
– Да я с год жил с теми самыми монахами, что и ты, – нетерпеливо перебил брата Угрюм. – Слушал, что и ты слушал: про скрижали, Моисея, про Иисуса Навина, Самсона и Соломона.
– Поехали, что ли! – поднялся Иван и стал забрасывать шипящие угли костра жестким весенним снегом. Пробормотал, вкладывая клацающие удила в конские зубы: – Иная лошадь двадцать лет книги возит, а читать все не выучится.
Глава 4
На святого мученика Федула и по Сибири теплом задуло. В середине апреля стаял снег вокруг острога и бесстыдно обнажились грязи. Костьми мертвечины из земли торчали вмерзшие остовы брошенных судов, разбитые барки и струги. В тенистых местах и буераках стыдливо вжимались в отопревающую землю черные заструги сугробов. Из окон маковских изб вывалились льдины.
Пока не вскрылись реки и не оттаяли болота, острожные люди ходили на лыжах по притокам Оби и Енисея, спешили собрать ясак с кетских родов, караулили промысловые ватаги, пробиравшиеся мимо острогов без государевой пошлины.
Все радости изнурительной острожной жизни виделись Угрюму только в том, что тихим вечером, на закате дня, уставшие от работ люди сидели под стеной и глядели на болота с чахлыми деревцами, на зеленые гривы с кряжистыми кедрами и лиственницами.
Баба пойдет с ведрами на ручей – развлечение. Все отдыхающие казаки поглядят на нее. Седой приказчик проводит женщину тоскливым взглядом, незлобиво ругнется:
– Оптыть… Твоя-то Похабиха, – кивнет Ивану, – под коромыслом-то… Задом-то вертеть горазда. Туды-сюды, туды-сюды. Гусыня! И ни капли не прольет. Мать ее…
И казалось Угрюму, что он слышал эти слова уже не раз и не два. Приглушенно и устало хохотнули братья Сорокины. Усмехнулся Иван. Завистливо закрутил головой Васька Колесников, зыркнул по сторонам хищными куньими глазами. Глядь, широким и степенным мужицким шагом идет с березовыми ведрами его Капа. Тот же приказчик, позевывая, посмеялся:
– Кобыла! И как ты с ей, Васька, управляешься-то?
– А так! – строптиво вскинулся стрелец. Громко окликнул жену: – Подь сюда, холера долговязая!
Капа простодушно и улыбчиво подошла к отдыхавшим мужчинам.
– Пой, стерва! – приказал Васька, для острастки вращая бешеными глазами.
Капа послушно поклонилась, поставив ведра на землю, сцепила пальцы на животе, подняла к небу большие невинные глаза, заревела коровой, да так жалостливо, так покорно, что всем стало стыдно. И Ваське тоже.
– Ну, ладно! – смутившись, грубовато приласкал бабу. – Это я на спор! Показать людям – какая ты у меня хорошая жена.
Угрюм придвинулся к брату, усмехнулся, шепнул скороговоркой:
– А ведь в той Руси, которую Абдула устроил на чужбине, народ-то подобрей!
И таким тошным показалось ему все вокруг, что захотелось завыть. Иван снисходительно взглянул на младшего. Вздохнул и пробормотал:
– Зато своя!
Ныла кручинная тоска под сердцем старшего Похабова, терпел обиды от меньшого брата, как велел Господь. Выговаривать же по Его заповеди опасался. А в Угрюма к весне будто бес вселился: во всем перечил, старался опередить старшего. Пойдут в тайгу – он убежит вперед. Станут лес валить – машет топором без устали и без надобности, пока не повалит деревьев больше, чем старший. Сошел лед. Поплыли они по Кети на малом стружке. Плечо к плечу сидели в лодке за веслами. Хрипел, сопел, надрывался Угрюм, налегая на свое весло так, что стружок крутился на месте. Иван скрипнул зубами и резко осадил его:
– Господь сказал: «Терпи от брата своего, сколько можешь, но выговори ему». И если скажет: «Прости, погрешил я перед тобой!», то прости снова.
Поднял на Угрюма разъяренные глаза. Не мог не понимать младший брат, что распаляет себя по научению бесовскому. Но он молчал. Лицо, будто из камня высечено, чуть дрогнуло: опустил глаза, скривил губы в поганенькой усмешке, отвернулся, отмолчался и на этот раз.
– Греби один! – жестким голосом приказал Иван и пересел на корму.
Брат спокойно и размеренно стал налегать на весла. Течение было слабым. Лодка ровно пошла вдоль берега.
– Ладно, Васька Колесник изводит себя черной завистью, – хрипло укорил молчавшего брата Иван. – При его-то уме, при его медовом языке ни ростом, ни силой не вышел, ни грамоты не выучил. Ты-то что хочешь мне доказать?
Откидываясь на спину, Угрюм яростней налег на весла. Холодно щурился, глядел на берег, не издавал ни звука. Неслась лодка против течения, будто в ней слаженно гребли в четыре руки. Разглядывал Иван знакомую переносицу брата, упрямо сжатые губы, все еще редкую, коротенькую, ровно подрезанную бороду. Люди говорили, что они похожи. Но Ивану греховно чудилось, будто от того жалкого отрока-сироты, каким он когда-то отыскал Угрюма в Серпухове, не осталось ничего. Чужак!
На Первый Спас, к осени, тобольский торговый человек Семейка Шелковников привел по Кети барки с рожью для вольной продажи. В Маковском острожке он был частым гостем. На этот раз с его караваном прибыл из Москвы служилый в красной шапке сына боярского, в стрелецком малиновом кафтане. Он был коренаст и осанист, спиной прям, как доска, будто вытягивался, чтобы казаться выше других. Щеки брил, как литвин. И были они у сына боярского синими от густой, жесткой щетины. Усы же топорщились под носом, как кабаний загривок. Круглые светлые глаза с белыми как снег белками оглядывали острожных жителей с насмешливым любопытством.
И по одежде, и по осанке сын боярский выглядел стрельцом настоящим, родовым, а не здешним, верстанным из казачьих детей, гулящих людей и всякого сибирского сброда.
– Петр Иванов Бекетов! – назвался приказному.
Зная о забубенном сибирском безбабье, он вез с Руси такую же крепенькую, как сам, жену с простецким лицом. Наслушавшись в пути всяких сибирских вольностей, она глядела на служилых строго и хмуро. Рыжие брови ее были насуплены.
– Устраивай на ночлег разрядного сотника! – объявился приказному стрелец.
Старик весело ахнул, засуетился, посмеиваясь, стал потирать руки.
– А как же Максимка-то Перфильев? Его стрельцы сотником кликнули вместо утопшего Поздея Фирсова!
– Его кликнули, меня послали! – просто ответил Бекетов и добродушно взглянул на рослого Ивана.
Семейка Шелковников, дородный увалень, узнал Угрюма и от радости взревел, как медведь, стал шумно обнимать дружка, закричал работным людям, что встретил товарища, с которым промышлял в юности. Угрюм в его объятиях покряхтывал и терпеливо растягивал губы в принужденной улыбке.
Старчески сутуля опавшие плечи, приказный толокся среди прибывших, срывающимся голосом указывал, в какие амбары носить мешки с рожью купцов, куда – хлебный и другие оклады стрельца. Братья Сорокины и Васька Колесников стояли в стороне с таким видом, будто они здесь и есть подлинные хозяева. Ждали, когда их попросят о помощи.
Бекетов ни просить, ни приказывать не стал. Скинул кафтан, оставшись в холщовой рубахе, вышитой на московский манер. Поставил стоймя пятипудовый мешок, примериваясь взвалить его на плечи, кивнул Ивану:
– Пособи!
Иван бросил мешок на кряжистую спину усатого стрельца. Подхватил другой из его струга. Насупленные брови Бекетихи слегка распрямились, а глаза затеплились.
Для всех прибывших в остроге и на гостином дворе топили бани. Женщины пекли свежий хлеб. Не приветить сына боярского, присланного в пику енисейскому воеводе Хрипунову, приказный не мог и с радостью отдал ему с женой свою холостяцкую острожную избу.
Не успели гости напариться и отдохнуть, как на взмыленном коне прискакал рыжий енисейский казак Агапа Скурихин. Он привязал лошадь, усталым и бесшабашным взглядом окинул людей, набившихся в избу приказного, весело взглянул на нового сотника и позвал Ивана для разговора. Следом за казаком вышел приказной.
– Кто такой? – спросил Агапа, кивая за спину, едва они прикрыли дверь.
Дед Матвейка, посмеиваясь и потирая руки, назвал прибывшего. Скурихин ухмыльнулся, задумался. В Енисейском остроге правил службу сотника выбранный стрельцами и одобренный воеводой Максим Перфильев. Неунывающий казак удивленно мотнул головой и беспечально, как о пустячном, объявил:
– Бунт в Енисейском! Томские наш гарнизон взбаламутили. Казаки со стрельцами круги заводят, а воевода с сотником Перфильевым заперлись в остроге.
– Потакал Хрипунов торговым людям! – злорадно выругал воеводу приказный, перебив Агапку.
– Помощи просят! – закончил тот и перевел на Ивана насмешливые глаза с въевшейся в них паутинкой усталости.
– Пойду! – решительно уставился на приказного Похабов. – Не оставлю кума в беде! Он сына моего крестил, свадьбу нам играл.
– Одного только могу отпустить! – скаредно проворчал приказный. – Все при деле. Сам видел. Да и людишки у меня самые ненадежные. Сорокины узнают – самовольно сбегут к атаману Ваське. – С желчной усмешкой в бороде он распахнул низкую дверь в избу, поманил к себе Бекетова. Тот вышел босой, в одной рубахе, румяный и влажный после бани. – Принимай свое войско, сотник. Ой, в недоброе время принесла тебя нелегкая!
– Я не выбирал ни судьбы, ни времени! – отговорился тот, выслушав торопливый пересказ Агапки. Спросил: – Когда надо ехать?
– Сейчас, если дед Матвейка коней даст, – указал Скурихин на приказного. – А не даст, – плутовато блеснул глазами, – может и пожалеть потом!
– Отчего не дать, если кони есть! – подавив вздох, обернулся к оконцу приказный. Зевнул, крестя рот. Покачивая седой головой, смешливо пробормотал: – Ну и Васька! Ну и удалец!
Стрелец быстро оделся. Опоясался кушаком. Накинул ремень сабли через плечо. Иван собирался дольше. Меченка кричала ему под руку и вслед что-то злое. Он на нее не глядел. Пристально посмотрел на Угрюма, но не позвал за собой. Даже говорить не стал куда едет. А тот, помня усилившийся между ними холодок, не спросил. Иван затянул подпругу, вскочил в седло, поддал коню пятками под брюхо, стал догонять Бекетова со Скурихиным.
В пути он узнал от Агапы, что стрельцов при Енисейском остроге только пятеро, остальные все на дальних службах. Терентий Савин ходил на Тасееву реку с атаманом Васькой Алексеевым и теперь за него глотку дерет. А Вихорка Савин в остроге, верный воеводе. Там же стрельцы Дунайка с Дружинкой да с сотником Максимом Перфильевым. Остальные все переметнулись к бунтарям, провели воровской казачий круг, лают воеводу, будто он в сговоре с торговыми людьми и те рожь продают втридорога. А главные смутьяны – братья Алексеевы, атаман и брат его Гришка.
– Этим-то чего надо от воеводы? – удивился Иван, подводя конька стремя в стремя с казаком.
– Хрипунов посылал их вверх по Енисею на киргизов, а они ушли по Тасеевой реке, ограбили ясачных тунгусов, пленили сорок тунгусских, киргизских и братских мужиков, которых мы звали идти в Енисейский острог бесстрашно. Среди них наши верные ясачники с Подкаменной Тунгуски. Воевода отобрал у них ясырей, заперся с верными людьми. Васькины казаки да наши, человек сорок, провели круг и осадили острог.
– Да! – крякнул Иван. – С Васькой да с Гришкой лучше не воевать. Дай им под начало сотню вольных казаков – Томский город разнесут. А в Енисейском острожины промеж башен всего-то в полторы сажени.
– Боишься Ваську? – весело подначил енисейский казак.
– Опасаюсь! – холодно ответил Иван. – Бояться надо Господа! – перекрестился, сидя в седле. Вызнав, как осажден Енисейский, посоветовал спутникам: – На подъезде с заречной стороны пускайте коней галопом. Где угловая изба, на седла встаньте, через заплот прыгайте. А я поеду к атаману, попробую уговорить.
Скурихин метнул на спутника колючий взгляд, но не стал возражать. Молчавший при их разговоре Бекетов вдруг заявил начальственным голосом:
– Я тоже поеду к атаману. У него мои стрельцы. Что же я буду бегать от своих? Поговорить надо. Познакомиться.
– Ой, смотри, сотник! – тряхнул головой Иван. – Стрельцы-то при Ваське неробкие. Побьют, не поглядят, что разрядный сотник и сын боярский!
– То я не битый! – беспечально расправил густые усы Бекетов. – Чай не из новоприборных: и отец, и дед стрельцами служили.
Казаки атамана Василия осадили острог по всем правилам боевого искусства. На подходах к нему сидели вооруженные люди. Посадские избы были заняты служилыми. Возле пристани у костров лежали и сидели примкнувшие к ним промышленные. Неподалеку от проездной башни стоял караул. Торговые люди, чей товар не был внесен в острог, боясь грабежа, уплыли ниже устья Кеми к Касу и там затаборились, ожидая, чем закончится казачий бунт.
Иван направил было коня к оврагу Мельничной речки. Агапа резко потянул на себя узду. Его лошадка встала и задрала морду, оскалив желтые зубы.
– К скитницам не пойду! – заявил казак. – Засмеют потом, что под подолом у черноризниц прятались.
– Ну, тогда лезь через стену где знаешь! – ругнулся Иван и обернулся к стрельцу: – Может, и ты с ним, в острог?
Но Бекетов твердо отказался явиться на службу по-воровски, тайком. Все трое повернули коней к посаду. Из крайней избы они были замечены. Двое казаков встали на пути, высматривая верховых против заходящего солнца. Едва всадники приблизились к угловой избе, Агапий оторвался от Ивана и Петра, пришпорил коня, подскакал к острожному тыну, где не было рва. Вскочил ногами на седло, распрямился и перемахнул на другую сторону.
Казаки закричали. Кто-то пустил стрелу в стену, боясь поранить казенного коня. Иван с Петром продолжали приближаться к посадской избе с охраной.
– Атаман где? – крикнул Похабов, не спешиваясь.
Какой-то голодранец из томского отряда с кистенем в руке схватил за уздечку его коня. Он ткнул его в лоб подметкой ичига. Голодранец сел в пыль. Лязгнул кистень.
– Атаман где? – грозно повторил Похабов, нависая над томским казаком.
Тот узнал его. Испугался. Махнул рукой, указывая к реке, на другой конец посада. Двое стремя в стремя зарысили туда. Спешились возле избы казака Филиппа Михалева. С крыльца к ним сошли трое незнакомых казаков с луками, при саблях. Иван молча бросил им на руки поводья. За спиной в красной шапке вровень с его ухом кряжистый, крепкий и прямой, как колода, надежно шел Бекетов. Они толкнули низкую дверь, склонясь, протиснулись в избу. Выпрямились, отыскивая глазами красный угол.
– А-а! Поротый царской милостью! – подал голос Григорий.
Глаза вошедших присмотрелись к сумраку избы. Гришка лежал на лавке. Василий в шапке сидел за столом. По правую руку от него хищно щерился на Ивана Михейка Стадухин. Не оборачиваясь, боком к нему смущенно ерзали на лавке Терентий Савин и Василий Черемнинов. Оба воротили морды, будто не были знакомы. Усталая, болезненно иссохшая жена Филиппа приветливо кивнула вошедшим. Сам хозяин то поднимал голову с красными глазами, то ронял ее на столешницу. За столом было еще трое томских казаков. Все они пили горячее вино и были изрядно пьяны. Атаман неверной рукой налил в две чарки, кивнул гостям.
– Закусываем скоромным! А пьем в пост только во славу Божью!
Похабов и Бекетов скинули шапки. Степенно перекрестились на образа. Молча выпили. Сели. В избу ворвался казак с кистенем. Закричал, указывая на пришлых пальцем:
– Этих Ганка Скурихин привел. Сам бросил коня и перескочил через заплот.
Григорий, водя мутными окровавленными глазами, поднял голову. Сел облокотясь.
Повел бородой по столешнице, сметая хлебные крошки.
– Ну, и кого ты нам привел? – спросил, глядя на Ивана.
– Разрядный сотник Петр Иванов Бекетов. Прислан царским указом вместо утопшего Фирсова, – просипел тот перехваченным голосом. Водка была крепка, не сравнить с кабацкой. – Вам с атаманом да нам со стрельцами он теперь голова!
– Голова, говоришь! – вперился в сотника неприязненным взглядом Васька-атаман. – Ну, тогда слушай и разумей, где правда!
Григорий поперхнулся чаркой. Отставил ее в сторону. Поднял мутные глаза на Бекетова.
– Стрельцы, казаки, сыны боярские, дворяне. Тьфу! Холопье. Дворня боярская. Там были казаки! – ткнул пальцем за плечо, на закат. – Ивашка знает! А здесь. Тьфу!
– Слушай! – продолжил атаман, не обращая внимания на пьяного брата. – Слезно призвал нас здешний воевода защитить острог от тунгусов и качинских татар. Слышал-де он, ясачный князец Тасейка с качинцами вошел в сговор. Пришли мы. Послал он нас на Качу. Едва дошли до стрелки[52] на устье Тунгуски. Напали на нас, да не качинские, а здешние тунгусы. И шли мы за ними с боями левым берегом. А берег крут. Бечевника нет. Ни дня без боя до самой Бири и Чуны.
– А там… – сипло прохрипел Григорий. – Тасейку браты убили!
– А там целое войско. Мы и в засеке не могли отбиться. Против каждого казака десяток диких. Луки у них наши брони пробивают, дальше пищалей стреляют. А река там в два полета стрелы. И вынудили они нас выплыть на середину. Четверых убили, половину переранили. Сплыли мы обратно плотами и стругами. Все, что кровью добыли, воевода отобрал. Не туда, дескать, ходили. Не тех воевали! Это по правде?








