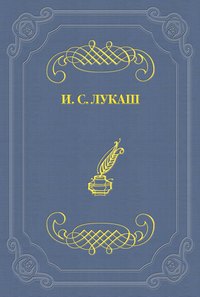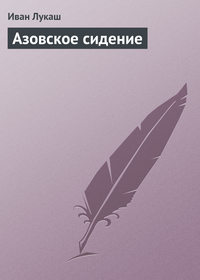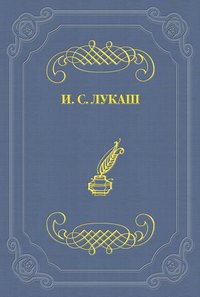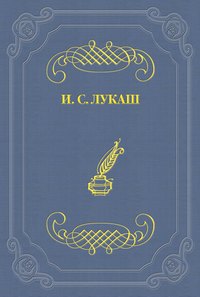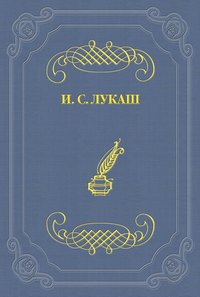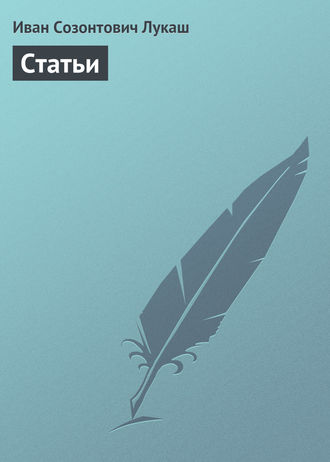 полная версия
полная версияСтатьи
Московские дилижансы ходят каждый день, кроме воскресений. Цены местам – зимой 23 рубля серебром, летом – первое место наверху – 27 рублей и второе внутри – 23 рубля. Дилижанс идет до Москвы 72–75 часов.
Почтальоны трубят в рожки, хлопают бичами и «со своих высоких сидений отлично управляют лошадьми. Они и теперь не оставили своих национальных нарядов: зимой – тулуп, летом – кафтан, но мы слышали, что уже поднят вопрос о выдаче им одинакового обмундирования. Русские почтальоны очень любезны, однако им следует давать немного на чай».
«Мы не советуем занимать места внутри дилижанса: там так тесно и узко, что мы не решаемся осуждать путешественника на непереносимую муку провести в дилижансе 75 часов. Лучшие места – наверху, где есть возможность протянуть ноги».
Так вот они – без поэтических прикрас – старинные петербургские дилижансы, похожие на всех своих романтических собратий, не раз воспетых Диккенсом и Бальзаком…
Вы, вероятно, и не думаете трогаться из столицы, но вам необходимо, может быть, послать письмо парижским друзьям. Это довольно дорого: заказное письмо в Париж обойдется вам 5 рублей 61 копейка серебром…
Или вы желаете просмотреть последние иностранные журналы и книги. Среди доброго десятка иностранных книготорговцев вы встретите в Петербурге сороковых годов такое знакомое имя – Пуанкаре. Его французский магазин находится на Малой Морской, в доме Строганова… Петербургский Пуанкаре – не один ли из предков Пуанкаре французского?
А русская книжная лавка Смирдина помещается на Невском проспекте, в доме церкви Петра и Павла. «Эта книготорговля имеет прекрасную репутацию, приобретенную добрыми усилиями г. Смирдина для расцвета российской литературы. Господин Смирдин отдал своему начинанию значительные капиталы. Теперь г. Смирдин находится во главе всех наиболее почетных литературных предприятий. Ему же многие писатели обязаны опубликованием своих первых трудов».
Книготорговлю Глазунова вы найдете в доме Балабина, на Большой Садовой. Книжника Исакова с его «кабинетом для чтения» вы отыщете среди многих книжников в галерее Гостиного двора.
Дома мод, часовщики, ювелиры, виноторговли, английские, голландские, немецкие магазины, портные – все эти Фешоны, Оливье, Бутоны, Флораны, Маркевичи, Виспольские, Елизы, Мальпарты или Шевалье, их, право, не перечислишь. Укажем только на старинный петербургский «магазин мод» Соловьевой, рядом с английским магазином, что в доме Фроста, и на гравюры Дацциаро, на углу Невского и Адмиралтейской площади, в доме Грачева…
А когда вы посетите театр, не забудьте, что «в зрительных залах Петербурга не говорят громко, и там совершенно запрещено свистеть актерам. Всякий шум подобного рода строго запрещен. Зрители сидят на своих нумерованных местах, и кресло в партере стоит 5 рублей на ассигнации».
Из театра вы будете возвращаться в потемках и, вероятно, посетуете на масляные фонари Петербурга.
«Они освещают дурно и на маленькую дистанцию. Впрочем, теперь фонари снабжены зеркалами – рефлекторами, а многие магазины на Невском имеют и газовые рожки. На других улицах купцы часто освещают окна лавок одной-двумя лампами с полированными зеркалами».
«В светлые летние ночи, с 1 мая по 1 августа, фонари в Петербурге не горят… Петербуржцы с грустью встречают первые августовские огни – вестники осени с ее теменью, ветрами, сыростью и простудами».
«Еще в 1824 году одна французская компания начала работы по освещению столицы газом. Но взрыв газометра, который помещался за Казанским собором, прервал работы. В 1839 году новая газовая компания уже осветила большую часть Невского и обе Морские…»
Так, под масляными «фонариками-судариками» вы дойдете до своей гостиницы по заснувшей столице.
Вашу безопасность охраняют ночные полицейские стражи в зипунах и киверах с огромными алебардами – славные по многим описаниям петербургские будочники.
«В столице, в разных кварталах, около 290 полицейских будок, маленьких домов с деревянными колонками. А в каждой будке – по три будочника».
«Впрочем, ночью всюду тишина – и в кофейнях, трактирах и ресторациях – ни малейшего шума, ни споров, ни драк».
Пыль, пыль – вот что может вам досаждать в столице… «Город вымощен булыжниками, олонецким и финским гранитом. В сухое летнее время ветер подымает на площадях такую пыль, что прохожий рискует ослепнуть. К тому же булыжник сбивает ноги лошадям, а гром колес по граниту едва переносим для ушей».
«Правительство давно ищет способ улучшения мостовых. На Невском, у Аничкова моста, одно время были наложены на мостовую доски. Их скоро сбили экипажи. Тогда попробовали заливать мостовую асфальтом, но в дождь в нем вязли ноги, а в сухое время еще непереносимее была пыль».
«Наконец, в 1832 году, г. министр Гурьев изобрел отличную мостовую: это род паркета, изготовленного из шестигранных сосновых болванок. Поверхность такой мостовой действительно похожа на гладкий паркет, по которому экипажи катятся легко и бесшумно».
Так, оказывается, «г. министр Гурьев», автор гурьевской каши, изобрел блистательные торцы Петербурга.
Вы в ваших прогулках увидите, может быть, «смотрины купеческих невест в Летнем саду или первомайское гуляние в Екатерингофе, куда стремится весь город, где бывает император с императрицей… Там кавалькады галопируют среди верениц экипажей, там толпы пешеходов текут в аллеях, и кажется, что вся столица собралась в Екатерингоф приветствовать весеннее солнце.
Или вы побываете на масленицу «в балаганах, на Адмиралтейской площади, покрытой тогда полчищами театров, бараков, цирков, ларей. Акробаты, канатоходцы, шарманщики, арлекины, шпагоглотатели, качели, карусели, лавки с орехами, апельсинами, халвой, коврижками – и над всем чудовищные ледяные горы в дрожащих флажках. Всюду оглушительное бряцание военных оркестров. Народ, поедая коврижки и щелкая орехами, любуется фиглярами. Вы можете, однако, удивляться в балаганах и «любовным приключениям Коломбины и опасным прыжкам паяцов».
Вы побываете там, а мы с грустью опустим все эти увлекательные описания неизвестного французского автора.
Но об одном мы просим вас: когда вы будете в Петербурге, остановитесь на Троицком мосту и крошечный французский гид укажет вам оттуда на великий город:
«Прекрасно зрелище Петербурга с середины Троицкого моста в тихий вечер июня. Вы среди просторных вод Невы, отражающих и прозрачное небо, и легкий закат. В воздухе, я не знаю откуда, разлита некая бархатистость, смягчающая все линии домов».
«Смотрите направо – там Петропавловская крепость, как бы погружающая свои стены в озаренные воды Невы. Стремится ввысь золотая игла крепостного собора. Смотрите налево – там мягкая вечерняя линия домов заканчивается Зимним дворцом и Адмиралтейством. Адмиралтейская стрела горит в прозрачном воздухе тонкой струей огня».
«Нева против вас разделяется на два рукава, как бы для того, чтобы обнять Биржу с двумя ее ростральными колоннами, классическими маяками, которые кажутся издали громадными часовыми. Направо от Биржи подымается лес мачт с тысячами флагов – значки и цвета всех наций едва веют в воздухе вечера».
«Дальше вам виден Исаакиевский мост, еще оживленный движением, а за ним залитые пожаром зари окна домов Английской набережной и Васильевский остров. На самом горизонте – облака дыма: прибыли иностранные пироскафы. А то забелеется, как крыло, далекий корабль, идущий на всех парусах, и золотеет мало-помалу его крыло на закате».
«Шлюпки и ялики скользят по Неве, оставляя за собою золотистую рябь. Посмотрите на черные реи кораблей, поднятые в небо у самого моста, где стоите вы, послушайте замирающий городской шум, и вы все же будете иметь только бледное представление о величественном зрелище Петербурга в июньский вечер». Замечательно, что у неизвестного автора гида Беллицарда, так же как у Гоголя или в «Петербургских вечерах» Ж. де Местра, – одна картина столицы: июньский вечер и невская заря, щемящая и своим реющим величеством и своей трагической и безмолвной предопределенностью. Де Местр, забытый нами французский певец Петербурга, славит его «прекрасные белые ночи, когда диск солнца, окруженный алыми облаками, катится над темными рощами петербургского горизонта, как огненная колесница, и когда пламя колесницы, отражаясь в стеклах дворцов, кажется пустынным пожаром…»
Так рассказывает о Петербурге сороковых годов французский гид Беллицарда.
И когда перелистываешь его книгу, понимаешь, что не Петербург – призрак, но мы все – призраки…
А магический Петербург в величественной пустынности своей и сегодня смотрится в невские воды и ждет.
Он ждет новых россиян, достойных его гения, его красоты и величества, – он ждет нового вдохновения России.
Масоны
Апрельские теплые вечера. Сухой грохот не умолкает над Парижем днем и ночью. Вспышки выстрелов, низкие зарева зловеще бороздят небо.
Нейи уже стало кладбищем. Погнутые фонари, груды дымящегося щебня, деревья, разбитые в щепы, печные трубы обрушенных домов, как черные клыки. Снаряды версальцев с горячим визгом рвутся над Триумфальной аркой, заваленной мешками. Барельефы в мелкой ряби осколков.
Грохот грозного поединка Франции и Коммуны раскатывается над опустевшим Парижем…
29 апреля 1871 года прошел легкий, совсем летний дождь. На Елисейских полях свежо зазеленели конские каштаны, мокрые от дождя. Париж влажно посветлел. Дым канонады огромно и косо висел над мокрыми, в отблесках, крышами.
Батареи версальцев как будто вели с Парижем упорную, мерную игру в биллиард, выбирали лузы, и с грохотом катились туда чугунные шары ударами громадного кия.
С утра у Отель де Билль играла музыка. На площади собрались люди в поношенных высоких цилиндрах, в сюртуках, некоторые с зонтиками. У всех много волос, обширные бороды, на жилетах золотые и серебряные цепочки часов. На площадь, где составлены в козла ружья пикетов Коммуны и в ряд стоят легкие пушки, пришли депутаты парижских франкмасонских лож.
С балкона, обитого красным, как подмостки на ярмарке, люди в черных сюртуках, опоясанных красными шарфами, комиссары Коммуны, тоже похожие на ярмарочных зазывателей, размахивали руками и больше всего кричали о справедливости и человечестве.
В Париже уже расстреливали толпами заложников, и старые тюрьмы Мазас и Ля Роккет были вповалку забиты арестованными.
После речей люди на площади обнимались, подхватывая друг друга под талии, как на сцене, потом все фальшиво пели «Марсельезу» и фальшиво бряцал оркестр.
Пушки глухо рыли воздух. И оттого, что трясло воздух пушечным гулом, а люди обнимались, говорили пышные речи и нестройно пели, многим на площади было как-то неловко, не по себе.
Потом люди пошли толпой к Елисейским полям. Скоро им стало душно. Запылились высокие цилиндры и сюртуки.
Они шли под знаменами масонских лож. Над мохнатыми цилиндрами качались на шелковых витых шнурах знамена синие, желтые, со странными знаками: ульи в пчелиных роях, солнца с крутыми лучами, полуразрушенные колонны, увитые зеленым плющом, руки, соединенные в рукопожатие, молотки каменщиков.
Над людьми, как над стадом, вилась тонкая пыль. Все были опоясаны короткими белыми передниками из мягкой кожи, тоже со значками, огненными запятыми, вышитыми зелеными ветками, полушариями, лунами.
Многие опирались на зонтики. По жилетам, через грудь, были выпущены синие, черные, вишневые ленты, очень широкие, с золотым шитьем, и перекинуты через шеи медные цепочки. На них звенели наугольники. Все были как бы кавалеры необычайного, чудовищно-пышного ордена, а прохожие могли думать, что собралось шествие помешанных: есть такое помешательство, когда люди украшают себя лентами фантастических знаков отличия, лун, солнц.
Это были члены масонских лож «Великого Востока», братья, как они называли себя в ложах, а вел их досточтимый брат-мастер Фирико.
Им было неловко в тяжелых сюртуках, лица накалились от духоты, все осматривались с тревогой: что если хватит снарядом на Елисейских полях. Они боялись за себя.
Потому, что они боялись за себя, они и решили выйти со своими лентами, лунами, наугольниками, ульями. Коммуна охотно позволила небывалую манифестацию: у Коммуны, оказывается, есть такой союзник, как масоны «Великого Востока». Коммуна согласилась и на их переговоры с Версалем, не все ли равно о чем, но такие, чтобы Коммуна осталась, а Версаль куда-то исчез.
Среди этих людей было много богатых парижских торговцев, легко наживавшихся при империи, инженеров и докторов, содержателей кафе и танцевальных зал, адвокатов, чиновников, учителей, виноторговцев, фотографов, фармацевтов, журналистов – всех, кто считал себя почему-то настоящим Парижем, настоящей Францией.
В ложах они привыкли думать о себе, что они умнее других, всего профанского мира, что они сила. Их тешили ленты и наугольники, пускай тайно, но отличающие их от других существ на свете. Их тешило, что они тайная сила, что они знают какую-то особую тайну, хотя это был все тот же маскарад лент и значков.
Среди них было немало так называемых почтенных отцов семейств, расчетливых собственников, немало мелких и жестких мещан, скопидомов, узких до тупости в своих привычках, но все они считали себя революционерами. Они думали, что именно они наследники революции 1789 года.
Слово революция они заменили, впрочем, словом прогресс. У них все покрывалось и оправдывалось этим механически-мертвым, бесконечным, безостановочным, ужасающе мчащимся куда-то прогрессом. Вся эта Коммуна после осады, голода, поражения, когда Париж сами французы громят пушками, когда в Париже расстреливают заложников и добивают раненых, у них тоже получалась как-то прогрессом, хотя они едва подавляли к ней свое отвращение и страх.
Как многие люди своего времени, они верили только в самое явное, в самое плоское, в легко доступное и легко понятное, особенно во всеобъясняющую будто бы науку, технику, но больше всего в свои собственные маленькие удобства, в свои маленькие выгоды.
Это и был авангард прогресса, как они себя называли. Прогресс был для них какой-то смесью телеграфа, масонства, железных дорог, социализма и личного их благополучия.
Теперь они взяли свои флаги, ленты, надели наугольники, пахнущие медью, и пошли уговаривать в чем-то Версаль.
Среди своих знамен они несли изъеденное молью знамя первой масонской ложи Франции, «Мизраим» и «Персеверенс» 1790 года, времен крови, когда тупо стучал на помосте нож гильотины и ходил по Франции костлявый террор, сам гражданин Ужас.
«Персеверенсом» и «Мизраимом» они как бы хотели заклясть или заворожить Версаль.
Так они дошли до Триумфальной арки. Дальше кипел белый дым разрывов. Но многие из них, со стягами, стали перелезать через мешки и пушки. Они вышли на авеню Великой армии. Они шли от Коммуны к Версалю: они сила, перед которой должно умолкнуть все…
Версальцы заметили выблескивающие флаги и медь. Огонь стал стихать. Версальцы решили, что Коммуна высылает парламентеров.
И в четыре часа канонада умолкла.
Внезапная тишина стала в Париже, точно все замерло, чутко внимая чему-то. На Елисейских полях шумели конские каштаны, сырые от утреннего дождя.
Те, кто остался у Триумфальной арки, уверяли, что артиллерией у версальцев командует генерал Монтодон, тоже масон, и «вот видите» – пушки уже умолкли, и «вот увидите» – масоны спасут Францию и прогресс, причем под прогрессом, по-видимому, понималась Коммуна.
С последних укреплений Коммуны трое масонских депутатов пошли к линиям версальцев. Ни выстрела. Молодые офицеры приняли их, четко отдавая честь. Трех депутатов повезли в Версаль.
Там их тоже приняли очень любезно. Все трое говорили пышные речи, не то требовали признания парижских коммунальных прав, не то прекращения огня. Они сами толком не знали, чего требовали и зачем вмешались.
На рассвете их отпустили в Париж. Пыльные и гордые собой – от одного их прикосновения умолкло все – они вернулись к Триумфальной арке, и там, перед тем, как разойтись, снова говорили речи о том, что человечество назовет этот день историческим…
А потом утренний ветер зашумел в каштанах, и в сумраке темного неба вспыхнул первый выстрел, зловещее зарево канонады.
И снова загремели пушки версальцев из Нейи и Аньера, как грозные голоса возмездия, как раскаты смертельного поединка, которого не прервать никому, в котором или Коммуна беспощадно добьет Францию, или Франция беспощадно добьет Коммуну.
Убийца Столыпина
Сын миллионера – Сноб-анархист – Революционное тщеславие и месть за еврейские погромы – Неразоблаченные тайны охранного отделения
Крупные губы, полуоткрытый большой рот, безвольно-вдавленный подбородок и маленькие глаза, упорно глядящие сквозь стекла пенсне без ободков, – невыразительное и незначительное лицо молодого человека с впалой грудью, который мог бы быть и страховым агентом, и маленьким чиновником…
Это и есть портрет убийцы Столыпина, Дмитрия Богрова, приложенный к только что вышедшей в Берлине, по новой орфографии, в издательстве «Стрела» книжке его брата В. Богрова «Дмитрий Богров и убийство Столыпина, разоблачение «действительных и мнимых тайн».
Ничего демонического, ничего зловещего в лице убийцы нет, и весь тот налет таинственности, который остался в памяти о Дмитрий Богрове, захваченном в театре с дымящимся револьвером в руке, – совершенно выветривается при взгляде на его портрет.
В. Богров обещает в книжке разоблачение тех «действительных и мнимых тайн», о которых убийца Столыпина писал из крепости в предсмертном письме родителям 10 сентября 1911 года, накануне казни:
«Я знаю, что вас глубоко поразила неожиданность всего происшедшего, знаю, что вы должны были растеряться под внезапностью обнаружения действительных и мнимых тайн. Последняя моя мечта была бы, чтобы у вас, милые, осталось обо мне мнение, как о человеке, может быть, и несчастном, но честном».
Брат убийцы и занят только тем, чтобы доказать, что Дмитрий Богров был «честным», то есть если он и был агентом охранки, то «по идейным соображениям», а на самом деле «его образ жизни» был «отличным от образа жизни рядового человека», причем он, как анархист-коммунист, якобы «разлагающим образом действовал на существующее».
Такой цитатой из анархического манифеста Рамуса В. Богров прикрывает Дмитрия Богрова, изображая его неким «анархистом-разлагателем», как будто такое обозначение более привлекательно, чем простое определение Дмитрия Богрова убийцей.
«Отряд жандармов ворвался в ночь после покушения на Столыпина в дом отца, – рассказывает В. Богров. – На заявление родственницы Дмитрия Богрова, что родители его, находившиеся тогда за границей, будут страшно потрясены известием о случившемся, начальник отряда заявил следующее:
– Дмитрий Богров потряс всю Россию, а вы говорите о потрясении его родителей».
Эти умные и простые слова полицейского офицера вспоминаются не раз, когда читаешь книжку В. Богрова – книжку потрясенного родственника, который во что бы то ни стало и не считаясь ни с кем и ни с чем занят только подбором доказательств, что его брат, хотя и был агентом охранки, но был «честным революционером», действовавшим по малопочтенному, впрочем, принципу, как указывает сам В. Богров, – «цель оправдывает средства».
Впрочем, от таких доказательств ни убийство, ни убийца не становятся привлекательнее.
В. Богров не подметил в своем брате той самой главной его черты, на которую указывает один из сотоварищей Дмитрия Богрова, анархист П. Лятковский:
«Дмитрий Богров не хотел быть мелкой сошкой, чернорабочим от революции, а стремился лишь к совершению чего-либо грандиозного, из чувства тщеславия».
Сын киевского миллионера-домовладельца, баловень богатой еврейской семьи, «молодой помощник присяжного поверенного», Дмитрий Богров, по замечанию В. Богрова, «пользовался в родительском доме преимуществами человека, которому открыты все пути и возможности, не знающего отказа ни в одном сколько-нибудь разумном желании».
«Во время своих частых поездок за границу и в Россию, равно как и во время пребывания дома, Дмитрий Богров получал от отца определенное месячное пособие, которое составляло от 100 до 150 рублей в месяц, а после окончания университета в Петербурге – 75 рублей в месяц, тогда как Дмитрий Богров имел еще и жалованье по службе секретаря в комитете по фальсификации пищевых продуктов при министерстве торговли и промышленности – 50 рублей в месяц, а также зарабатывал кое-что и по судебным делам».
Прибавим к этому, что еще 100–150 рублей в месяц Дмитрий Богров получал с 1907 года как агент охранного отделения. К тому же отец платил ему также за управление домом в Киеве, на Бибиковском бульваре (фотография этого мещански-аляповатого дома зачем-то приведена в книжке этих «семейных воспоминаний»).
Как видно, Дмитрий Богров ни в чем и ни от кого не получал отказа. Его возят по заграницам, в декабре 1910 года он «отдыхает на Ривьере», в августе 1911 года, за несколько дней до убийства, он снова «отдыхает» на даче родителей «Потоки», под Кременчугом.
Он, несомненно, был избалованным средой и жизнью человеком, для которого «разлагающий анархизм» был, по-видимому, только снобизмом, баловством духа. Это был, по-видимому, тщеславный честолюбец, не желавший ни в чем быть «мелкой сошкой», а думавший о себе как о сверхчеловеке, которому все дозволено.
Психологически этот тип ближе всего к тем двум американским «сверхчеловекам», тоже сыновьям миллиардеров и тоже полагавшим, что они «сверхчеловеки», которых судили недавно за ужасное и мучительное убийство ребенка…
Но Богров, следуя «моде» своего времени, с гимназической скамьи «ушел в революцию», и потому-то суждено ему было стать не обычным убийцей или преступником по «сверхчеловечности», а убийцей государственного человека России.
Никак не анархизм, а одно убийство Столыпина – выбор его как жертвы – вот, что было навязчивой идеей Дмитрия Богрова, и книжка В. Богрова, не замечая того, дает все данные к такому заключению:
– Я еврей, – сказал Дмитрий Богров во время свидания с социалистом-революционером Е. Лазаревым в 1910 году в Петербурге. – И позвольте вам напомнить, что мы и до сих пор живем под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей и тому подобных злодеев. А Герценштейн? А где Иоллос? Где сотни, тысячи растерзанных евреев – мужчин, женщин и детей, с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами… Вы знаете, что властным руководителем идущей теперь дикой реакции является Столыпин. Я прихожу к вам и говорю, что я решил устранить его…
В феврале 1911 года вышел из киевской Лукьяновской тюрьмы анархист П. Лятковский. Дмитрий Богров вызвал его к себе и «сам первый заговорил о том, что товарищи обвиняют его в целом ряде предательств»:
– Только убив Николая, я буду считать, что реабилитировал себя, – сказал Богров.
– Да кто же из революционеров не мечтает убить Николая! – перебил его Лятковский.
– Нет, – продолжал Богров, – Николай – ерунда. Николай – игрушка в руках Столыпина. Ведь я – еврей – убийством Николая вызову небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина…
В семье Богрова, несмотря на то что его отец был даже «членом киевского дворянского клуба», господствовала, по-видимому, «левизна» убеждений. Отец Богрова «примыкал к левым кадетам», а старший двоюродный брат Богрова, Сергей, был социал-демократом. Этот Сергей всегда влиял на Дмитрия, и еще в 1909 году «они вели разговоры на тему о том, кто самый опасный и вредный человек в России, устранение которого было бы наиболее целесообразным. И в этих разговорах они неизменно возвращались к имени Столыпина…»
Пошлая оценка Столыпина, как виновника еврейских погромов, эта пошлая ненависть к Столыпину и были многолетней навязчивой мыслью Дмитрия Богрова.
27 августа 1911 года Дмитрий Богров приходит домой обедать в необычайно радостном и оживленном настроении (по свидетельству тетки его, М. Богровой). На вопрос тетки, что его привело в такое хорошее настроение, он отвечает, что имел совершенно неожиданный успех: у него, мол, наклевывается такое дело, которым он осчастливит мир.
Наклюнувшееся дело, которым «сверхчеловек» с Бибиковского бульвара решил осчастливить весь мир, – было убийство Столыпина.
Убийца, много лет обдумывавший свою «месть за еврейские погромы», олицетворявший виновника их в Столыпине и ради этой «мести» идущий на все, – вот в лучшем случае образ Дмитрия Богрова, рисуемый книжкой его брата. Многое в ней, впрочем, только опошляет этот незаурядный облик убийцы, как опошляют его и стихи Дмитрия Богрова к какой-то знакомой, зачем-то тоже приведенные в книжке:
Твой ласкающий, нежно-чарующий взгляд.Твои дорогие черты,Воскресили давно позабытые сны,Развернули широкие крылья мечты…и т. д.