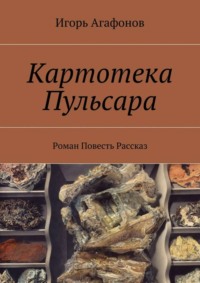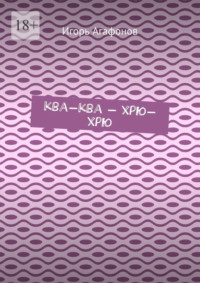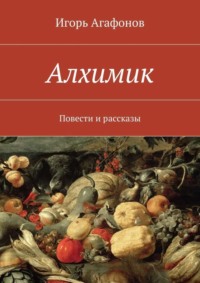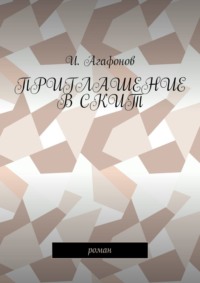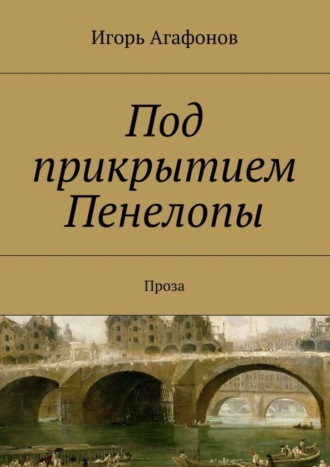
Полная версия
Под прикрытием Пенелопы
Ему нравилось, что я ходила в чулках (разумеется, не на теннисном корте), резинки от которых проступали через платье, когда мы отдыхали на скамье. Он попросту млел, когда смотрел мне на колени и на эти бугорки от резинок… Много позже я узнала, что он собирался бросить из-за меня семью. Да, много лет спустя сам лично рассказал, в ресторане – встретились совершенно случайно, и он затащил-таки в ресторан: «Как бы мне хотелось уехать с тобой на необитаемый остров!» – сказал он, чуть ли не со слезами на глазах, так проникновенно-проникновенно. А мне было весело…
Следующий обожатель – начальник одного из отделов нашего музея, Иволгин, этот хотел взять к себе – в своё, так сказать, подразделение, чтоб находилась поближе, под рукой… Как раз у нас намечалась реорганизация и он подговорил мою заведующую, чтобы она поспособствовала и уговорила меня. А я взяла да и уволилась.
Ой, даже случайные встречи заканчивались для меня свиданием. Монетку на телефон дала дядьке и он, представь, приходил ко мне на работу… Но это так – мимолётно – вспомнилось… до этого не разу не вспоминалось.
А Женька ревновал. Да и вообще, количество сошедших с ума по мне мужиков было невероятным. А я, как дурочка, и не замечала вроде… Знаешь, как к шмелям относилась. Липнут, ну что тут поделаешь?
Ну вот, Женька мне рамы для картин мастерил. В гости звал, на кровать хотел опрокинуть. Нет-нет, сказала. Расстроился ужасно.
Любила я и помучить мужичков. Поиграть. Азарт некий владел мною.
Историк в музее ещё хотел со мной… хм, дружить. Саша. Ну и дура я была. Невероятная.
Но особенно Иволгин меня опекал, сторожил как бы, едва трясучкой не заболел, даже всем стал в тягость – так частил в библиотеку. В валютный магазин водил в Питере – ездили всей группой в творческую командировку – поразить хотел, что ли? А когда ехали назад, он сделал так, чтобы мы в одном купе с ним оказались. Но женщин наших не проведёшь! – они к нам ещё двоих втиснули. Иволгин ночью вставал несколько раз и скрежетал зубами. Опять же смех меня разбирал. И страшно, как выражаются, и смешно. Забавляло это меня, да, но не более. Потом он на концерты меня приглашал и другие мероприятия культурные… Однажды, провожая, хотел поцеловать. Я ему: «Между нами быть ничего не может!» Вот такая игра с моей стороны. «Мучительница!» – его восклицание.
Много лет спустя один мой и его знакомый – я по делу какому-то зашла в дом офицеров – набрал его номер и дал мне трубку. И мой Иволгин на том конце провода чуть ли не проглотил язык – так заикался. Затем разговорился-таки, понёс всякие глупости – про жену, про аборт, что нет до сих пор детей у него… Между прочим, похвалился, что чин полковника ему дали, ездит теперь на чёрной «волге». Чепухня, короче. Да. И та женщина, которая запала на него, прямо возненавидела меня. Это тоже помню.
Я не обо всём и не обо всех рассказываю – лишь делаю набросок, чтобы понятно стало, в какой момент своей глупой жизни я встретилась с Эдуардосом. А пока продолжу про Тони.
Отец мой любил его почти как сына, выделял его среди всех наших друзей, потому что увлекался Кубой и очень любил разговаривать с Тони обо всём, что касалось этого острова Свободы (его даже прозвали Федька Кастрюлькин – Фидель то есть Кастро).
Короче, дружили основательно. И Тони иной раз говорил мне с улыбкой: «Если б ты знала, как мне порой тяжело бывает рядом с тобой!» – Мне это льстило, не скрою, хотя я опять же не воспринимала это всерьёз.
Ну вот. Незаметно подкралось время защиты дипломов в МАДИ. И Тони устроил прощальный вечер в общаге. Но со всей их группы был только Костя да я при нём, остальные – сплошь кубинцы, да и то скорее заскакивали – по делу якобы: кто письмо передать, кто… ну не важно. Помнится, я с утра уже была наэлектризована и не могла дождаться, когда придёт время идти, а Костя, как на зло, задерживался. И тогда я отправилась одна (сын был у мамы, она уже вернулась из Португалии, где пробыла три года). Прихожу в общагу. Самого Тони в комнате не застаю, но был кто-то незнакомый – он сидел за письменным столом спиной ко мне, в рваной футболке и почему-то в кепи на голове, хотя на дворе стояло знойное лето, и в помещении было достаточно душно. Да, я увидела сперва только спину незнакомца… и – что-то наподобие электрического разряда пронзило моё тело, так я неожиданно прореагировала на эту странную фигуру в полутёмной комнате. Затем незнакомец обернулся, и я спросила про Тони. Мой незнакомец вскочил, снял кепи, повертел в руках, опять одел, а я смотрела на его рваную футболку. Потом стала разглядывать его самого – прямо как экспонат: передо мной стоял, слегка покачиваясь с пяток на носки настоящий испанец. Вы представляете эту породу? Лишь самбреро не доставало.
Тут как раз Тони и явился, и познакомил нас… Да, всю вечеринку Эдуардос грустно поглядывал на меня. Мы пили кубинский ром, ели рис, что-то ещё… Я обычно привередлива, а тут ничего больше и не запомнила из еды. Как бы всё стало неважно. Этакое странное опустошение в груди, в душе ли…
Так вот, переглядывались мы с Эдуардосом, переглядывались, а перед самым уходом я хотела… Вернее, вспомнила историю, как одна моя знакомая передала записку поразившему её мужчине. И так мне захотелось сделать то же самое. Ни о какой морали я не думала. Вот взять и передать записку с телефоном и всё! И тут же гордыня во мне встопорщилась. И я ушла, даже не попрощавшись…
Потом Эдуардос сам взял телефон у Тони. Сперва спросил у него: есть ли отношения у него со мной. И Тони мне сказал после, что я нравлюсь Эдуардосу. Но только через полтора месяца – уже после отъезда Тони на Кубу – он мне позвонил… И все эти полтора месяца он не выходил у меня из головы. Образ его нет-нет и возникал перед затуманившимся моим взором. Сам собой. Смотрела я на Костю, а думала про Эдуардоса.
И вдруг он позвонил… и я, ещё только трещал телефон, подумала, что это он. И это оказался он! Он!
Мы договорились встретиться в парке ЦДСА. Предлог: Тони написал мне письмо…
Встретились в обеденный перерыв. Гуляли по парку вокруг пруда, где на островке в домиках обитали лебеди… Я улыбалась от счастья… Да, я была счастлива. И все, казалось, видели – и сотрудники-знакомые видели, которые тоже прогуливались после обеда по тем же дорожкам, как я была счастлива. И официант в ресторане спросил: «Алевтина, что с вами?» – то есть это было на моём лице пропечатано аршинными буквами, и все обращали внимание.
Я расспрашивала Эдуардоса о Тони, а он отвечал расплывчато как-то… И я поняла, что письмо для него – лишь повод, просто он хотел увидеть меня. Я позвала его в гости на следующий день. Сделала окрошку. Была в таком состоянии, что не могла убираться в квартире, ходила с веником, тряпкой, роняла их, а то и попросту забывала, для чего они у меня в руках. Эд принёс с собой спирт (он химик): специальный какой-то спирт, на вино или на что-то другое у него, должно быть, денег не хватало.
Он пошёл мыть руки, не стал их вытирать… дай, говорит, твои ладони. Током шибануло меня, так мы были наэлектризованы. А меня уже несло… потом я сожгла и его фото и часы его старые выбросила, всё, короче, что было с ним связано… но то было потом.
Пришёл Костя. Сели обедать, беседовали, Костя быстро запьянел. Мы с Эдом стали танцевать. И я, хоть и не пила ничего, чуть ли не в обморок сползала…
Эд остался у нас ночевать. Я долго стояла под душем, пыталась успокоиться, надеялась, что вода с меня смоет наваждение, рассчитывала, что когда выйду, все будут спать. Но свет в комнате, где мы Эду постелили, горел…
Я сижу на кухне. Костя спит. Я захожу к Эду в комнату, я сажусь к нему на кровать и всё – валюсь в его объятья… Это было безумие, только под утро уползла. Мы не могли друг другом насытиться…
Когда Костя проснулся, у меня лицо было точно коркой покрыто. Для Кости всё было ясно, но он подавил в себе… Эд ушёл. Назавтра позвонил, на Новослободской мы встретились (там его завод был). Сказал, что не хотел мне звонить несколько дней, но не смог выдержать. И скоро ему домой на Кубу. Всего две недели у нас оставалось. Полтора месяца после нашего знакомства не мог позвонить, а за две недели… Я плакала. Рыдала. Сплошное безумие.
Потом он уехал на лето. В свою кубинскую даль.
Костя, повторяю, всё знал, но я не хотела с ним об этом говорить… И потекли пять мучительных года. Эд то уезжал, то приезжал. Меня будто уничтожали, умерщвляли. Порой я теряла соображение напрочь. Истерики…
…И вот как-то, думая, что он вот-вот должен приехать, позвонила я своей приятельнице по бывшей работе, Нинке (я тогда уже уволилась из библиотеки), и попросила её сразу же мне сообщить, если кто-нибудь будет меня разыскивать: «Недельки через две, – сказала я. – Очень важный для меня человек». Я через океан почувствовала, именно за две недели, что он должен приехать. И Нинка мне перезвонила (через две недели, день в день): «Алюсь, ты что, колдунья?» А через четверть часа позвонил сам Эдуардос… Моя подруга Юлька уехала в Италию, Костя этого не знал, и я говорила при нём с Эдом, будто с ней. Эд ничего не понимал (ведь он испанец), всё же догадался назвать номер комнаты в общаге.
Костя вскоре ушёл на работу. Я посмотрела на себя в зеркало: всё лицо пошло пятнами. Попыталась привести себя в порядок. И сумасшедшей поехала. Вхожу к нему в комнату и со мной истерика: бросилась в объятия…
– Я не ожидал, что ты так скоро…
– Я же летела на крыльях…
И… любовь-морковь.
Всё это было для меня тяжелее тяжёлого. И так постоянно – муки жуткие. То и дело пыталась оторваться, отделиться от него. И в 91-м я улетела с сыном в Пакистан к матери погостить. Это был тот самый день – почему хорошо и запомнила, – когда на улицы Москвы выползла бронетехника. Для меня это не было ни переворотом, ни путчем, ото всей политики я отстояла тогда далеко-далеко – и помыслами, и душой, и телом; эти внешние события принимались мной как в украинской поговорке: паны дерутся, а у парубков чубы трещат. А Эд через несколько месяцев отправлялся к себе на родину окончательно. Вот я вернулась из Пакистана, а он, значит, должен уезжать со дня на день… Он не знал, что я вернулась… и я к нему не поехала. Решила твёрдо: больше не могу. И он уехал. А годы спустя, будучи на Кубе (маму уже туда перевели), я его искать не стала.
А с Тони мы там встретились, в первый мой приезд. Один раз всего. Он работал в тамашнем КГБ. Был женат на нелюбимой женщине – так сказал. Показывал Гавану, повёз меня на пляж, в тёмный кабак какой-то затем пригласил. И мы с ним танцевали. Он, очевидно, думал, что у нас случится близость… Бог мой, как его трясло! Очень меня хотел. Я по голове его погладила, спросила про Эда. Ответил не без досады: работает, мол, на заводе – стекло из сахарного тростника пытается делать. Или что-то в этом роде. Неудачно женился…
Вечером Тони привёз меня назад в посольство. По дороге встретил своего коллегу из Комитета… и когда я пригласила его на обед, сказал: «Я не могу…» И всё. Может, даже неприятности из-за меня возникли у него. Так он исчез с моего горизонта насовсем.
Сейчас вот вспоминаю. Лесная поляна. Жёлтая сурепка. Эд несёт в зубах мои ажурные трусики – и так грозится придти к нашей общей компании, а я пытаюсь отнять… смеюсь. Остальные уикендовцы, в том числе муж, гуляют где-то неподалёку.
А как соскакивала с электрички… Собралась в Тулу на дачу и Костя меня провожал. Я чинно вошла в вагон, подождала, пока муж уйдёт, и прыгнула на платформу с другой стороны. И увидала Костю. Стоит, смотрит, слегка ухмыляется. Я стала оправдываться – дескать, передумала ехать, но, кажется, зря… И мне после было невыносимо обидно, противно даже – за себя, за то, как я оправдываюсь, пытаюсь убедить… вовсе не потому не поехала, а… И ох уж эта его усмешка молчаливая, с которой он на меня смотрел…
Потом часа два по жаре ехала без остановок до Кашина. И два часа – назад в Москву. А у Эда – гости. Я прошмыгнула в ванну. И когда гости ушли, наконец… ночь без сна на узкой кровати. Назавтра Эд должен уезжать… И я его спросила: что он думает о моём муже? И он ответил: что всё это Костей подстроено нарочно, тогда, в первый наш… «Он хотел разбудить в тебе женщину… сам не смог, вот и… решил позвать другого…»
Пять лет мук – побег к другой жизни?.. Меня выпотрошила эта любовь… я задумывалась о суициде.
Потом как-то вынесло. Я пошла в клуб аэробикой заниматься. Появился какой-то смысл.
Я была центром, я была сама в себе… Я не понимала мужчин, с которыми была. А сейчас во мне что-то изменилось. Теперь я понимаю, например, сколько мужества было в Эде… И что они, остальные, не могли дать мне того, в чём я нуждалась – всепоглощающей любви.
Кстати, у нас с Эдом были на ладонях совершенно одинаковые линии жизни, а к пятому году стали расходиться…
Тогда же поссорилась с отцом из-за Анны Карениной. У него был свой взгляд на Анну… Я чуть позже, когда успокоилась, записала его монолог, и, пожалуй, процитирую – напомню самой себе и подумаю: стоило ли обижаться:
Начал он так:
– Ах, ты на стороне Аннушки? Ну конечно, как может быть иначе. Но давайте, хоть и не по пьянке, но разберёмся всё ж, что есть такое наша обожаемая Аннушка…
– А почему ты её так запанибратски обзываешь? – насторожилась я.
– Хорошо, пусть будет Анюта, какая разница. Мы либо о сути говорим, либо вообще нечего разводить тарусы… Дело ж не столько в ней, сколько в хитреце Толстом. Ведь Лёвушка облекал свои концепции в поразительно художественную оплётку – в живое, что называется, мясцо. Так одевал в плоть и кровь, что закачаешься!.. Ну не отличишь от жизни и всё тут. Потому о концепциях и забывалось. Потому о тенденциях и тенденциозности не говорим. А это же очень опасно, согласись. Перепутать жизнь с литературой – не просто драма, – трагедия! И многие путали. Заблуждались. Укладывали свою жизнь на алтарь веры или безверия… вместо того, чтобы жить своей собственной жизнью. Понимаешь?
– Гни дальше, – насупивалась я.
– Гну, баронесса! Ну, действительно ж художник с наиглавнейшей буквы… не кидая камня в зарубежный огород, конечно. Да, так вот-с. Пластика, аромат, звук… всё присутствовало. Поэтому Аннушка нам всем симпатична до… тошноты. Пардон, – глянув на меня, поправился отец, – до забвения, хотел я сказать. Тем более с обворожительным Вронским. А если на текст наложить кино с превосходными артистами – о-о! – незабвенными Гриценко, Лановым и Самойловой… Да все там, кстати, поразительно, талантливо играют. И балерина та же известнейшая. Живут! Режиссура бесподобна. Но я отвлекся… Итак, в сущности, Лев Толстой над нами насмехается. Как так? Да так. Человечество трудно, с невероятными потерями двигалось к такому общественному институту – как семья. Потому что только семья способна дать полноценную защиту ребёнку. Обеспечить воспитание, пропитание и прочие потребности. То есть обеспечить будущее человечества, без преувеличения. Так? Вопрос риторический. А раз так, то всякие игры по разрушению семьи преступны и подлежат наказанию. Как снизу, так и сверху, – отец посмотрел на меня: понятно мне – нет? – и продолжал: – Преступны в глобальном смысле. А вот в частности – да, за свободу личности, за эмансипацию… – это всё и есть частности. Обманул нас Лёвушка! Обманул. А тут ещё и кино! Причём, как интересно. Гриценко, гениально сыграл Каренина и как бы сделал их… ну, этих… жертвами своей тирании… якобы. Не надо было ему так гениально играть! Не надо. Больше было б возможности посмотреть на всё объективно.
Отец ехидно пригнул голову.
– А объективность такова, что ваша Аннушка… наша-наша… я также в неё влюблён, как и ты, мадам. Но объективно она – шизофреничка. Обыкновенная шизо. Да-а. Зачем Лёвушка взял в героиню… в героини… в общем, взял зачем шизофреничку? Отвечаю. Все художники так делают. Через больного человека гораздо легче донести до читателя и зрителя свою идею. Понимаете. Тот же идиот, скажем, Достоевского. Ну возьми ты нормального человека – и что? Да ничего. В смысле, ничего особенно выдающегося не получится. Нормальный человек он и есть нормальный. Он особо на провокации не поддаётся… гад такой. И потом, если наша Аннушка такая восторженная и непосредственная, так сказать, отчего ж она замуж по расчёту вышла? И затем – разведите меня, но только при полном пансионе, полном обеспечении, к какому я привыкла. Что-то тут опять не сходится, а?
– Ну, – вспыхнула я, – ты ж сам себе противоречишь. Ратуешь за семью и тут же бросаешь своих детей…
– Я про Аннушку… к слову, так сказать. О том, что незачем слепо подражать…
– А я подражаю? – вскинулась я и показала зубки.
После этого мы полгода с ним не разговаривали.
7.
Вчера Миронов предложил Алевтине посетить книжную ярмарку. Предполагал, что она найдёт самоотвод. Ошибся: она восприняла приглашение с энтузиазмом, даже обещала позвать отца, который жил от выставки в двух шагах.
Заточкин использовал ярмарку для презентации своей книги.
Выполнив кое-какие организационные поручения, Миронов примостился неподалёку от своего стенда и стал наблюдать, как Чурма рекламирует в микрофон своего шефа:
– Лучший поэт-песенник года! – вещал Чур с искренним воодушевлением. – Почётный гражданин города!.. Кавалер сорока литературных премий!.. Вы можете сейчас купить и диски и сборники и, не отходя, как говорится, от кассы, подписать свои приобретения у самого автора! Пользуйтесь случаем! Не упускайте шанс! Сегодня вам доступен гений – в непосредственной близости… Доступ свободен, но ограничен временем. Спешите да успеете! Эксклюзив обретёт в будущем значительный вес и цену редкостного раритета! Спешите и вы обеспечите своих внуков духовным и материальным благом!
«Кто, интересно, сочинил эту благоглупость, неужто сам Заточкин? Надо бы спросить…» – Миронов видит: публика вяло реагирует. То ли совсем потеряно чувство юмора, то ли всё подобное надоело ей до отрыжки – это ёрничанье теперь повсюду.
Сам Заточкин сидит неподалёку от стенда, едва умещаясь за столиком (столик мал – живот велик), и, не морщась, подписывает свои сборники посетителям, как будто отрезает ровные порции пирога с маком, и отодвигает в сторону, освобождая место для других… На лице его блуждают значительность и что-то вроде опьянённости торжественностью момента.
Тут к Чуру подошли из других павильонов и попросили убавить громкость…
Увидав поднимающихся по лестнице Алевтину с отцом, Миронов поспешил в немецко-русский павильончик, где пропагандировалась электронная библиотека, раздавались бесплатно компакт-диски и шоколадные конфеты.
Когда вернулся с конфетами в кармане, Алевтина и Илья Сидорович стояли с Заточкиным, и все помощники от студии роились вокруг них и что-то горячо обсуждали. Поистине, у Алевтины дар – собирать вокруг себя поклонников…
Побродив среди толпы у других павильонов, Миронов направился к выходу. Там уже стоял Заточкин – в ожидании, что кто-то его узнает и подойдёт за неполученным по забывчивости автографом? – это за ним – знатоком психологии и механики людского поведения – и раньше замечалось на других мероприятиях: он так же стоял у выхода, подбирая последки славы. Или – мелькнула вдруг догадка – ещё раз покрасоваться перед Алевтиной?
***
Когда Илья Сидорович у себя дома варил для своих гостей пельмени, то, уронив сырой пельмень, сперва отпнул его в угол, затем воровато оглянулся и подобрал, после чего, как картёжник из рукава, украдкой сунул в кастрюлю.
«Надо запомнить, – заметил себе Миронов. – Характерная деталь… Как-то сумбурно прошёл день, неприятный осадок…»
Теперь предстоял ещё вечер официального открытия Студии. Алевтина в последний момент передумала идти: у неё разболелась голова.
***
Столик, за которым устроились Ейей с Волохой, находился в самом конце актового зала, но и тут гул гостей мешал разговаривать, поэтому Ефиму Елисеевичу пришлось пригнуться над столом, дабы сократить расстояние до конфиденциального.
– Слушай, я вот всё думаю, откуда произошло слово…
Тут, однако, поверх Волохиного плеча Миронов увидал на входе отца Александра и, привстав, помахал ему рукой. Священник слегка поклонился в его сторону и повернулся к Заточкину.
– Так ты про какое слово?
– Реклама.
– Ну?
– Рек Лама. Лама изрёк. А Лама, сам знаешь…
– Ты думаешь, он придаёт какое-то значение всей этой рекламе собственной персоны? Сомневаюсь.
И увидав по лицу Ейей понимание, о ком речь, продолжил:
– Просто он преотлично осведомлён о психологии и вкусах среды обитания. И долбит и долбит в одну точку. Кто там из древних постоянно говорил на собраниях: Карфаген будет разрушен!
– Я разве спорю? Чего ты раскукарекался? В адепты записался? Кстати, хочу познакомить тебя с батюшкой. Очень образованный человек. И пишет весьма и весьма…
– О чём же он таком пишет?
– О духовном, мой друг, о духовном.
– Да? Надо у него тогда кое о чём поспрошать. Он подойдёт?
– Должен.
– Но как он сюда затесался?
– Ты не дооцениваешь нашего боса. Заботясь о нашем благе и престиже организации, он рыщет и рыщет повсюду… и у всех попросит, и всем пообещает. Талант, одним словом. А тут всё-тки двойное торжество. Круглая дата и рождение студии… Да ещё книжка вышла – это уже…
– Три. Освятить решил? Да ну?!
– А ты против?
– Я-то не против! Но ты разве не читал последний его стих?
– Ну и чего там?
– Да он с Христом расчихвостил в пух и прах.
– В каком смысле?
– В таком… Прямом. Не будь Тебя, сказал, не было б стольких хлопот. Были мы раньше свободны, как дети, и в этом наш крепкий оплот. Ну что-то в этом роде. Язычник, одним словом.
– Подожди! Кто-то из… известный поэт прошлого столетия уже сочинял подобное… Как его?.. Да быть не может! Он же осторожен, как не знаю кто.
– Так во-от, и я о том же. Стало быть, кому-то по дружбе… Ангажемент.
– И опубликовал?
– Этого не знаю. В рукописи соизволил… посоветоваться.
– И что ты ему присоветовал?
– Т-с. Твой батюшка… к нам направляется. Ему руку целовать обязательно?
– Это сугубо личное дело. Он прекрасно видит, кто перед ним…
– И кто же я?
– Да то же, что и я. Пр-родукт эпохи атеизма.
Через минуту, едва седовласый отец Александр, присел за столик, Волоха предложил тему для беседы.
– А вы читали, батюшка, поэта… Тришкина? Талантливый, впрочем, но… расправился с Христом в одном своём стихотворении.
– И в чём же заключается сия расправа? – спокойно и чуть насмешливо посмотрел на Волоху батюшка.
– Видите ли… поэт сожалеет, что учение Христа заменило язычество. При нём душа человека, по его мнению, чувствовала себя вольготнее, свободнее. Человек якобы жил как часть природы, был ближе и к космосу.
– А вы скажите мне, как он закончил свой бренный путь?
– Ну… знаете ли, он ещё не закончил. Планов у него, как я полагаю, воз и маленькая тележка.
– Что ж… Человек не может работать со своим сознанием и своим талантом… э-э… один. Обязательно на пару. Какая наша главная отличительная черта от животных? Сознание, так? Со-знание, со-трудничество… со-действие… знание совместное, значит. Иными словами, либо он с Богом, либо с Дьяволом. Если человек-творец живёт с Богом, открыт для него и молится ему, то Бог его таланты будет увеличивать и направлять. Ко благу всем. Но ежели человек на волне дьявола… ежели не верует в Бога или является верующим формально, то делами его заправляет дьявол. Человек этот может быть очень талантлив, но произведения его несут страшный, разрушительный заряд.
Отцу Александру показалось, что его окликнули, и он полуобернулся – Заточкин по-прежнему встречал новых гостей…
– Ещё не скоро, батюшка, – успокоил Ефим Елисеевич. – В списках столько народу, что будем мы тут навроде сельдей в бочке.
Отец Александр вернулся к прерванной мысли.
– Временами… Возможно, вы слыхали о таком явлении в психиатрии – альтернирующая личность. Врач наблюдает состояние такого пациента и видит, что тот становится как бы другой личностью: в состоянии изменённого сознания у него появляется определённая лексика, ранее ему не присущая: другой стиль мышления, другая энергетика. Например, из спокойного, уравновешенного человека он превращается в агрессивного, злого. От него прямо-таки пышет яростью. Затем – раз – и личность эта, яростная и злобная, так же внезапно исчезает, и возвращается прежняя. Так вот, у всех поэтов и художников, которые не являлись богоборцами, сознательными, нередко наблюдался подобный синдром. Когда дьявол не воздействует на них, они пишут иногда дивные вещи. Но в состоянии изменённого сознания, они творят совсем иначе… Скажем, ночью вскакивает такой творец и записывает уже готовые фразы… ложится опять спать, утром читает: неужто я сочинил? А сочинил-то не ты. Дьявол тебе сочинил, один из тех, кто с тобой контактирует, и тебе продиктовал, а ты записал. Многие сочинители признавались: я-де закрываю глаза и вижу бегущую строку, мне остаётся только зафиксировать её на бумаге. Вот вам и ответ на вопрос: как кто пишет. Значительная рать деятелей культуры – музыкантов, поэтов, художников и писателей – творили совместно, их сознание работало со-вместно с дьяволом, а не с Богом. Поэтому у разных сих творцов, взять того ж Есенина, мы находим – стихи дивной и даже духовной красоты. Журавли там, храм на горе… за душу берёт. Даже на песню переложили православные люди и поют. И он говорил: я верую в Бога, в матерь божью… но почему же временами мне хочется хулить Господа? И я тогда пишу страшные стихи! Сам признавался. Был такой эпизод, забрался он на колокольню Страстного монастыря и начертал на стене непотребное слово… как он туда забрался, не понятно. И чёрной краской намалевал, значит, страшное богохульство. Вот вам, пожалуйста. При этом он, повторяю, говорил: я верующий человек.