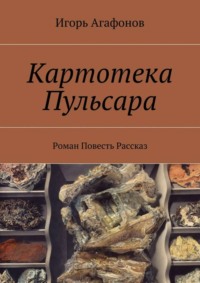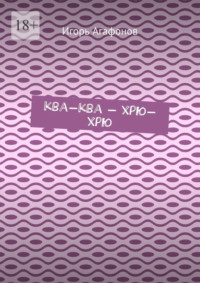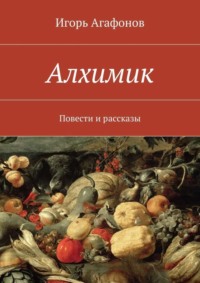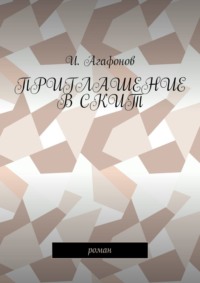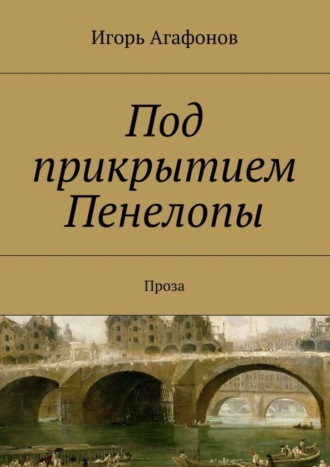
Полная версия
Под прикрытием Пенелопы
…Ефим Елисеевич резко развернулся и поспешил в противоположном направлении, то есть вверх. Но Чур нагнал. Разве убежишь от Чура!
– Слушай, а я ведь тебя ищу. Тут мне одно дельце предложили – как говориться, на мульён. Ты как насчёт мульёна?
– А если ближе к сути?
– Суть вот в чём. Мы сочиняем что-то типа рекламы, обеспечиваем, как говорится, литературную атмосферу мероприятия и-и…
Чур отвлёкся, потому что надо было раскланяться со встречным представительным подполковником.
– И?
– А они нам мульён.
– И всё?
– Нет, почему. Это же целая кампания. Бизнесмены дают деньги, потом кое-кто из них с туристами ползут на Эверест, а мы с тобой…
– Осмысляем ситуацию. Создаём атмосферу.
– Вот именно! Люблю я с тобой общаться – понимаешь с полуслова.
– А зачем твоим бизнесменам на гору взбираться? Тем более на Эверест… Такая высокая горочка.
– Ты тёмный человек! Это ж международный благотворительный фонд!.. Где ещё, как не на Эвересте, наводить политес? Ну!
«Эверест – это метафора, или?.. Опять шутовщина какая-нибудь… Анекдот?»
Чур нередко свой бред выдавал за последние достижения общемировой мысли. Позже, однако, когда окружающим становилось ясно, что бред имеет и последствия бредовые, Чур скромно объявлял свою идею очередной шуткой и… И всё. Шефу Заточкину, видимо, нужен был и такой вот человек – шут по природе и по темпераменту. На шута не обижаются, шута не имеет смысла и обижать, но через шута Заточкин мог запустить пробный шар какой-нибудь своей идеи и узнать общественное мнение… Словом, царь и молва, юродивый и верховная власть…
– Тогда записывай. Начнём прямо сейчас создавать атмосферу. Записывай, – Миронов постучал пальцем себе по лбу. – Я залез на Эверест… и насилу с него слез. А других вообще снимали вертолётом МЧС.
– Стой-стой! Я запишу! Стой! Я действительно хочу записать! Ну стой же! – Чур полез за блокнотом в карман. – Стой! Есть ещё одно дельце. Шеф недоволен, что я у него один-единственный материально ответственный. Давай, я тебя порекомендую вторым…
– Ответственным материально? Хм. У меня от двух квитанций в глазах рябить начинает, а ты ответственным… Зачем? – Ефим Елисеевич прибавил шагу.
– Как зачем?! Одного убьют, второй останется.
– Да? Подумаем – обмозгуем. Ты записывай-записывай. В другой раз я тебе ещё чего-нибудь сочиню, – и резко свернул в первый попавшийся коридор. Сделав зигзаг, он спустился на нужный этаж по другой лестнице и остановился перевести дыхание, прежде чем войти в кабинет Заточкина.
За предложением Чура о материальной ответственности – задачка нетрудная – опять же торчат уши Заточкина: очевидно, мудрый и прожженный кадровик-политик, каковым был шеф, хотел понять, как его сотрудник Ейей относится к преобразованию ведомственной структуры в частную творческую организацию, шелест слухов о чём уже пару недель колышет портьеры кулуаров… Может, никаких реальных планов и нет, но Заточкин такие методы использует для проверки преданности к своей персоне…
Из-за чуть приоткрытой двери услышал:
– …Да пошёл он!.. – Это был голос шефа.
– Дело не в этом, – отвечал Чур. – Вот я вернусь из командировки, которую Мирон придумал…
– А ты ему не говори.
– Как это? Он же всё равно узнает.
– Ну и что?
Пауза.
– Но он же как-то должен отреагировать…
– Пускай.
– Но это ж его идея, шеф. Воровство получается.
– И что? На Руси идеи ничего не стоят. Важен итог – кем идея вкручена в мозг обывателя. С идеей – это как с бабой. Ночку переспать и на утро она твоя.
– Но он же мне… морду набьёт.
– А ты боишься?.. Эх ты, майор! Такой с виду бравый…
«Вам нужно, чтоб я отреагировал?.. – спросил себя Ефим Елисеевич, благоразумно удаляясь вспять по коридору. – И как же я отреагирую? – задал он себе следующий вопрос: – Возможно, я вспылю… Им этого и нужно… Так какие мои действия?.. Вам нужно, чтоб я отреагировал?.. Смешно иль нет?
Не понимаю…»
И тут вспомнил Миронов анекдот из своего «Пособия…», в основе которого была шутка Заточкина. Шеф умел разоблачить человека и посмеяться над ним, не прибегая к прямым выпадам и обвинениям. Он поступал иначе – он режиссировал ситуацию. Так он спровоцировал и майора Чура на обличительную речь, и тот саморазоблачился, выставился во всей красе…
«Вот вам некое Учреждение или Организация (после проведённого мероприятия – с горячительными напитками). А всякое учреждение – это своего рода сценическая площадка для всякого рода инсценировок. Согласны? Тогда пошли дальше.
Мероприятие было масштабным с привлечением большого количества участников и, разумеется, зрителей. Сопряжённое, напоминаю опять же, с выпивоном и выпивоном грандиозным. Иначе выражаясь, – банкетом, размах коего определялся и газетчиками с писателями, телевизионщиками с юмористами, а также количеством опьяневших в разной степени. Как сказано кем-то из проказников: что это за банкет такой, если никто не напился! Значит, либо нечего было пи-ити, либо закусон был настолько убогий, что никто не осмелился понадеяться «на лучшее» и не решился прикоснуться к пагубному зелью обстоятельно… Но это ещё не анекдот, это наша с вами реальность. Хотя от любой реальности, как мы уже договорились, до анекдота один всего лишь шажок. Так вот пошагали…
И, значит, мероприятие состоялось, затем закончилось, наступил день разбора «полётов». Один выпивоха, оказывается, сотворил то, другой – это. Но в целом всё нормально, даже превосходно, поскольку посторонней публикой промахи наши не замечены. А это главное, не так ли? То есть, стало быть, всё прошло по высшему разряду. Однако руководителю (руководителю любому) снять стружку всё равно надобно, необходимо даже, на будущее, по обязанности. Для профилактики (кажется даже, закон такой есть). Да и не остыл ещё наш начальник – пары спустить требуется. И все это понимают. Кое-кто если и огрызается, то осторожненько, аккуратненько… Кроме одного (а такой обязательно должен найтись – ну или он бросил некогда пить и теперь считает себя непогрешимым и неуязвимым поэтому, или… ну, вариантов много) – назовём его настоящим майором. Для понту. Вот он, майор Ч., поднимается со своего места – видимо, чувствует, что недостаёт нам некоего всплеска эмоций… а может, всё проще – помоложе он остальных, менее опытен и понял ситуацию слишком буквально, и на полном серьёзе решил эффектно выступить и высказаться определённо. Да столь определённо, что кой-кого потянет на философию. Типа: нормальный-де человек не от вина сваливается в штопор, а от наслоения – семейных неурядиц плюс ангины или гриппа плюс, наконец, пресловутой потери бдительности: вместо пяти рюмок махнёт бедолага шесть-семь-восемь и – готов, тащи его после этого до дому и при этом ругайся почём зря…
Впрочем, любая теория достаточно спорна. Вернёмся к нашему майору. Или, как говорится, к нашим баранам.
– Вот я сроду никого не подводил! – говорит он, майор наш. – А тем более до такой степени… – а он как раз останавливается за спинкой стула провинившегося, гулёны нашего, так что всем ясно, кого он имеет в виду. Гордо этак взирая на всех, даже победоносно взирая – можно сказать. С превосходством победителя взирая… Каково? Все промолчали, наблюдая столь дивную метаморфозу своего коллеги-майора. И не потому, что сказать было нечего, а просто… кислород в голову ударил. И – далее, пребывая, так сказать, в эйфории обличения… Это надо ещё обладать таким даром – чтобы каждый раз и каждый раз невпопад что-нибудь да сказануть эдакое.
И это анекдот? – спросите вы. Нет, конечно. Анекдотом он станет через месячишко-другой, когда наш майор Ч. сам назюзюкается и будет с ужасом неопохмелённого вспоминать свои скоропалительные обличения… а мы ему будем сочувствовать. И радоваться будем, что в нашем полку прибыло. В полку пьющих».
Вышагивая по коридорам учреждения, Миронов в своей голове перемалывал вот что:
– …Волоха любит повторять из Станиславского: ищите в злодее что-нибудь доброе… Чем тебе плох шеф? Разве он чужд добродетели? Организовал студию, взял тебя сотрудником, наградил медалью, посылает в командировки… Ревнив, правда, как жена… А что касается всякой мишуры, что на стенках висит – грамоты, дипломы, вымпелы… всему этому он знает цену лучше всякого… и не забывает, какую роль играют они в нашей общественной жизни… ведь встречают по одёжке… да и начальство судит о твоей активности по тем же дипломам и наградам… Да и потом, сдаётся мне, что он опять подловил Чура на чём-то… и пытается его вывести на чистую воду… за мой счёт, правда…
Четверть часа спустя, осмыслив ситуацию таким вот образом и успокоившись, Ефим Елисеевич зашёл в кабинет, как ни в чём не бывало. Шеф со своим единственным материально ответственным лицом – Чуром – сидели друг против друга за большим столом, накрытым зелёным бархатом.
– Голова болит: забыть боишься кого-нибудь… – пожаловался Заточкин, подняв тяжёлый взгляд на Миронова. – Вот и сидишь со списком каждый день. Будь он неладен, этот юбилей.
– Волоху встретил, – сказал Чур, наклеивая на бутылку водки этикетку с изображением Заточкина. – Обижен на тебя. Что ты не дал ему пригласительный билет.
Заточкин криво усмехнулся.
– Ты чего так этикетку клеишь? Верх ногами!
Чур попытался ногтем поддеть приклеенную бумажку.
– Не тронь теперь! Испортишь. Типография чай не за бесплатно штампует! – Раздражённо вздохнул, подвинул к себе стопку буклетов с золотой цифрой 50 и собственной фотографией. – Иди-ка ты, Чур, займись-ка лучше насущными вопросами.
Чур охотно направился к двери.
– Постой! Ты ничего не хочешь мне сказать?
Изобразив на лице усилие вспоминания, Чур медленно вернулся к столу, глазами как бы спросил у Миронова: в чём дело, мол, не знаешь?
– Что же ты не поделился со мной? – откинувшись на спинку стула, сурово спросил Заточкин. – Куда тебе столько этих плакатов? Сбрендил? Куда ни глянь – всюду на растяжках твоя фамилия с физиономией! Это ж какие деньжищи на ветер!
«Вот оно в чём дело!» – мысленно усмехнулся Миронов и похвалил себя за то, что не повёлся на услышанный случайно разговор об украденной идее.
– Почему на ветер? – Лицо Чура побагровело, точно его макнули в тарелку с кетчупом.
– Ты хочешь сказать, что-то изменилось в мире?
– А что изменилось бы, будь там другая физиономия?
– Ты себя со мной не равняй! Рядом со мной ты бы гляделся намного презентабельнее. Меня знают! А ты кто такой?
– Вот и меня теперь узнали.
– Неужели? Не заметно.
Чур некоторое время молчит, собирается с мыслями, подводит в уме баланс:
– Ладно, чего ж теперь, проехали.
– Это я мог бы сказать «проехали», а не ты. Нет, дорогой, не проехали.
– Да я сам не знал об этом! Ведь как получилось – смех. Я ходил в эту вшивую газетёнку, ходил, ходил – пробивал статейку о саксофонисте этом… падла, как его? И пробил-то нечаянно, можно сказать. Они ж поначалу ни в какую! А у этого саксофониста, оказывается, тесть заведует наружной рекламой. Он и порадел. Даже меня в известность не поставил о своих стараниях. Я ещё подумал тогда: с чего это он про вечер мой творческий расспрашивает? А он, вишь, текст сочинял. Бартер произошёл, понимаешь?
– Я-то понимаю. Я смекалистый. А ты понимаешь? Ты мне оскорбление нанёс!
– Ты мне не веришь, шеф? Я ведь правду говорю. Не знал я, честное слово даю, про этот баш на баш. Не знал я!
– Ври поскладнее. Не знал он! Почесал самолюбие и всё? Личное самолюбие! А студия? Рекламируем студию – значит, рекламируем себя! Ты же личное выше общего нашего дела поставил. Вознёсся! А где плоды? Нету плодов! Нету результатов! Это обидно мне, прежде всего, как руководителю твоему. А со мной, а с нами всеми ты взлетел бы на недосягаемую высоту! А то ишь – завидно мне! А теперь пошёл вон. Чмо!
Когда Чур закрыл за собой дверь, Заточкин повернулся к Миронову:
– Нет, ну ты видел, каков фрукт! Ему с-с-с-с… в глаза – всё божья роса. Уволить его, что ли?
Миронов промолчал.
***
– Отчего так тяжело на душе? – Заточкин смотрит за окно, где тучи грозят непогодой. – Атмосфера, что ли, давит?.. Прямо-таки муторно мне. Боже, как муторно! Только одно важное дело раскрутишь, а уже надо ещё… Где взять на всё здоровье. Нервы ни к чёрту.
Миронов не знает, что сказать, тоже смотрит в окно. Проглядывает солнце, в кабинете становится светлее, уютнее. Но лицо у шефа не разглаживается.
– Всё есть у меня. Абсолютно всё! Так отчего?! – хлопает по столу буклетами. – Стипендия моего имени, школа имени, библиотека имени… Что не так, спрашивается? Почему грустно мне? Почему-у?
Понимая, что бос ведёт свою игру, Миронов пожимает плечами и дожидается более определённого поворота в разговоре. Впрочем, говорит:
– Прорвёмся. Ничего. Надо и это преодолеть.
Заточкин вскидывается, на сей раз без театральности:
– Пардон! Сколько можно?! Я уже напреодолевался за свою жизнь! Не довольно ли?!
Впрочем, тут же никнет:
– Выпить хочешь?
– Н-нет… пожалуй.
– Нет? – Заточкин встаёт, подходит к холодильнику, наливает себе рюмку, выпивает, всасывает прямо с блюдца ломтик лимона. Садится опять за стол, закуривает. Смотрит на свой громадный портрет, писанный маслом: в парадном костюме и при всех регалиях… среди поля ромашек.
Стук в дверь. Заглядывает пожилая дама, за ней видна другая, лет тридцати.
– Можно к вам, Виктор Победитыч.
Заточкин кривит лицо – его отчество Андронович, он уже устал напоминать… но у этой дамы слишком обширные связи – и не все ещё опробованы… Заточкин замечает и молодую женщину… и преображается: будто и не было гложущей тоски-злодойки, и дух наш молод вновь… И начинается игра:
– Да-да, прошу, проходите. Чем обязан столь высокому вниманию обворожительных особ?
– Ну, раз Победитыч взял такой ласковый тон, можно рассчитывать и на шампанское.
– Почему бы и нет, Людмила Петровна, почему бы и нет. – Заточкин достаёт из холодильника шампанское, затем и бокалы на стол выставляет из буфета. – А мы где-то уже встречались, – глядит на молодую полу-незнакомку.
– Об чём и речь, гражданин начальник, об чём и речь! – Людмила Петровна подмигивает Миронову, плавно разворачивается, оглядывая кабинет целиком. – Стоило вам обратить внимание на лучший конферанс сезона, и я тут же привожу к вам этого лучшего конферансье.
– Ах да, в самом деле! Вы не просто бесподобно вели концерт, дорогая…
– Роза Борисовна, – подаёт руку молодая женщина и осматривается.
– … дорогая, Роза Борисовна… Но и пели вы неподражаемо.
– Об чём и речь, Победитыч. Почему столь талантливая певица и столь же талантливая конферансье должна вытаскивать концерты разных бездарей?
Миронов хочет выйти из кабинета, но Заточкин удерживает его за плечи, усаживает на место.
– О, как уютно у вас тут, – Роза Борисовна подходит к схеме генеалогического древа в рамке. – А это что такое?
– Тут, правда… – Заточкин кашлянул, заглушая нечаянно возникшую в голосе победную нотку, затем буднично, равнодушно – натренированно: – На фото я генерал-лейтенант, однако, мне уже генерал-полковника присвоили. Я вам альбомы ещё могу показать, – достаёт из шкафа стопку альбомов и раскладывает по столу.
– И почему, Победитыч, тебе сразу маршала не присвоят? – умильно спрашивает Людмила Петровна. – Казачьих войск или каких там?..
Заточкин подозрительно косится на Людмилу Петровну – не рано ли начинаются подковырки? Затем взгляд на Розу Борисовну – в какой дозировке следует фанфаронить с ней? Отвечает бесстрастно:
– Сразу не положено. Всё своим чередом должно идти. Придёт время, будет и маршальский жезл.
Разливает в бокалы шампанское.
– За знакомство, – заглядывает молодой женщине в опрокинутые очи. Та берёт бокал и, улыбнувшись в ответ, идёт вдоль другой стены кабинета, разглядывает документы в рамках под стеклом.
– Батюшки мои, сколько всяких наград! Никогда б не подумала, что один человек может быть обладателем стольких премий…
– Наш Победитыч не только сам получает, но и о других печётся, – заметила Людмила Петровна и пригубила из бокала.
– Вот как? А я как раз хотела узнать, не имеете ли вы отношение к комиссии… Тут мой знакомый поэт спрашивал, нельзя ли проведать как-нибудь: стоит ли на премию в этом году претендовать или не стоит.
– В этом году уже поздно.
– То есть можно не суетиться?
– Именно так. На этот год уже всё распределили. В следующем… Впрочем, мне не совсем ясно, почему вы о ком-то беспокоитесь, тогда как сами…
– Вот именно! – Людмила Петровна доливает в свой бокал, взяв бутылку в обе руки. – Ещё выпью с вами и ухожу. Дела, знаете ли… Кстати, Победитыч, как подготовка к юбилею идёт?
– Которую ночь не сплю…
– Что так?
– Только засну, как от беспокойства просыпаюсь – не забыл ли кого включить из нужных людей в список?! Я не шучу – в поту холодном просыпаюсь. Одних vip-персон более сотни. Не считая композиторов, певцов…
– Где ж ты столько денег на банкет наберёшь?
– Друзья помогут! – и опять заглядывает в глаза молодой певице. Та, завлекающе улыбаясь, мурлычит:
– Я-таки поражаюсь общей безвкусице!.. У вас более двухсот песен издано! С нотами! И поют их известные певцы. Не говорим про сборники и прочее. Но вот я иду мимо этих ларьков на вокзале – и что же я слышу?! Чего только не голосят. А вас нет на лотках.
По тому, как Заточкин прикусил верхнюю губу, видно, что он затрудняется, как отреагировать, ему мерещится, может быть, подвох, он смотрит на Миронова, но выручает опять Людмила Петровна:
– А это всё потому, что исполнителей не тех подбирает.
Заточкин смотрит на певицу:
– Вы слышали мои песни?
– Да. И кое-что я исполнила бы иначе. И, смею думать, гораздо лучше.
– Прошу прощения, я должна вас всё же покинуть, – Людмила Петровна берёт под локоть Миронова и выводит из кабинета, в дверях делает пальчиками характерный прощальный жест.
– Мироша, – говорит она полушёпотом уже в коридоре. – Ей-ей, у тебя такой вид, точно ты решился на подвиг. Давай отложим до лучших времён. А? Нелётная погода нынче.
Ейей удивился: чего это она с ним так – как с ребёнком, право?
– Я нечаянно унёс бокал… – Ефим Елисеевич делает попытку высвободить локоть.
– Ничего страшного. Я вот его сперва допью, – забирает у него бокал Людмила Петровна, – если ты не возражаешь. Разве я не заслуживаю лишней порции шампанского? А после как-нибудь занесу. А ты ступай, ступай… Слышала я про козни – ваш дурачок Чур повсюду разносит… А может, он и не дурачок вовсе, а? Прикидывается? Как ты считаешь?
6. Дневник Алевтины. Эдуардос.
С Юлей я подружилась в институте. Она была несуетна и вдумчива. Полная противоположность мне. С остальными девчонками мне было скучно. Почему? К примеру, армяночка, которая сидела со мной рядом на лекциях, купила себе тапочки за 120 рублей, большие деньги по тем временам, и всю лекцию хвасталась ими… и были эти мелкие интересы моей соседки такими никчёмно-тягучими, такими пустыми в сравнении с творчеством Мопассана, о котором рассказывал лектор, что… Короче, я уже не знала, куда деться от её назойливости, от этих её тапок. И вообще – от всех девчачьих разговоров, пересудов, сплетен. Изо дня в день – жу-жу-жу-жу! О чём, что к чему? Я чувствовала себя провалившейся в болото. Хоть беги! Знала бы куда, так бы, верно, и сделала. И продолжались мои мучения до появления Юлии.
Она пришла на наш курс из декретного отпуска, и я сразу поняла, что это единственный человек в группе, с кем я могу общаться. Её глаза были спокойны, а речь отличалась от банальной трескотни всех остальных девчонок рассудительностью.
Её же поначалу отпугивала моя эмоциональность, чрезмерная открытость. Потом она сама позвонила. «Ты меня напрягала, даже пугала своей непредсказуемостью». А в итоге мы с ней сейчас как телепаты. Она моя совесть, а я – её. Не очень напыщенно звучит?
А так, конечно, я была очень взбалмошной и… говорила напропалую всё обо всех и обо всём, что думала. И была в этом, наверное, изрядная прямолинейность на грани глупости. И Юле поэтому, в конце концов, стало тяжко со мной, не интересно, и она стала отдаляться. И наша дружба постепенно угасла. А вот после аварии (институт уже закончен), когда я стала гораздо с большим пониманием относиться к окружающим и слабостям людским, мы вновь сблизились. Во мне что-то прочкнулось, в моём сознании произошёл некий прорыв… Да. Я сделалась мягче, более требовательна к себе, чем к другим, эгоизма, себялюбия поубавилось. Я стала, можно сказать, не только себя слушать, но и других вокруг замечать и воспринимать с любопытством неофита… я будто открыла новый для себя мир, который был для меня закрыт до этого самомнением…
А в институте доходило до смешного. Юля после мне рассказывала, как сокурсницы устраивали мне бойкоты, а я этого в упор не замечала, не видела ни интриг, ни всех этих сговорившихся сокурсниц – ни порознь, ни вместе.
Из-за чего бойкоты? Ну, к примеру. Экзамены по иностранной литературе. Экспрессионизм в рассказах Мопассана. Где это вы взяли? – спрашивает меня преподаватель. Я готовилась по лекциям Джульетты (предыдущей преподавательницы), потому отвечаю по конспекту. Я не могу вам поставить «плохо», – говорит преподаватель, – но не могу также и «хорошо», лишь, извините, посредственно. Вы, разумеется, можете читать, что хотите, использовать любые источники, но для меня вы должны отвечать только по тому учебнику, который я вам рекомендовал. Меня это возмутило. Кроме того, стипендии лишалась таким образом. Стала с ним спорить, доказывать, а он… упёрся бараном. Однако после разговора со мной вышел в коридор и полчаса курил. А, вернувшись в аудиторию, стал всем подряд ставить двойки. И девчонки из-за этого устроили мне бойкот. А я этого даже не заметила. Как того моего школьного обожателя, чьи объяснения в любви я не услышала.
Конечно, можно сказать: баран не он, а я… баронесса. Можно. Теперь. А тогда…
Я старалась быть всегда сама собой. Но натыкалась на непонимание. В любой форме. Иногда чувствовала себя гадким утёнком среди домашних кур.
С Эдуардосом я познакомилась через Тони, однокурсника моего Кости. Внешностью Тони был похож на грузина, но застенчив. Небольшого росточка мулат-кубинец. Чуть приоткрытые пухлые губы, точно в ожидании моих повелений, щербинка между двумя передними зубами. Меня он не впечатлял, но был приятен.
Тони обожал на студенческих пирушках пробовать новые русские блюда, он выговаривал: кушань-я. Особенно любил салаты, даже перетаптывался в предвкушении и потирал ладони. И я очень любила салат из свеклы. Поэтому около меня всегда ставили вазочку со свекольником. И тут же рядом возникал Тони. И мы, как два кролика-свекловода наперегонки орудовали вилками. Он приговаривал: кушань – я, мне же оставалось возражать: нет, я.
Он мне как подружка стал, Тони (почти как Юлька). Я обожала Тони за его непосредственность, лёгкость, постоянную готовность услужить, составить компанию в любом мероприятии. И возможно, поэтому он любил приходить к нам с Костей (но всегда говорил: я к тебе, Алюсь) и оставался постоянно ночевать, хотя три минуты ходьбы до дому. А я частенько делала визиты к его родителям, они у него дипломатами служили. И на Кубе я у них потом побывала однажды в гостях.
И все остальные, кстати, Костины друзья-однокашники, так же говорили: пойдём к Алюсе. Не к моему мужу Косте, а ко мне. Меня воспринимали большим магнитом, чем его, точно не он, а я училась с ними в институте, а не домохозяйкой была на тот момент.
Когда родители Тони уехали на Кубу, он перебрался в общагу. И я туда постоянно наведывалась. Тони таскал меня по всем вечеринкам, концертам, театрам, выставкам, музеям – без мужа, тот не ревновал. Косте даже льстило, что я всем нравлюсь. И всё время повторял: «Куда ты от меня денешься?» Может, намекал, что я не имела специальности и завишу от него в финансовом плане, что у нас маленький ребёнок… Вот так примерно обстояли дела.
Говорю это к тому, чтобы стало понятно, какая вокруг меня на то время образовалась атмосфера… ну, что ли, поклонения. Пусть это и нескромно с моей стороны так выражаться. Если грубее, то – я была окружена мужским вниманием постоянно. Ребята не давали мне, что называется, проходу. То есть недостатка в поклонниках не я ощущала. И со всеми общалась как капризная девочка с игрушками. Могла приветить, но могла и выразить холодность. Словом, никто в сердце меня не поразил и никому я своего сердца отдавать не собиралась. Этакий воздушный флирт и не более того. Потом я устроилась на работу в библиотеку. И воздыхателей у меня прибавилось.
С кого начать? Вот художник из студии Грекова ухаживал – Женька. Его я рассматривала лишь как партнёра по теннису. Мы с ним играли на кортах ЦДСА. И когда я приходила, все говорили: как появляется Алевтина, с нашим Женькой начинает твориться что-то невозможное.