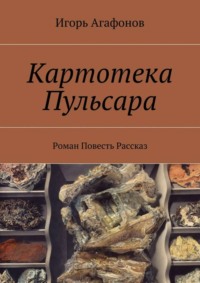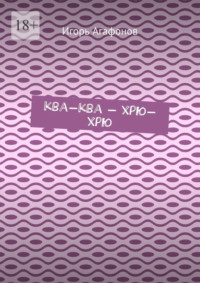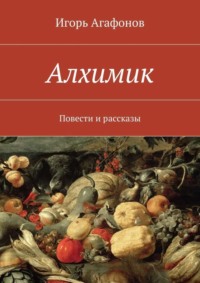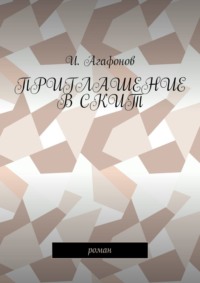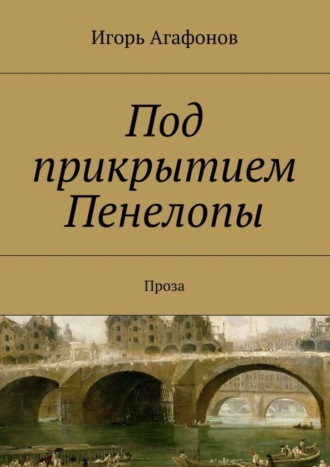
Полная версия
Под прикрытием Пенелопы
Помню, папа любил мастерить мебель. Стеллаж с берёзовыми ножками соорудил – для приёмника предназначался и прочих интересных вещиц. Я всё бересту пыталась отколупнуть, а он мне говорил: не надо, так красивее.
Икона вот ещё засела в памяти. У бабы Вари их было много. А я с ней спорила, назидательно указывала: «Бога нет!» Но бабушка мудро отмалчивалась.
Евгения Кузьминична – первая моя учительница. В их роскошном саду мы с вредным сынком её Вадькой на пару поедали крупнющую малину, и он жадничал, оттеснял меня плечом и сердито бубнил: «Не ешь мою малину! Моя малина, говорю!» Но это всё бесполезно было с его стороны. Я ему не подчинялась и говорила, что пожалуюсь маме с папой, и его, жадину, отстегают ремнём.
Речку помню, чудная такая – так мне казалось почему-то. Плавать научилась. В этой речке росли кубышки-кувшинки, ивы по берегам шелестели. Два моста. Один высокий – почему-то страшил меня своей громадной неказистостью. Другой низкий. Лёд по зиме оттуда возили для погребов – на лето. По весне же трактор утоп. Тракторист напился и сверзился…
Большое поле перед глазами благоухает, коровьи мины под ногами – наступишь случайно – и в нос ударит навозный запах – тёплый, приятный. Вербу по весне собирали в лесу за полем. Казалось – как далеко ходить! Какая даль!.. И всё-то детство – это простор, от которого становилось легко и жутко весело. Привольные пространства всегда меня захватывали, покоряли своей грандиозной неохватностью, наполняли неудержимым душевным подъёмом. Не оттого ли я так часто летала во сне и до сих пор летаю?
На велосипеде научилась кататься. Папа за мной бежал-бежал, придерживая за сиденье, а потом отпустил, и я этого не заметила, сама собой поехала…
Помню большущие лужи и гусиную травку по обочинам…
Сельский клуб, куда можно было ходить в кино за медный пятачок, помню – будто вчерашний день. Мама не всегда давала пять копеек, но в жару двери клуба держали настежь, и можно было запросто (а возможно, и не сторожил никто) пробраться потихоньку на коленках и посмотреть кончик фильма.
На деревянной горке со сломанными перильцами я разбила бровь о торчащий гвоздь. Хорошо, не в глаз. Боялась домой идти. Мама: что ж ты сразу не пришла, я б тебе поправила, скобочку наложила. А теперь вот шрамик останется…
А однажды – это было уже зимой – папа так шлёпнул меня, что я обиделась чуть ли не до сегодняшнего дня. Мне это показалось так больно… и так страшно. И, главное, несправедливо. Стемнеет, сказал он, сразу иди домой! Ну, стемнело, я и пришла. А насколько стемнеть должно было?
А в доме чудесная печь, и мышка под ней, головка в норке, а хвостик наружу – как будто нарочно его высунула. Я хотела схватить, да куда там!.. И сейчас вот думаю: неужели она, эта маленькая и серенькая норушка, видя, что мне скучно, таким вот образом развлекала меня, играла со мной? Плутовка…
В первом классе – мой первый ухажёр, он обращал на себя моё внимание тем, что толкал, дёргал за волосы, даже подножку подставил. Я упала, поцарапалась. Орала нарочно громко, хотя не так уж и больно было. Мальчишке досталось. Я же победно на него после поглядывала. Вот, мол, отомстила. А он огорчился… за то, что причинил мне боль, как сказал позже. Я это запомнила.
А вообще, ребята клеились ко мне буквально с четырёх лет. И конца и края с тех пор не было этим ухаживаниям…
Маму, как врача, приглашали преподавать в школе анатомию. Я гордилась этим. Мне также нравилось бывать в районной, очень уютной больнице. Наблюдать за всем, общаться с больными… Вон дед-лохмадей поставил себе градусник под мышку, да не тем концом – и мне смешно. И я важно подходила и назидательно указывала ему на ошибку. И он делал испуганные глаза и торопился исправить оплошность. Теперь думаю: нарочно он так делал. Пробовала с мамой больничную еду, и хлебные котлеты мне нравились больше, чем мясные домашние.
Однажды я стибрила рубль у подружки, потом бросила его в траву и сделала вид, что нашла. И мы вместе затем проели этот рубль на пирожных – в магазин иногда такие вкусные сладости завозили. Она этот рубль носила в кармане целую неделю. Вытащит, повертит и опять спрячет… она не знала, что такое деньги, не знала их назначения, и как применять, и я открыла ей новые возможности… Помню её удивление и восторг по этому поводу. Она даже попрыгала и похлопала в ладоши.
Потом практика у родителей закончилась, и мы уехали в Москву. Это 70-е годы. Хиппи появились и смутили моё сознание, расклешённые брючки в моду вошли… Мама вставила в мои синие клинья розового цвета… Тогда мне нравилось, а сейчас, вспоминая, думаю: это было ужасно.
Хм, карты игральные мы с девчонками нашли как-то у школы, порнушные. Это не теперешнее время, когда по телику да в интернете можно увидеть всё, что хочешь и не хочешь. А тогда мы по очереди хранили этот разврат у себя дома. Я под матрасом держала. Очень это меня беспокоило. И только я отнесла их подружке и возвращаюсь, глядь, а папа перестилает мне постель… Не хочу уверить кого-либо в своей неискушённости, вовсе нет, ведь я была дочкой врачей, имела доступ к медицинской литературе, нашпигованной разными картинками, которые изучала… Нет, не в этом дело. Просто знать-то мы знали, но не применительно к себе, что ли…
Было детство – чистое-пречистое, с высоким синим небом и сказочными облаками, была и юность не менее чистой и возвышенной. Я любила подмёрзшие ягоды боярышника – мягкие, морщинистые, но ещё душисты, терпкие… И я, как зверок голодный, поедала сей деликатес – тогда, помню, выпал первый снег – и это врезалось в память так ярко, что ни с чем плотским о ту пору я не берусь сравнить по силе ощущений. Было любопытство к противоположному полу – и это естественно, но не было никакой абсолютно тяги познать немедленно, вожделение не обуревало, нет… Я не знаю, как там у мальчиков, но я действительно мечтала о принце на белом коне… И вихрь из-под копыт, и полёт средь бескрайнего луга цветов – алых тюльпанов.
В новой школе – учитель литературы, спецфакультатив. Он выделял меня, потому что я писала хорошие сочинения. С ним у меня связано такое же подростковое воспоминание: однажды он выговаривал моей матери – я, мол, разочарован, дочь ваша ленится. После этого я всегда старалась всем доказать, что во мне нельзя разочароваться. Нет, уже раньше, года в четыре – мама просила пройтись в новой юбочке и кофточке, как манекенщица, и я уже тогда хотела всем понравиться, всех очаровать. Быть центром внимания. Этим, должно быть, и отличалась я среди своих сверстниц. Они поэтому и ревновали меня друг к дружке – кому дружить со мной. «Алюсь, а с кем ты будешь водиться?» И постоянно меня копировали: стоило мне связать себе новую кофточку или кисет для денег, тут же начиналось повальное увлечение вязанием этих самых кисетов…
Я же дружила с мальчишками. На физкультуре я прыгала с ними через «козла», отжималась от пола, забиралась по канату к потолку – причём, по нескольку раз. Я вообще была заводилой и старостой по спортивным дисциплинам. Чемпионкой по лыжам в школе…
…Справляли Новый год. По магазинам бегали девчачьей толпой. Я была заводилой, и голова моя была забита хозяйственными заботами: что уже купили, чего ещё нет. А нас сопровождал один из моих воздыхателей. Жутко в меня влюблённый. Личико прыщавое, но зато отличник, задачки помогал мне решать. Вот он сзади плетётся за нами и объясняется мне в любви, а я не слышу – голова потому что другим занята: мандарин ещё надо купить, в фольгу завернуть, чтоб на ёлке сверкали серебром и златом… И тут Ирка Буравкина кричит мне в ухо: ты что, не слышишь?! Алюсь, проснись! Он же тебе в любви объясняется!
И мне сделалось так обидно, что я прослушала: мне ещё никто до этого в открытую не признавался в своих чувствах. Записки писали, вздыхали молча, но чтобы сказать люблю, да ещё при свидетелях… Ведь лестно же знать: в тебя влюблены, тебе признаются в этом даже принародно, – а ведь это так страшно – признаться! – а ты в это время думаешь про всякую мишуру – какие-то мандарины и золотую фольгу, в которую надобно их завернуть и прицепить на ёлкины-моталкины ветки…
Из параллельного класса Олег ещё влюблён был в меня. Словом, мальчишки за мной ватагой ходили, буквально по пятам, следили даже, выслеживали, следопыты. Зачем-то армянским шрифтом составляли послания. Благо, кинотеатр «Армения» был поблизости, можно было буквы сопоставить и смысл понять. И сама я услышала однажды: «Да, у Алюси самые красивые ноги…»
И ещё один парнишка был влюблён в меня, мне потом уже Буравкина (опять она) сказала об этом. Он ко мне подойти не решался, и попросил мою подружку – хотел через неё ко мне приблизиться, а… потом и женился на ней.
Родители мои развелись, когда я училась в девятом классе. Особой драмы на тот период я не почувствовала, поскольку получила большую свободу. К тому же я поменяла школу, а это как-никак, а новые впечатления и психологическая нагрузка. И там я возненавидела уроки литературы. Одно сочинение за год написала и то не сдала на проверку. Учитель наш охочь был порассказать интимные подробности о великих писателях, и это меня страшно коробило – мне казалось это совершенно неуместным. Скабрезным даже. При этом я подозревала выдумку, его больное воображение. И я с ненавистью зыркала в сторону этого подлого выдумщика. Выискивала в нём недостатки. С горем пополам закончила школу…
В семнадцать лет мама устроила меня в типографию брошюровщицей, и год целый я там без всякой пользы отбарабанила – и для себя и для государства, что называется. Я такая: люблю простор, разнообразие, новые знакомства, общение, выставки разные. Вот и с Ирой Егоровой познакомилась в очереди на Испанскую живопись. Тогда меня потрясла картина «Святое семейство» Эль Греко, и её, Ирку, тоже картина эта не оставила равнодушной. Потом мы пошли к ней в гости – слушали пластинку с ариями из оперы «Руслан и Людмила», смотрели альбом Дюрера. Ира была старше меня на год и уже студенткой, и позже привела меня в МАДИ (автодорожный институт), к своему дружку – Сашке Гончару, однокурснику моего будущего мужа Кости, с которым впоследствии он нас и свёл.
Н-да, Костя, Константин… Первое впечатление – не понравился. Из его семьи я любила только бабушку.
А познакомились мы под Новый год в общежитии МАДИ. Он выгребал капусту из баночки, которую ему собрала на вечеринку бабуля, а я обожаю пробовать всё домашнего приготовления. И он предложил отведать.
На той вечеринке мне больше всех понравился Антон Литров. И Костя потом всё время плакался ему в жилетку, а позже дал ему для передачи мне своё фото. Я приняла, и Костя воспрянул духом, как сказал позже. А тут весна подоспела, и он был внимателен и весь такой галантный, вскружил-таки мне голову. И я влюбилась… При этом, замечу только, я всегда Кости почему-то стеснялась… чего-то важного не хватало в нём, на мой привередливый взгляд, не доставало чего-то… И мне казалось, что все видят эту его непрезентабельность, кондовость даже. О себе-то я была более чем высокого мнения… интеллектуалка, с развитым художественным вкусом и так далее.
Чудная я всё же была, жила затворницей в своём выдуманном мире. Видела, кто и как на меня глядел – тот же Гончар или Антоха Литр, – но не придавала значения. Гончар только на пятом курсе сказал, что влюблён в меня. Антоха же раскололся много позже, когда гуляли втроём (третьей была его дочь Ольга) по Тверской: «Я уехал тогда и так жалел после… – И к дочери обратился: – И у тебя могла быть другая мама». Это он вот про что: на одной из вечеринок я много танцевала, и меня тянули за руки в разные стороны – с кем танцевать – Костя с Антоном. И Костя перетянул… Как в библейской притче, когда мать готова отдать своего дитя, только б не разрубали пополам – так вот и Литр уступил из опасения причинить мне боль. Что касается Кости, то сначала он приходил в гости, потом стал оставлять вещи у меня, ночевать. Моей бабуленции он очень нравился… Сидит она бывало пухлым шаром посреди комнаты, улыбается и нахваливает: хороший мальчик, хороший… Тогда мы слушали «Машину времени»… Один раз Антон тоже остался ночевать, так бабуля моя очень рассердилась: нехороший мальчик, неправильно себя ведёт. За бабулей моей водилось: кого первым увидит, о кого глаза натрёт раньше, того и признаёт. А я, в самом деле, не понимала, почему человеку нельзя переночевать, если, допустим, поздно идти домой… О приличии каком-то голова моя не затруднялась. Потом он как-то позвонил – а он часто названивал, никак не мог смириться, что Костя его переиграл, перетянул на себя:
– Ну, как дела? – спрашивает.
– Да вот, пока не родила… – пошутил Костя.
– Да?! – и Антоха даже трубку положил… или выронил. А через минуту перезвонил. И серьёзно, заикаясь от волнения, стал объяснять, что нам… – Да вам нужно срочно пожениться!
И бабуля моя – тоже «за»: пожениться.
Вот так вот, благодаря Костиной шутке мы окольцевались.
Абсурд?
Помню ещё, были в гостях у Антона, и Костя хвастал, какая у него – я – замечательная хозяйка. И Литр смотрел на меня мечтательно-завистливыми глазами. И его родители очень ко мне хорошо относились.
А Гончар… Странно, как мы собрались тогда – трое мальчишек и я. Креветок ели. Почему трое мальчишек и я одна? Пили пиво и ели креветок. И Гончар всё время поддевал меня. «Чего он меня язвит всё время?» – спрашиваю потом Костю, уже супруга. – «Не обращай внимания. У него такой характер». А Сашке, видимо, хоть как-нибудь хотелось со мной общаться…
Так вот, из группы я выделяла Гончара и Литра. А Костя… Вот так, нравился Гончар, нравился Литров, а вышла за Константина.
Когда моему сынишке было лишь только полгода, в меня были влюблены двое мужчин из нашего дома.
Один: «Я давно в твою маму влюблённый», – это он приговаривал, когда коляску в подъезд помогал занести, с ребёнком общался вроде бы, а не со мной… я сначала даже не осознала, о чём он бормочет, только потом до меня дошло-доехало.
А второй ухаживал впрямую: он, кстати, то и дело объявлялся в моей жизни. Даже когда я поступила в институт, он приезжал на курс и что-то хотел от меня… а я не понимала, чего. Поэтому мне и говорили: ты что, Алюсь, дура совсем? Так вот он приехал и уехал: понял, наверно, что со мной бесполезно заигрывать. У меня в голове не срабатывало что-то. У него жена, ребёнок… которого, кстати, я кормила, своим молоком, потому что жена у него была безмолочной. Смешно так. Сынишка ихний аж захлёбывался…
И вообще, вокруг меня крутилось столько мужичков… и если на всех обращать внимание… Поэтому я и одеваться старалась скромно.
Вот так я и жила до некоторых пор…
***
Читая впоследствии Алевтинин дневник, Миронов подумал, что она уже давно, очевидно, складывала о себе благоприятную версию, подгоняя подробности – вольно или невольно? – под определённый критерий… Короче, сказку о своей персоне.
«Да и для меня, похоже. На самом деле, если всматриваться пристальней, то это чистой воды сочинительство…»
Фраза в дневнике Миронова не закончена.
***
Алевтина заглянула к председателю Луначарскому – сам хозяин в кабинете отсутствовал, но там находились Волоха с Мироновым. Собственно, Федот Федотыч Алевтине не был нужен. Она и сама не знала, кто ей необходим на тот момент. Просто вдруг захотелось зайти в организацию. В клубе писателей к ней приставал Пузиков, в прошлом сокурсник по институту: «Ты сегодня такая… сексапильная! Прямо-таки примагничиваешь! В чём дело? Говори – исполню все твои желания…» Вот она от него и убежала. А куда пойти ещё? Домой не хотелось. Вернее, не хотелось быть одной…
С утра она записала в дневнике: «День не обещает ничего особенного…» Это собственное наблюдение её слегка задело. Зачем вообще что-то записывать тогда? Ничего так ничего. Ещё и бумагу марать! Глупость. Но, поди ж ты, разбери, когда в мыслях сумбур, а душа обмирает… «Душа… Обмирает… Экие красивости в голову лезут!..»
Волоха встретил её с нескрываемой радостью, хотя тот визит к ней не принёс ему желаемого… Возможно, сейчас в нём всколыхнулась надежда. Ей же тогда было любопытно: чего это он напросился в гости, когда уже всем объявил, что ожидает приезда невесты? Или что, выбирал до последней минуты?.. У-у, мужики!.. Хотя и бабы не лучше…
Однако уже на пороге она увидала Миронова, которого до этого видела всего три раза. Первый раз в позапрошлом году на литературной конференции, где не очень и приглядеться успела, так как народу интересного было предостаточно, а он, как потом узнала, только-только появился в здешних кулуарах и старался, видимо, не высовываться. Впрочем, оказалось впоследствии, высовываться он вообще не любил. Так что второй раз также мог зафиксироваться в памяти опять же лишь проходным моментом, не обрати сам председатель её внимание на его скромную персону.
– Не понимаю, – сказал Луначарский в застолье после конференции (Алевтина сидела подле него), – и чего вы находите, девки, в поэтах. Не понимаю. Сплошь выпупизм и экзальтация. Таланту на грош, а форсу выше крыши. Из окон прыгают ещё… – и покосился на студентку свою: слушает ли? И понимают ли, что намёк на Маврушу? И убедившись, что понят, продолжил: – Вот сидит – хороший, порядочный Миронов, ей-ей. И пишет, заметь, не стихи, а прозу.
Алевтина присмотрелась и, когда Миронов ушёл, шепнула Луначарскому:
– А он и в самом деле симпатичный.
И третий раз они столкнулись в коридоре организации, когда Алевтина собирала документы на поездку в Австрию – заниматься литобработкой мемуаров известного русского князя, чьи предки уехали из России до революции. Миронов прошёл мимо неё с секретарём Заточкиным и, похоже, опять не обратил на неё внимания. Хотя нет, подмигнул, но так, как подмигнул бы, скорее всего, любой смазливенькой девчонке.
И вот теперь… четвёртый раз. На память ей почему-то пришло: три раза дух прошёл в образе человека… и всё мимо, мимо… Однако в четвёртый раз…
Когда она стояла в ожидании, пока ребятки отоварятся питиём и закусью (втроём они уже покинули организацию и завернули в магазин, чтобы не переплачивать в Клубе), она услыхала, как они хохочут. Поначалу этот смех её покоробил, потому что подумалось: смеются над ней, но в следующее мгновение она рассмотрела их лица и поняла, что в эту минуту перед ней налицо сама непосредственность. Миронов, во всяком случае, точь-в-точь напоминал пятилетнего мальчугана, который вот-вот хватится за свой гульфик, чтобы не опрудиться от избытка чувств, так взахлёб он покатывался. Что же их так развеселило? И ей стало ещё любопытнее…
В буфете она потеряла счёт времени, так увлеклась разговором с Ейей. Собственно, не столько смыслом его речей, сколько звуком его голоса: спроси её, о чём они говорили?.. да вроде обо всём на свете! Она даже не могла вспомнить: когда и куда подевался Волоха. Потом гуляли по Тверскому бульвару, сумеречно-уютному, охваченному ночными огнями. Миронов предложил поехать к нему, и она хотела резко отказаться, но внезапно над крышами домов разразился настоящий фейерверк. Это было столь неожиданно и напоминало некий знак, что она заопасалась, что её визави не повторит своего предложения. И когда ночное небо вновь восстановило свой спокойный лиловый тон, она сказала:
– Зачем же ехать куда-то далеко. Ко мне намного ближе…
***
(Из рукописи Миронова. О двойнике литературном).
«Нельзя сказать, что Алевтина не подозревала, как сильно притягивает к себе мужчин… Другое дело, что она достаточно поздно осознала эту свою женскую притягательность. Хотя, что значит поздно? Скажем, в отрочестве она испытала шок и… причём, одновременно с другим чувством… Тогда это чувство показалось ей стыдом. На самом деле… Впрочем, было так. Она находилась в кругу подружек, – стояли во дворе дома, щебетали, над чем-то смеялись – помнится, она была в шортах, белых, модных по тому времени шортах, привезённых матерью из Испании, кажется. И какой-то мужчина шёл мимо, и вдруг сделал странный вираж – быстро приблизился и погладил по этим самым её шортам… точнее, обеими ладонями на мгновение взялся, как за что-то драгоценное и, тут же спохватившись, бросился наутёк… Таких, как говорят некоторые, надобно отстреливать. Подружки потом не могли остановиться в своих домыслах и фантазиях, подшучивали, подзуживали… Она же сделалась пунцовой, затем побледнела, затем кровь опять бросилась в лицо… И что-то такое непередаваемое, незнакомое по ощущению обволокло её, окутало, ей стало не хватать воздуха, жар… но жар не стыда – именно что не стыд охватил её (это её больше всего и ужаснуло!), а какое-то неожиданное томление, ещё никогда не испытанное… она вдруг почувствовала себя совершенно незащищённой – никем и ничем, любой, кажется, мог взять её за руку и увести… Куда, зачем? – она ещё не понимала, но так страстно ей захотелось этого, и в то же время сделалось страшно настолько, что она заплакала… да, захлопнула ладонями лицо своё и зарыдала. И все подумали: от обиды, от стыда или унижения, которому она якобы только что подверглась. Стали дружно успокаивать, просить прощения за насмешки. Она же побежала прочь. Куда, как говорится, глаза глядят, подальше от свидетелей происшедшего…
В двадцать лет ей выпало и такое… Ну да, природная раскованность, грация молодого тела, обворожительность эдакая в глазах, голосе, мимике и жесте, бесшабашность некая, даже в смехе (а как она танцевала у костра на даче!) – всё это не могло оставить равнодушным никого из особей мужеского пола. И она в этом неравнодушии плавала, как в тёплом, ласковом океане, упивалась вниманием мужчин, полагая, что и быть должно так, именно для этого и рождена она на белый свет – для упоения! Для чего ж ещё? С одной стороны это, да, льстило, будоражило воображение и кровь, делало кокетливой очаровашкой, с другой – позволяло быть разборчивой. В решительный момент она могла поставить на место кого угодно. Однако по-житейски ещё была наивна до крайности. Дома даже подтрунивали над ней – мол, отстаёт в развитии детка. У неё уже рос сынишка от любимого мужа – тогда ей, по крайней мере, так казалось, что от любимого. И мыть полы в контору она нанялась скорее для справки в институт, куда собиралась поступать, чем по материальной нужде. И вот случилось следующее. Подходит к ней как-то один из начальников отдела того учреждения и без обиняков спрашивает:
– А ты не дуд-рочка ли?
Он ещё и заикался, подлеза.
– А? Что? Да как вы сме-ете?!.
– А чего бы нам и не сметь? Тебе нужна характеристика? А директору нужно, чтоб ты с ним переспала.
А не пошёл ли он куда подальше, ваш директор? Да ещё половой тряпкой по физиономии сводника!..
– Ну!.. гляди! Тебе жить. Мы-то утрёмся…
Без всякого политеса, в лоб, что называется. От глупости ли подобное происходит, от чванливости ли, от сознания своей власти и неуязвимости? Но одно дело, когда в кино («Обыкновенное чудо» – помните?) один превосходный актёр говорит другой прекрасной актрисе: я занятой человек, мне некогда разводить словеса, так что… в шесть часов на сеновале… жду-с… – это понятно, это даже смешно. И совсем другое – в жизни, когда облечённый властью чин не то что книги читать уже разучился, он и кина никакого не смотрит который ужо год. Он и басни дедушки Крылова, затверженные в детстве, позабыл напрочь. Зачем они теперь ему – чинуше?
Ладно. Можно было б и забыть, можно было б и простить. Можно было б даже и в актив своих побед записать, если б претендент на обладание имел чуток совести: ну не получилось с этой соплюшкой, получится с другой… Не-ет, этот козырь-чин ещё и отмстить вознамерился: ах, мне отказали! Кроме того – послали… Тряпкой по морде ещё заехали посланнику!
Явилась наша княжна за расчётом и характеристикой, а ей… нет, отчего ж, характеристику выдали, но буквально в последний день и притом – какую?! Она – начертано было там вычурно – есмь чуть ли не исчадие ада, она развратит всю нашу интеллигенцию, разрушит устои государственные, она… Словом, есть у тебя ещё день – подумай, может – поправишь невыгодное для себя положение?
И когда, сдав экзамены на отлично, наша княжна не увидала себя в списках принятых в институт, только тогда она окончательно удостоверилась: без бумажки мы, увы, бука-кашки… Только тогда и разрыдалась при отце, который, впрочем, лишь посетовал, что его дочь в свои годы видит жизнь сквозь розовые очки и что, без сомнения, бестолочь, раз не сказала ему о домогательствах раньше…
Короче, дело утряслось потому лишь, что отец некогда оперировал одного высокопоставленного чиновника из министерства образования и тот соответственно был благодарен…»
5.
Ефим Елисеевич, спускаясь по лестнице, заглянул мимоходом через перила и увидал приближающуюся бледно-розовую лысину, в обрамлении курчавых волос, и две чёрные пряди в этом венчике начёсаны к середке – одна слева, другая справа: Чурма собственной персоной – пресс-атташе Заточкина, в обиходе – Чур.
«Почему не три? Три было бы куда пригляднее. А лучше всего – крест-накрест, в клеточку или ромбик». – И ещё подумал Ефим Елисеевич, что некуда свернуть – укрыться-притаиться: дня три тому назад Чур всучил ему пачку виршей с таким предложением: «Будь моим ангелом-редактором! Ты доводишь мои стишата до ума, то есть до литературной кондиции, я издаю книжку и все преимущества от этого поровну. Не говоря уж про магарыч…» «Преимущества?..» – хотел тогда уточнить Ефим Елисеевич, но Чур уже мчался по коридору дальше, оставив подмышкой новоиспечённого редактора пластиковую папку с наклейкой: «О чистой любви!» Да, именно с восклицательным знаком.