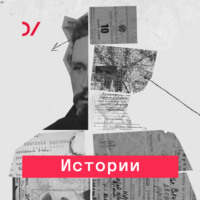Полная версия
Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя
Задача, которая не была решена, – это задача «догнать Запад». Однако Россия и Восточная Европа отставали от Запада и в докоммунистическом периоде. Чтобы преодолеть это историческое отставание, их экономикам необходимо было вырасти на 150–200% за десять лет. Однако такие темпы роста наблюдаются только у бедных стран; посткоммунистические страны росли темпами даже несколько превышающими обычные для стран со средним доходом, но недостаточными для преодоления разрыва, сформировавшегося еще в конце XIX века. Таким образом, корни сегодняшних разочарований итогами транзита следует искать преимущественно в завышенных и нереалистичных ожиданиях конца 1980‐х – начала 1990‐х.
Последнее замечание профессора Трейсмана, впрочем, по-новому ставит проблему итогов транзита. Действительно, если ориентироваться на оценки и расчеты Проекта Ангуса Мэдиссона, в начале XX века ВВП на душу населения в России составлял 38% от среднедушевого уровня 12 наиболее развитых стран Европы, в Польше соответственно 48%, а в целом по 7 странам Восточной Европы (Албания, Болгария, Румыния, Югославия, Чехословакия, Венгрия, Польша) – 27%. В период наивысшего расцвета социализма (с 1950 по 1972 год) это соотношение составило для СССР 53%, для Польши – 44% и для 7 стран Восточной Европы – 32%; во второй половине 2000‐х годов ВВП на душу населения в России составлял 39% от уровня Е-12, в Польше – 46% и в 7 странах Восточной Европы – 30%7. Из этих цифр видно, что Восточная Европа и Россия оказались примерно в такой же дистанции по отношению к развитым странам, в которой находились за сто лет до этого. При этом в апогее социализма Восточная Европа находилась примерно на том же уровне развития по отношению к передовой Европе, а Советский Союз сократил свое отставание. Получается, что ни социалистический эксперимент, ни возвращение к рыночной экономике не влияли кардинальным образом на темпы развития «второй Европы». Во всяком случае, провал задачи «догнать Запад» выглядит вполне удовлетворительным объяснением массового разочарования посткоммунистических стран – ведь именно перспектива конвергенции по уровню доходов была одним из основных факторов массовой антикоммунистической мобилизации в конце 1980‐х годов.
Это обстоятельство, в свою очередь, обращает нас и к другому аспекту, оставленному профессором Трейсманом в стороне, – к вопросу о динамике политических режимов посткоммунистических стран. Если первые 10–15 лет транзита поставили под сомнение стратегию трансплантации и гипотезу «преимуществ догоняющего развития», выявив ограниченную «инструктивность» институционального дизайна в условиях социальной трансформации, то следующие 15 лет проблематизировали еще одно фундаментальное предположение начала 1990‐х – о взаимосвязи устойчивого экономического роста и «правильных», т. е. либеральных, институтов в экономической и политической сфере. Разрыв этой взаимосвязи, казавшейся тридцать лет назад очевидной и непреложной, и стал причиной новой конкуренции социальных проектов. Если либеральные институты не позволяют сократить разрыв в уровне экономического развития, а нелиберальные позволяют его сохранять, не увеличивая, то позиции сторонников нелиберального сценария политического и социального развития существенно укрепляются, что мы и видим в третьем десятилетии посткоммунистической истории.
ДРАМА ТИПОЛОГИЙКаждое посткоммунистическое десятилетие приносит нам новые и часто непредвиденные знания о характере и динамике длительных траекторий посткоммунистических обществ и, соответственно, вынуждает переосмыслять типологию транзитов в контексте этого нового знания. Если на предыдущем этапе исследователи имели дело с классификацией транзитов, которые выглядели как переход от тоталитарных коммунистических режимов к новым политическим равновесиям (авторитаризм, демократия или промежуточные режимы), то теперь объяснительные модели вынуждены охватывать не только этот переход, но и последующую динамику режимов, сложившихся по итогам первого и второго посткоммунистических десятилетий. Так, например, Киргизия в начале 2000‐х годов выглядела центральноазиатской деспотией, похожей на соседние страны, но в последние 15 лет демонстрирует совершенно иную динамику, а Россия, выглядевшая к началу 2000‐х довольно конкурентным некоммунистическим режимом, эволюционировала в сторону центральноазиатских авторитарных гегемоний.
Попытка синтезировать в общей таксономической модели типы транзитов и траектории последующих изменений находится в центре фундаментальной концепции Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича, резюме которой представлено ее авторами в настоящем томе8. Концентрация внимания на политических институтах ведет к упрощенным типологиям, которые не описывают всего спектра посткоммунистических траекторий, считают авторы. Помимо традиционной оси «демократия – авторитаризм», они вводят еще одну, «вэберианскую», ось, концептуализирующую типы устойчивых социальных структур (stubborn structures), которые характеризуют социальный уклад различных конфессионально-исторических ареалов Евразии и различаются по уровню патрональности, т. е. по степени влияния в обществе неформальных иерархических сетей патронажа. Это позволяет выстроить более сложную типологию, где диктаторские режимы будут представлены двумя типами: институциональные (бюрократические) диктатуры, как Китай, и патрональные, распространенные, к примеру, в Центральной Азии, – а наряду с либеральными демократиями будут идентифицированы патрональные демократии (Украина и Румыния). Кроме того, авторы различают режимы, в которых патрональные иерархии охватывают исключительно политическую сферу или и политическую, и экономическую.
Эта типология позволяет увидеть общее и различное посткоммунистических режимов Евразии в разрезе этих проекций и проследить их нелинейные траектории на протяжении трех десятилетий. Так, например, Эстония, Польша и Венгрия осуществили успешный переход от коммунистической диктатуры к либеральной демократии на первом этапе. Однако в отличие от Эстонии Польша совершила затем движение в обратном направлении – к консервативной автократии, а Венгрия – в направлении патрональной демократии, а затем – и патрональной автократии, считают авторы. Другая траектория транзита и посттранзита характерна для таких стран, как Румыния, Македония, Украина, которые никогда не были либеральными демократиями: совершив переход сразу к патрональной демократии, они оказались в контуре циклической динамики, которую определяют стремление тех или иных групп закрепить свое господство и сопротивление этим попыткам. Однако «цветные революции», периодически случающиеся здесь, не разрушают самого принципа патрональности, характеризующего устойчивые социальные структуры. Россия после периода «олигархической анархии» трансформировалась в патрональную автократию. А в таких странах, как Узбекистан, коммунистическая диктатура трансформировалась непосредственно в патрональную автократию.
Раздел Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича примыкает к важному и бурно развивающемуся направлению современных исследований, которые рассматривают динамику переходных и промежуточных режимов сквозь призму взаимодействия заимствованных институтов рынка и электоральной демократии и укорененных неформальных моделей социальной организации. К этому направлению принадлежит значительный пласт исследований политической роли неопатримониализма в африканских и постсоветских странах, а также концепция «патрональной политики» на постсоветском пространстве Генри Хейла, одного из авторов настоящего сборника9.
Тему устойчивых структур, позволяющих понять генезис постсоветских политий и их динамику на протяжении 30 лет, продолжает и наша статья в настоящей книге. Наш базовый аргумент состоит в том, что фактическая либерализация советского режима, происходившая в конце 1980‐х годов, вела (вопреки ожиданиям) к совершенно разным последствиям в разных частях Советского Союза, уровень социально-экономического развития и характер социальных укладов которых серьезно отличались друг от друга, и запускала различные комбинации политических и социальных процессов. Либерализация открыла дорогу трем социальным процессам: массовой демократической мобилизации (прозападной по идеологии), массовой националистической мобилизации и элитному сецессионизму (стремлению региональных элит к политической самостоятельности и контролю над местными ресурсами). Различные констелляции веса и значимости трех этих факторов формировали различные траектории перехода к посткоммунизму и определяли лицо конкретной формирующейся политии.
Выборы в Верховные Советы союзных республик, прошедшие в 1990 году еще в рамках СССР, сыграли роль учредительных для постсоветских политий, а их результаты в большинстве случаев довольно точно предсказывали дальнейшие политические траектории постсоветских стран. Там, где оппозиция уверенно выиграла выборы (Прибалтика), происходил успешный переход к либеральной модели, в тех республиках, где оппозиция не сумела оказать значимого влияния на исход выборов, либо старые элиты сохраняли доминирование и авторитарные структуры управления, либо эти структуры быстро восстанавливались после трансформационного кризиса. И наконец, те республики, где оппозиция сумела оказать существенное влияние на исход выборов, но не имела устойчивого большинства, составляют и сегодня пул полудемократий – «конкурентных олигархий» (Армения, Грузия, Молдова, Украина).
Этот взгляд позволяет, с одной стороны, видеть долгосрочные ограничения и устойчивость тех базовых балансов сил, которые формируют конкретную политию, а с другой стороны – обращают наше внимание на условия изменений. Формирующий характер выборов 1990 года связан с тем, что они продемонстрировали значимость и место электоральных процессов в рамках той или иной политии: там, где оппозиции удалось провести политическую мобилизацию и конвертировать ее в голоса избирателей, институт выборов утверждался как ключевой фактор политической динамики; там, где это не удавалось, выборы превращались в инструмент авторитарной легитимации. Впрочем, борьба вокруг этого вопроса возобновилась уже в начале 2000‐х годов и проявила себя в попытках все более широких манипуляций выборными процедурами, с одной стороны, и новых протестных мобилизациях против таких манипуляций – с другой. Там, где протесты были успешны и выливались в так называемые «цветные революции», сохранялся (Грузия 2003, Украина 2004, Молдова 2009, Армения 2018) или устанавливался (Киргизия 2005) конкурентный режим; там, где они терпели поражение (Азербайджан 2003 и 2005, Армения 2008, Белоруссия 2006 и 2010, Россия 2012), мы наблюдаем консолидацию авторитаризма и деградацию электоральных процедур.
Линию интеллектуальной критики прошлых представлений о транзите продолжает раздел Андрея Рябова, в которой выделены несколько факторов, сыгравших, по мнению автора, важную роль в траекториях стран Восточной Европы и бывшего СССР. Во-первых, это характер делегитимации коммунистического режима. В странах Центральной Европы и Балтии коммунистический режим воспринимался как привнесенный и сохранялась память об опыте сопротивления ему (восстания 1953, 1956 годов в ГДР и Венгрии, 1968 году – в Чехословакии, опыт «Солидарности» в Польше). На этом фундаменте и формировалась альтернативная, национально-демократическая система ценностей. В СССР легитимность режима базировалась на вполне укорененном представлении о его эффективности. Политика гласности и кризис 1980‐х подорвали это основание, выдвинув тезис о большей эффективности либерально-демократической модели, который и стал инструментом делегитимации режима. Однако в результате демократические и либеральные установки приобретали здесь не ценностный, а инструментальный характер. И когда в процессе трансформации связанные с ним издержки привели к девалоризации этих представлений, авторитарные модели вновь стали осознаваться как вполне приемлемые, если связанный с ними социально-экономический порядок позволял в какой-то степени решать проблемы «общего блага» и роста уровня жизни. Это и стало основанием ценностного «патерналистского ренессанса».
Второй фактор, по мнению Андрея Рябова, связан с характером приватизации. На постсоветском пространстве были реализованы две противоположные стратегии. Первая – ускоренная приватизация крупных активов, цели которой были не столько экономическими, сколько политическими: создание класса собственников, способных не допустить реставрацию. Вторая, наоборот, была направлена на сохранение этатистского характера постсоветских экономик и подразумевала сохранение национальных активов в государственной собственности. Однако в политэкономическом смысле обе они привели к одному и тому же результату: формированию института «власти-собственности», который начинает форматировать политический процесс и адаптирует правила экономического обмена к целям перераспределения ренты. Борьба за ренту ведет к тому, что политические процессы обретают циклический характер, т. е. превращаются в борьбу не между различными проектами будущего, а между разными группами за управление рентами, и ведут в итоге к «дефициту развития».
Новые типологии транзитов и посткоммунистических траекторий, основанные на достаточно продолжительном периоде наблюдений, фокусируются, как было проницательно отмечено Владимиром Гельманом, преимущественно на долгосрочных структурных факторах и, более того, стремясь преодолеть легизм и формализм прежних подходов, обращаются к анализу устойчивых неформальных моделей социальных взаимодействий, деформирующих и адаптирующих формальные институты. Кроме того, в отличие от типологий предыдущего поколения, нацеленных на объяснение «успешных» и «неуспешных» кейсов транзита, новые типологии стремятся объяснить по меньшей мере неоднозначную или даже противоречивую политическую динамику стран на протяжении всего посткоммунистического периода.
HOMO SOVETICUS – HOMO POST-SOVETICUSЕще одна принципиальная проблема, которую принесло с собой третье десятилетие посткоммунизма, связана с переосмыслением самого фактора «зависимости от прошлого» (path dependence). Объяснять те или иные проблемы и эффекты посткоммунистического общества ссылками на коммунистическое прошлое – на влияние социальных структур, ценностных стереотипов, институциональных практик, которые утверждались и воспитывались коммунистической системой, – казалось совершенно естественным в первом и даже во втором десятилетиях транзита. Сегодня же все острее встает вопрос: насколько длинны «тени коммунизма» и как долго можно к ним адресоваться, если практически все нынешнее население рабочих возрастов посткоммунистических стран либо вовсе не имело опыта социализации при коммунистическом режиме, либо застало этот режим лишь слегка и в периоде полураспада?
Поэтому, несмотря на неутихающий интерес к проблеме «зависимости от прошлого», сама она все более становится объектом проблематизации и деконструкции, а альтернативные гипотезы, связывающие проблемы посткоммунистических обществ не с опытом коммунизма, а с «травмами» самого транзита, неадекватными ожиданиями (как в разделах Ивана Крастева и Дэниэла Трейсмана в настоящей книге) или даже со структурными факторами, уходящими в досоветское прошлое (как в разделе Мадьяра и Мадловича в этой книге или в работе Ланкиной, Либмана и Обыденковой, посвященной тому, как уровень образования территорий царской России способствовал утверждению большевистского режима10), становятся все более популярны.
Концепция Юрия Левады и его соратников, впервые сформулированная в книге «Советский простой человек»11, – одна из первых попыток описать и теоретизировать «наследие коммунизма» в социологических терминах. Несколько волн исследований, предпринятых группой Юрия Левады на протяжении трех десятилетий, продлили жизнь «простого советского человека»: исследование обнаружило, что поведенческие модели и ценностные структуры «простого советского человека» не распадаются под влиянием новой институциональной среды или распадаются и меняются гораздо медленнее, чем это ожидалось; наиболее же радикальный вывод состоит в том, что именно «живучесть» и адаптивность авторитарных институтов способствует их регенерации в России. Эта точка зрения на проблему «советского наследия» и представлена в разделе директора «Левада-Центра» Льва Гудкова в настоящей книге и отражена в самом ее заглавии: «„Советский человек“ сквозь все режимы: тридцать лет исследовательского проекта».
По мысли Льва Гудкова, сохранившиеся после крушения советской системы рудиментарные тоталитарные институты (политическая полиция, суд, система образования), встроенные в постсоветский институциональный дизайн, способствовали воспроизводству тех «слоев коллективной памяти», которые не исчезли, но находились в спящем состоянии и в результате – воспроизводили «советского человека». Главные свойства данного собирательного типа определяются тем, что это человек закрытого, мобилизационного общества с его принудительными идентичностями, приспособившийся или приспосабливающийся к уравнительным иерархиям; человек, которому к тому же свойственен – в его постсоветской реинкарнации – имперский компенсаторный национализм, заместивший мессианскую коммунистическую идеологию. При этом многочисленные признаки и проявления социальной модернизации в России последних десятилетий носят, по мнению Гудкова, преимущественно поверхностный, «потребительский» характер, не затрагивая ценностной системы и фундаментальных поведенческих стереотипов, а «установки молодых и более образованных горожан на изменения были характеристикой не процесса, а определенной фазы социализации», т. е. являются не поколенческим, а возрастным феноменом. Формирование современного российского авторитаризма, пишет Гудков, «стало возможным не столько из‐за потенциала регенерации тоталитарных институтов, сколько в отсутствие сопротивления этим усилиям со стороны общества, политическая культура которого пронизана массовым нежеланием участвовать в общественных делах, отказом от ответственности, недоверием».
Эта точка зрения, как и в целом концепция «человека советского» и его судьбы в посткоммунистическом тридцатилетии, стали в последнее время предметом широкой полемики, грани которой представлены в третьей части настоящей книги12. Сэмуэл Грин в своем разделе обсуждает концепцию и судьбу «советского человека» в контексте широкого круга социологических исследований посткоммунистических обществ и привнесенных ими новых знаний о «постсоветском человеке». В русле тех тенденций, о которых говорилось выше, он предлагает рассматривать лояльность «постсоветского человека» постсоветскому авторитаризму, не ограничиваясь анализом собственно его политических предпочтений и паттернов политического поведения (сферой политического), но обращаясь ко всей совокупности его социальных навыков и взаимодействий. И в результате приходит к выводу, что ключевой концепт левадовской теории – характеризующая советского человека склонность к «пассивной адаптации» – далеко не полно их описывает. Напротив, основные стратегии социальной активности постсоветского человека сконцентрированы на «ближнем круге» – той среде ежедневных взаимодействий, в которой он находит поддержку и способы достижения личных целей. Именно с этим уровнем взаимодействий («на расстоянии вытянутой руки») связываются представления о социальном и индивидуальном успехе, в то время как сфера политического, широких горизонтальных взаимодействий остается для «постсоветского человека» малозначимой, слабо связанной с его жизнью и интересами и в результате становится сферой «символической политики», не требующей значительной вовлеченности и наполненной преимущественно абстрактными, символическими концептами. Глядя на сферу политического как на периферийную, постсоветский человек в то же время стремится использовать ее инструментально как определенный ресурс в выстраивании социальных стратегий «ближнего круга», поэтому присоединение к символическому политическому большинству, будь то пропутинское или прокрымское большинство, выступает в качестве своего рода социальной «смазки» – дополнительного механизма социализации и «рамки доверия». Иными словами, «постсоветский человек» отнюдь не пассивен в своей частной сфере, но избегает выхода из привычного ему круга социальных взаимодействий, не приветствует институциональные изменения, которые бы привели к ее деформации и перестройке, и выстраивает свое отношение к сфере «общественной» скорее с утилитарных, чем с ценностных позиций.
В своей интерпретации «советского наследия» Евгений Гонтмахер обращается к концепту поколений. В сущности, его рассуждения лежат в русле фундаментального вывода книги Дж. Такера и Гр. Поп-Элечес «Тень коммунизма», где на широком социологическом материале убедительно показана зависимость масштабов этого наследия от длительности жизни при коммунизме тех или иных поколений13. В то время как первое поколение посткоммунистических лидеров рекрутировалось либо из рядов номенклатуры, либо из когорты борцов с коммунизмом – и это во многом определяло подходы этих лидеров к посткоммунистической действительности и приверженность тем или иным институциональным образцам, – второе поколение нередко формировалось из тех, кто, с одной стороны, не участвовал в антикоммунистическом движении и борьбе с коммунизмом на рубеже 1980–1990‐х, а с другой, имел опыт социализации при старом режиме. Это поколение комфортно себя чувствовало с коррупцией и гибридными институтами посткоммунистической эпохи и сохраняло «ностальгический» пласт ценностных представлений, связанных с прежним режимом. К нему относятся и недавно ушедшие лидеры, такие как Виктор Янукович и Петр Порошенко в Украине, Серж Саргсян в Армении, и остающиеся у власти – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Лишь в последние годы начался переход власти к следующему поколению политиков, не имевшему опыта социализации при коммунистическом режиме, таких как Никол Пашинян или Владимир Зеленский, который скоррелирован с ростом доли постсоветских поколений в электорате, резюмирует Евгений Гонтмахер.
Действительно, сегодня в России при анализе политических предпочтений и поведенческих стереотипов проблема поколений выходит на первый план в данных социологических опросов: распределение предпочтений в младших когортах (до 35–40 лет) и старших (старше 55 лет) выглядит как перевертыш, и эта картина оказывается достаточно устойчивой14. Значительную роль в этом, безусловно, играет различие в структуре «информационного потребления», однако, во-первых, сам по себе «телевизионный навык» и синдром доверия телевизору являются своего рода рудиментом социализации в предыдущей эпохе, а во-вторых, консерватизм старших поколений может быть равно атрибутирован также травматическому опыту транзита, повышающему в глазах его носителей ценность «сохранения статус-кво». Пережив в своей жизни мощную волну социальных и институциональных новаций, эти поколения не хотят изменений и привержены телевизору, поддерживающему и культивирующему этот комплекс «усталости». Стоит при этом иметь в виду, что население России является достаточно «старым» и люди в возрасте от 18 до 40 лет, не имевшие опыта социализации при коммунизме, составляют в 2020 году 38% взрослого населения, в то время как люди старше 55 лет, имевшие такой опыт и пережившие травму транзита, – 37%.
Концепция «советского человека» и новые волны исследований этого феномена группой Юрия Левады в 1990‐х и 2000‐х годах базировались на данных российских опросов и категориальном аппарате формирующейся российской социологии. Владимир Магун и Максим Руднев в своей статье в настоящем сборнике тестируют ее на материале международного сравнительного исследования, использующего для замера динамики ценностных ориентаций общеевропейскую ценностную типологию15. Заметны ли в этой концептуальной и методологической рамке следы «советского человека» как особого социального типа? Семь волн европейских опросов 2006–2018 годов демонстрируют отличие постсоветских и посткоммунистических стран от прочей и в особенности Северной Европы на «карте» ценностных ориентаций. Ценностные ориентации в этих странах оказались сильно сдвинуты на оси «безопасность – открытость к изменениям» к полюсу «безопасности» и в сторону индивидуалистических установок на оси «индивидуализм – альтруизм». Этот групповой сдвиг и следует, видимо, считать отражением социального наследия коммунистических режимов: социальность здесь строится вокруг страха и стремления избежать опасности, и именно на этой основе возникают расчет на защиту государства, конформизм и иерархичность – патерналистские установки, вполне созвучные тому социальному типу, который описывала группа Юрия Левады.
Однако за последние полтора десятилетия, отмечают авторы раздела, ценностные ориентации россиян демонстрируют значительный сдвиг в направлении «полюса» открытости («активного индивидуализма»; тот же вектор наблюдается в Украине и ряде посткоммунистических стран); в то время как большинство стран «старой Европы» переживали сдвиг в направлении «полюса» альтруизма, который в этих странах остается невыраженным. Таким образом, с одной стороны, данные подтверждают наличие некоего общего типа ценностных ориентаций посткоммунистических стран, а значит – и гипотезу «человека советского», а с другой – демонстрируют отчетливую динамику снижения ценности «безопасности», а с ней и набора признаков «авторитарного рефлекса», и нарастание склонности к изменениям («активный индивидуализм») и гедонизму.