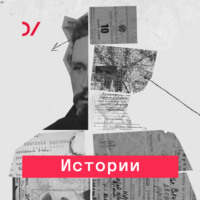Полная версия
Демонтаж коммунизма. Тридцать лет спустя

Демонтаж коммунизма Тридцать лет спустя
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая вниманию читателя книга выходит в 2021 году. Тридцать лет назад перестал существовать Советский Союз, что, по общему мнению, стало событием глобального значения. Но если искать начальную точку этого процесса, то все сходится на 1989 годе.
Именно тогда волна демократических революций в странах так называемого «социалистического лагеря» снесла не только Берлинскую стену, но и «железный занавес» между Востоком и Западом. И здесь давайте отдадим должное тогдашнему политическому руководству Советского Союза, и прежде всего отцу перестройки – Михаилу Горбачеву. Они начали пусть непоследовательные, но настоящие реформы в сердцевине коммунистической системы, что и обеспечило благоприятные условия для освобождения стран Центральной Европы от советского контроля.
Чуть позже, в 1991 году, революционная волна докатилась до СССР, который в результате прекратил свое существование. На его месте появилось целое созвездие новых независимых государств, каждое из которых пошло своим историческим путем. Искренний порыв сотен миллионов людей постсоветского мира к демократии и свободе, к устройству жизни в соответствии с базовыми европейскими ценностями натолкнулся на многие объективные и субъективные препятствия.
Что мы видим сейчас, спустя три десятилетия? Очень пеструю картину. С одной стороны, вся Центральная Европа вошла в Европейский союз и НАТО, там же и Прибалтийские республики. С другой стороны, мы видим явное доминирование авторитарных тенденций в России, Белоруссии, Азербайджане. А такие страны, как Украина, Молдова, Грузия и Армения, с разным успехом пытающиеся выбраться из болота советского наследия, регулярно переживают политические потрясения. Но и в, казалось бы, вполне европейских по устройству жизни странах Центральной Европы начали появляться ростки мягкого авторитаризма, когда правящая партия пытается взять под свой контроль судебную систему и медиа, ограничить политическую конкуренцию.
Нам, в Экспертной группе «Европейский диалог», показалось интересным провести анализ тенденций за истекший с момента фактического краха коммунистической системы период, с тем чтобы извлечь уроки для общеевропейского будущего. А оно обещает быть неспокойным. Недоброжелатели в очередной раз пророчат закат европейской цивилизации. И необходимо активизировать все интеллектуальные и экспертные силы, чтобы достойно ответить на те вызовы, которые пришли с XXI веком и продолжают появляться (самый свежий пример – коронавирусная пандемия).
Представляемая Экспертной группой «Европейский диалог» книга является результатом реализации проекта «Тридцать лет постсоветской Европы». В рамках этого проекта в 2019 году мы провели две большие международные конференции – в Юрмале (Латвия) и Москве. Материалы представленных на них докладов и послужили основой книги, составителем которой стал программный директор проекта Кирилл Рогов. Надеемся, что те мысли, которые отражены на ее страницах, помогут усилиям по обретению европейской цивилизацией «второго дыхания».
Успешная реализация проекта и подготовка книги были бы невозможны без всесторонней поддержки наших партнеров, которым мы выражаем нашу искреннюю благодарность:
– Дмитрию Борисовичу Зимину и Zimin Foundation;
– Балтийскому форуму (Янис Урбанович, Игорь Юргенс);
– Международному фонду социально-экономических и политологических исследований (Фонд Горбачева) (Ольга Здравомыслова);
– Представительству Европейского союза в Российской Федерации (Маркус Эдерер);
– филиалу Фонда имени Генриха Бёлля в Москве (Йоханнес Фосвинкель);
– Фонду имени Фридриха Эберта, Россия (Пеер Тешендорф).
Евгений Гонтмахер, научный руководитель Экспертной группы «Европейский диалог»ВВЕДЕНИЕ: ДРАМА ОЖИДАНИЙ/ДРАМА ПОНИМАНИЙ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ТРАНЗИТА И СПОРОВ О НЕМ
Кирилл Рогов
Прошедшие в апреле – мае 1989 года первые в СССР альтернативные выборы народных депутатов дали старт политической реформе, переносившей опоры государственной власти от партийных к представительным выборным органам. В том же 1989 году в считаные месяцы – с июня (победа «Солидарности» на выборах в Польше) по декабрь – волна «бархатных революций» буквально смыла коммунистические режимы Центральной Европы, казавшиеся еще за пару лет или даже за несколько месяцев до того совершенно незыблемыми. Опубликованная летом 1989 года статья Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» констатировала поражение и крах коммунистической системы как исторического проекта. В феврале – марте 1990 года под напором невиданных по массовости демонстраций руководство СССР вынуждено было исключить из советской Конституции 6-ю статью, закреплявшую монополию коммунистической партии на власть. На прошедших затем выборах в Верховные Советы союзных советских республик в четырех из них (республиках Балтии и Грузии) антикоммунистическая оппозиция получила большинство, а еще в целом ряде других – создала мощные фракции в парламенте. И хотя Советский Союз просуществует еще до конца 1991-го, основным сюжетом этого года станут споры о стратегии перехода к рынку, о границах суверенитета различных его территорий и фактический демонтаж старых структур власти. Потому именно 1989–1990 годы можно и следует считать эпохой антикоммунистической революции, положившей конец этому социальному проекту. Этот же период стал и подлинным апогеем надежд и ожиданий, связанных с относительно бескровным, почти волшебным крушением коммунизма. Судьба этих ожиданий, равно как народов и стран, их испытавших, в течение тридцати последовавших лет и составляет главный предмет этой книги.
ТРИ ПЕРИОДА ПОСТКОММУНИЗМА И ТРИ ЭПОХИ ЕГО ОСМЫСЛЕНИЯЗа прошедшие тридцать лет изучение посткоммунизма – политической, социальной и экономической эволюции бывших коммунистических стран – сложилось в целую сферу гуманитарных знаний. Еще более замечательно, что понимание природы транзита за это время пережило несколько этапов глубокого переосмысления, сменявших друг друга по мере того, как менялась историческая картина посткоммунистической ойкумены.
Первый этап, характерный для 1990‐х годов, был в наибольшей степени исполнен рационального оптимизма и веры в реформы как инструмент социальной реконструкции. В полном соответствии с тезисами Фукуямы западная модель либеральной рыночной демократии выглядела единственной мыслимой альтернативой не выдержавшему исторической конкуренции социализму, а потому предполагалось, что все посткоммунистические страны, хотя и с разной скоростью, с разным набором недоделок и ошибок, будут двигаться, в сущности, единственной дорогой строительства социального порядка, аналогичного западному (см. об этом в разделе Ивана Крастева в настоящей книге). Возникла даже особая дисциплина – транзитология, – ставившая своим предметом изучение оптимальных и неоптимальных стратегий этого движения и его закономерностей, выработку рекомендаций по трансплантации лучших практик. Важнейшей презумпцией этой идеологии была мысль о том, что посткоммунистические общества и элиты, уже имеющие перед глазами образцы эффективно работающих в странах Запада институтов, могут воспользоваться этим багажом, пропустив промежуточные стадии и трансплантировав на национальную почву «зрелые» формы современного либерального капитализма. Эта презумпция формулировалась как «преимущество догоняющего развития»1.
Однако уже в первой половине 2000‐х годов разочарование в предположениях этого подхода вполне обозначилось и было вполне отрефлексировано2. С одной стороны, к этому моменту не только страны Восточной Европы, но и все республики бывшего СССР, преодолев трансформационный экономический спад и периоды политической турбулентности, вышли на траекторию экономического роста, обрели более устойчивые правительства и как-то функционирующие политические институты. Однако именно в этот момент стало очевидно, что значительная часть из них не готова и не намерена двигаться в соответствии с теми алгоритмами, которые мыслились как наиболее короткий и правильный способ усвоения институтов и практик либерально-демократической модели. Отказавшись от коммунистической идеологии и допустив идею частной собственности и свободные цены, эти страны между тем не прилагали усилий для установления порядка верховенства закона, ограничивали или стремились ограничить политическую конкуренцию и предпочитали зафиксировать и сохранять достигнутые в ходе борьбы и противостояний 1990‐х – пусть и неоптимальные – политические равновесия, нежели экспериментировать с ними во имя целей «правильных» реформ.
Этот этап осмысления посткоммунистического транзита можно назвать нормативистским. Посткоммунистические страны были поделены на «отличников», которые продемонстрировали впечатляющий прогресс в продвижении к стандартам западной модели, и «отстающих», не сумевших воспользоваться предложенным чертежом и застрявших на полдороге или даже обратившихся вспять (среди последних числились в основном республики бывшего СССР). Исследователи преимущественно были заняты поиском ответа на вопрос «почему у одних стран получилось, а у других не получилось?» и осмыслением того, где и кем были совершены ошибки и чего не хватило сошедшим с рельсов вестернизации обществам и элитам (ср. характерное заглавие книги Стивена Фиша «Democracy derailed in Russia: The failure of open politics»3).
Однако через десять с небольшим лет, в конце 2010‐х годов, картина еще раз существенным образом изменилась. Если 2000‐е годы для большинства посткоммунистических стран Евразии были эпохой экономических успехов, связанных с возможностями восстановительного роста, благоприятной мировой конъюнктурой и прогрессом глобализации, то 2010‐е годы, наоборот, стали периодом, когда эти благоприятные факторы перестали действовать или заметно ослабли (средние темпы роста центральноевропейских и постсоветских стран замедлились с 5,7% в 2000‐х до 2,6% в следующем десятилетии). К концу 2010‐х годов большинство стран и территорий, которые 10–15 лет назад считались «отличниками» в продвижении к западной модели, либо оказались захвачены реверсивным трендом – по крайней мере частичным отказом от идеалов либеральной демократии (Венгрия, Польша), либо погрузились в глубокую фрустрацию и ресентимент (Болгария, Прибалтика, Восточная Германия). Несмотря на успешную институциональную интеграцию в Большую Европу, их население ощущает себя ее глубокой периферией, переживает мощный отток рабочей силы, в особенности молодых и перспективных когорт, и не располагает ресурсами для экономического рывка, притом что уровень жизни остается здесь на порядок ниже, чем в «Европе первого сорта».
С другой стороны, многие из тех стран, которые 10 лет назад были признаны «двоечниками» транзита и стали объектом сурового анализа, вскрывающего причины их неудач, вовсе не склонны «исправлять ошибки» и считать себя «отстающими», а, наоборот, мыслят себя в роли вполне состоятельных примеров альтернативной модели «нелиберального капитализма», критически настроены ко многим аспектам западного уклада и не рассматривают либеральную демократию как перспективную цель и образец. Через тридцать лет после ошеломительного краха «коммунистической альтернативы» и «конца истории» конкуренция моделей социально-политического развития вновь оказалась – по крайней мере отчасти – на повестке дня, хотя теперь это «соревнование» не между социализмом и капитализмом, а между либеральным капитализмом и капитализмом не- или даже антилиберальным.
Эта новая картина отдаленных последствий краха коммунизма заставляет нас существенно переосмыслять события 30-летней давности. Специфика изучения событий новейшей истории состоит в том, что по мере того, как мы удаляемся от исторического события и узнаем его все более отдаленные последствия, меняется и наше представление о самом этом событии – о значимости и взаимосвязи тех или иных факторов и обстоятельств. Предлагая своеобразный срез современного понимания уроков транзита и посткоммунистического тридцатилетия, настоящая книга представляет читателю взгляды, мнения и интерпретации этой новой, третьей, стадии его переосмысления и пытается ответить на круг поставленных перед нами третьим десятилетием транзита новых вопросов.
ДРАМА ОЖИДАНИЙ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕССИМИЗМАКак уже было сказано, поразительным образом именно те, кто 10–15 лет назад считались «лучшими учениками», прекрасно усвоившими уроки антикоммунизма, и в наибольшей степени продвинулись в адаптации и усвоении институтов и правил либеральной демократии и рыночной экономики – страны Центральной и Восточной Европы, – на третьем десятилетии транзита оказались охвачены глубоким ресентиментом. Этот ресентимент где-то проявляет себя в формах социальной депрессии, а где-то принял форму настоящего электорального восстания против либерального европейского мейнстрима, что можно наблюдать не только в Польше или Венгрии, но и в Восточной Германии, голосующей за левые и ультраправые партии. При этом лежащие на поверхности гипотезы – обращение к экономическим факторам или попытки объяснения этого поворота «зависимостью от прошлого», незавершенным ценностным переходом, – хотя и небеспочвенны, но выглядят недостаточно убедительно.
Иван Крастев в своей теории исчерпанной повестки имитации обращается к пласту социальных реакций жителей Центральной и Восточной Европы, связанных не с коммунистическим прошлым как таковым, но именно с ожиданиями и опытом транзита. В этой перспективе нынешний кризис либеральной демократии и ресентимент Центральной Европы выглядят результатом не неудачи, а скорее успеха транзита: например, ВВП Польши утроился по сравнению с коммунистическим временем, неравенство сокращается. Корни ресентимента следует искать в ожиданиях и предположениях 1989 года: знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы объявила не только конец коммунизма, но и конец конкуренции социально-политических проектов и безальтернативность либеральной западной модели. Соответственно, все, что нужно было делать, это по возможности точно имитировать Западную Европу в своих национальных границах. При этом, с одной стороны, уровень и качество жизни в Центральной Европе так и не достигли уровня Запада, с другой – приблизиться к ним можно было, не дожидаясь плодов имитации в своей стране, но сразу переехав на Запад. В результате около 25 млн человек просто уехало из Восточной Европы в Западную. И наконец, стратегия имитации неизбежно вызывает напряжение между имитирующим и имитируемым, пишет Иван Крастев, и, как это бывает в среде эмигрантов, во втором поколении возникает спрос на идентичность, а повестка имитации выглядит ущербной и бесперспективной. Имитационная модель транзита недооценила психологическую и социальную потребность иметь альтернативу и выбор, именно поэтому столь влиятельная в свое время статья Фукуямы была в следующей эпохе подвергнута столь ожесточенной критике, а промежуточные успехи имитации выглядят для восточноевропейского общества свидетельством не столько социальных достижений, сколько социальной неполноценности.
Если предметом анализа Ивана Крастева стали массовые ожидания и массовые фрустрации жителей Восточной Европы, то Андрей Мельвиль и Георгий Сатаров обращаются к теоретическим ожиданием элит, политиков и социальных исследователей, то есть обращаются от драмы ожиданий к драме пониманий. Статья Георгия Сатарова – в 1990‐е годы политического советника президента Ельцина – посвящена тем лакунам социальных знаний, которые обнаруживались по мере того, как предположения и ожидания по поводу динамики и траекторий транзита стали все больше расходиться с реальностью. В основе этих ожиданий лежали убеждения «высокого модернизма», т. е. чрезмерная и ничем не подтвержденная вера в управляемость социальных процессов. В основе проектной деятельности реформаторов при осуществлении транзита лежал классический легизм – представление, что правильные законы формируют правильные практики, и понимание институтов как результата действия писаных норм. Именно проблемы транзита на втором этапе его осмысления стали стимулом для широкой дискуссии о формальных институтах, об их способности менять реальные практики, о подрывном действии неформальных практик, меняющих реальное содержание и функционал писаных правил. Альтернативный «высокому модернизму» подход базируется на принципе, сформулированном чилийскими биологами Умберто Матурана и Франсиско Варела: «Внешние воздействия на живую систему неинструктивны». Иными словами, очень сложные системы «реагируют на внешние воздействия в соответствии со своим внутренним устройством», пишет Георгий Сатаров.
Впрочем, доминирующее сегодня разочарование в имитационных стратегиях не стоит абсолютизировать. Отметим справедливости ради, что, хотя во многих случаях попытки трансплантации, адаптации и имитации приводили к результатам далеким от желаемых, заимствования и копирования играют огромную роль в современном социальном развитии и многие страны добивались значительных успехов, используя эти стратегии. С другой стороны, там, где имитация не удавалась или отвергалась, фактические институциональные решения выглядят, как правило, довольно далекими от оптимальных. Так или иначе, неудачи транзита и «транзитологии» стали своего рода трамплином в развитии социального знания, и прежде всего в обсуждениях проблем взаимодействия формальных институтов и неформальных практик, а также границ и возможностей социального конструирования.
Андрей Мельвиль, продолжая методологический sturm und drang «опыта непониманий» и ложных теоретических ожиданий, выделил пять неоправдавшихся предположений социальной мысли начала 1990‐х годов. Во-первых, «демократизация без предпосылок» – представление, что структурные ограничения не так важны, как выбор акторами правильных стратегий, и что демократизация возможна в силу только того факта, что старые структуры насилия рухнули под влиянием тех или иных обстоятельств, создав условия для «плюрализма по умолчанию». Сегодня, по итогам тридцати лет, мы видим сложную картину, где просматриваются как успехи «стратегий акторов», так и «реванш структур» (в частности, в примерах «авторитарного отката»). Вторым теоретическим уроком стала проблематизация основной гипотезы модернизации – представление о росте спроса на демократию по мере формирования ее экономических предпосылок. Феномен экономического роста и роста благосостояния, не порождающий спроса на демократию, еще требует своего осмысления, равно как и реинтерпретации тех условий и порогов, при которых рост благосостояния все же этот спрос формирует.
Еще одно ожидание связано с верой в значимость «правильного институционального дизайна» как ключа к успеху. Продолжая линию рассуждений, намеченную Георгием Сатаровым, Андрей Мельвиль отмечает два вывода, вытекающих из анализа посткоммунистического опыта. С одной стороны, попытки трансплантировать «лучшие образцы» могут оборачиваться созданием «субститутов» вместо институтов, с другой – вполне эффективным может оказаться использование паллиативных, транзитных институтов, не соответствующих лучшим образцам, но работающих (эта логика прямо противоположна логике «перескакивания» и заимствования «лучших образцов», речь о которой шла выше). Действительно, два эти открытия, взаимно дополняя друг друга, продвигают нас дальше в том, что можно назвать «теорией заимствования». С одной стороны, попытка копирования «образцов» наталкивается на сопротивление сопутствующих ограничителей (проблема комплементарности институтов) и в результате может вести к дисфункции института. В то же время противоположная стратегия, учитывающая сопутствующие ограничители, позволяет адаптировать функционал института к фактическим условиям и их ограничениям. Практика паллиативных институтов (second-best institutions) в последние 15 лет широко обсуждалась применительно к проблемам экономической политики в странах с переходными или развивающимися экономиками (см. работы Дени Родрика4), но гораздо реже – в применении к проблемам политического развития.
Четвертая проблема – это проблема одновременности реформ и состоятельности государства, подчеркивает Андрей Мельвиль. В целом наличие эффективного государства должно предшествовать успешным либеральным реформам: либерализация требует эффективного правопорядка, в противном случае открытые ею возможности будут «приватизированы» узкими группами интересов. Однако борьба за состоятельность государства оборачивается подчас формированием таких институтов, которые не способствуют, а эффективно препятствуют реформам. Они либо оказываются слишком ригидны и репрессивны, либо формируют описанную Джоэлом Хеллманом ловушку «ранних победителей», не заинтересованных в продолжении реформ5.
И наконец, пятое ложное ожидание имело мощный эмоциональный фундамент: это характерное для «эпохи 1989 года» предположение, что авторитаризм остался в прошлом, пишет Андрей Мельвиль. Теории предполагали возможность реверса, но лишь в качестве временных эксцессов; реальность же первых десятилетий XXI века выглядит обескураживающей. Авторитаризмы не только не остались в прошлом и на обочине цивилизации, но, наоборот, продемонстрировали способность к адаптации и разнообразию мутаций и подтверждают свою социальную востребованность. Место модной в конце XX века «сравнительной демократизации» (comparative democratization) в последние 10–15 лет все более уверено занимает сравнительное изучение авторитаризмов (comparative authoritarianism), которые демонстрируют пока способность справиться с успехами модернизации и глобализации, с вызовами информационной эпохи и бумом социальных сетей.
Вполне продемонстрированный в первых трех разделах книги и доминирующий сегодня среди интеллектуалов, политиков и исследователей «трансформационный пессимизм» сам стал предметом рефлексии в тексте Владимира Гельмана. Этот «пессимистический консенсус» относительно итогов транзита заставляет исследователей в поисках его объяснений фокусироваться на структурных факторах, которые выглядят долгосрочными и устойчивыми. В результате надежды на смену тенденций отодвигаются в неопределенное будущее и связываются со сменой поколений, последствиями дальнейшего экономического роста. Однако весьма похожий взгляд на вещи, отмечает профессор Гельман, господствовал в рассуждениях политологов и социологов 1970‐х годов: они точно так же сосредотачивались на структурных факторах и относили возможные изменения в социалистическом блоке в неопределенное и отдаленное будущее, не видя никаких предпосылок к ним в настоящем. Иными словами, когда ученые обсуждают сложившийся статус-кво, им свойственно апеллировать к структурным факторам, но когда реальные изменения начинаются и оказываются, как всегда, неожиданными и непредвиденными, аналитики вынуждены сосредоточиться на акторах – агентах изменений, которых они рассматривают в качестве триггеров тех изменений, которые не были предсказаны на основе анализа структурных факторов. Именно такие стратегии, фокусирующиеся на роли акторов, господствовали в описаниях событий 1980–1990‐х годов в эпоху транзитологического оптимизма. Однако, предполагает Владимир Гельман, ограничения для демократизации на постсоветском пространстве, которые сегодня выглядят структурно обусловленными и фундаментальными, могут в большей степени оказаться следствием влияния акторов, чем это считается в рамках «пессимистического консенсуса». Именно акторам принадлежит в том числе существенная роль в конструировании того «образа прошлого», который заставляет нас приписывать больший вес одним структурным факторам в ущерб другим. Задача сегодня – вернуть действия политических игроков в центр нашего анализа, резюмирует Владимир Гельман.
Дэниэл Трейсман в заключительном разделе первой части атакует «пессимистический консенсус» с сугубо позитивистских позиций. В двух знаменитых статьях, написанных им совместно с Андреем Шляйфером (2004, 2014), авторы настаивают – вопреки скептикам и критикам – на относительной «нормальности» посткоммунистических траекторий России и других бывших стран социализма6. И в настоящей книге Дэниэл Трейсман не отступает от этой линии. Задача, стоявшая перед коммунистическими странами, заключалась в том, чтобы преодолеть макроэкономический кризис, поразивший социалистические экономики, провести структурную перестройку, встроиться в глобальные рынки и «догнать» Запад по уровню развития и жизни. Решение и первой, и второй задачи заняло больше времени, чем предполагалось, но они тем не менее были решены. По уровню инфляции, уровню безработицы после трансформационного всплеска 1990‐х мы наблюдаем конвергенцию показателей посткоммунистических и развитых стран, происходит постепенная конвергенция и в структуре экономик. Так или иначе была решена задача интеграции в мировые рынки, и в 2000‐х годах посткоммунистические страны пережили период бурного роста и значительной модернизации экономик.