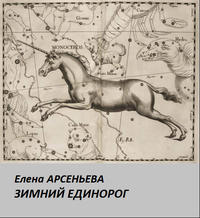Полная версия
Год длиною в жизнь
А впрочем, что-то он сейчас не о том задумался. «Спаситель» по-прежнему смотрит на него выжидающе, и Лавров уставился удивленно, и Рита… Она тоже на него смотрит, да как!
Что происходит, товарищи? Что произошло в то краткое мгновение, пока он отвлекся на свои размышления?
– Аксаков? – прищурился Лавров. – Ваша фамилия – Аксаков? Извините, вы… вы кем работаете?
Заминка в его вопросе была почти незаметна, однако Григорий все же заметил ее и понял: Лавров хотел сказать что-то другое. Интересно, отчего их с Ритой так заинтересовала его фамилия? Спросить бы, но, наверное, не стоит, пока их обоих так и стрижет глазами «бурильщик» в сером костюме. Ясно же, что Лавров ничего не скажет!
– Я заканчиваю журфак, – скромно сообщил Георгий. – Сейчас на практике в редакции «Энского рабочего».
– А, так вы здесь по заданию редакции? – сообразил Лавров.
– Да, мне поручено написать материал об Олеге Вознесенском, вернее, о том, как прошли похороны.
– Ну что ж, думаю, вы тут узнали кое-что интересное для себя, – сказал Лавров. – И если поедете на кладбище, еще многое узнаете. Надеюсь, вы сможете все это описать точно и ярко.
«Бурильщик» покосился на Георгия и тотчас отвел глаза, но взгляд его был весьма выразителен.
«Пиши, пиши, практикант! – читалось в нем. – Написать ты можешь все, что угодно, но напечатают ли твою писанину – большой вопрос!»
Георгий мысленно вздохнул. Мало того что Полозков бдит, над ним ведь есть еще редактор, а над редактором – учреждение под названием Главлит. Вот уж мимо кого ни птица не пролетит, ни рыба не проплывет, ни зверь не прорыскнет! Придиры там сидят – не дай Господь. В каждой строчке видят идеологический просчет. Не далее как вчера Георгий своими ушами слышал, как завотделом культуры и литературы объяснял местной поэтессе, почему ее стихотворение напечатано с купюрами:
– У вас там фраза была: «Все меньше в жизни дружбы, все больше пустоты». Помните?
– Конечно, помню! – обиженно простонала поэтесса. – Почему ее убрали?
– Цензор Главлита велел, – вздохнул завотделом. – Сказал, что нельзя такую строку оставлять, ведь могут подумать, что в нашей стране, в жизни наших людей «все меньше дружбы, все больше пустоты». Ну и все такое…
– Да кто же может подумать? Кого они все боятся, в вашем Главлите? – взывала отчаянно поэтесса. Но взывала напрасно: завотделом только плечами пожимал да руками разводил, а еще возводил очи гор́е, словно намекая: там, наверху, виднее…
Конечно, цензоры не пропустят и намека на целинную трагедию. Но это их дело. А дело Георгия – описать все, что он узнал сегодня. И что узнает на кладбище.
– Товарищи, кто еще едет? – громогласно спросил распорядитель похорон.
Георгий обнаружил, что двор почти опустел: гроб занесли в катафалк, знакомые Вознесенского, собиравшиеся проводить его до конца земного пути, сели в два автобуса, соседи, явившиеся только к выносу, возвращались в свои подъезды. Автобусы уже фырчали моторами, ужасно чадя. Рита сморщила нос, смешно замахала рукой перед лицом, разгоняя бензиновую гарь.
«Можно подумать, у них там, в заграницах, автобусы не чадят! – вдруг обиделся Георгий. – Да во всех газетах пишут о том, как вредные промышленные выбросы портят тамошнюю природу».
Распорядитель похорон забрался в автобус и махнул шоферу:
– Вроде все. Отправляемся!
– Погодите! – спохватился Георгий. – Я тоже еду!
Он кинулся к дверце, вскочил на подножку, обернулся: Лавров и Рита смотрели ему вслед. «Серый костюм» торопливо вышагивал к серой же «Волге», доселе стоявшей у крайнего подъезда.
«Я забыл проститься с Лавровым и с ней! – ужаснулся Георгий. – Что она обо мне, невеже, увальне энском, подумает? Вот деревня, скажет!»
И такая тоска его взяла, что он чуть не кинулся вон из автобуса, плюнув на задание редакции. Но тут дверцы сомкнулись прямо перед его носом, как будто для водителя успешная практика студента Георгия Аксакова имела значение куда большее, чем для самого вышеназванного студента. И автобус тронулся.
Георгий успел увидеть, как Рита, пожав плечами, повернулась к Лаврову, взяла его под руку и вместе с ним пошла со двора.
«Что она обо мне подумает? – мысленно повторил он со странным, злобным чувством, которого прежде не испытывал. – Да она завтра даже не вспомнит обо мне! Да она забудет обо мне уже через минуту! Самое большее – через пять минут!»
Георгий опустил глаза, чтобы не видеть никого. Он ненавидел сейчас Лаврова, которого Рита взяла под руку. Почему? Называлось это чувство ревностью, но Георгий очень удивился бы, если бы узнал, что он, оказывается, ревнует незнакомую женщину к почти незнакомому человеку. Нет, ну в самом деле, вот глупость, а?
1940 год
«Для Татьяны Ле Буа, 12, рю де ля Мадлен, Париж
Мадам, не удивляйтесь тому, что это письмо без подписи, и не считайте его пошлой анонимкой. Вы не знаете меня, мое имя ничего Вам не скажет, а в случае, если оно попадет в чужие руки, могут выйти неприятности и Вам, и мне. Поэтому я останусь для Вас неизвестным. И все же прошу дочитать письмо до конца и поверить каждому моему слову. Единственной рекомендацией мне может быть то, что Ваш адрес я получил от одного человека. Не знаю, кто Вы ему, он не успел мне объяснить, но, уж коли он хранил Ваш адрес, это кое о чем говорит… Имени я его не знаю, знаю только, что он русский. Я и сам русский, и то, что мы с ним встретились, принадлежит к числу тех неисповедимых случайностей, на которые столь щедра война. Ведь она, подобно урагану, сметает все на своем пути, и жалкие песчинки – судьбы человеческие – в ее вихре смешиваются, на мгновение касаются друг друга и вновь разлетаются. Так пересеклись на миг и наши судьбы.
Нетрудно догадаться, что русский во Франции – значит, эмигрант. Нас много здесь. Моя жена (она бежала из Петрограда зимой 18-го года по льду Финского залива), наши общие друзья (уходили из Крыма на последних кораблях, пережили все ужасы «Галлиполийского сидения»)… Многие русские эмигранты давно были мобилизованы в армию – меня и моего друга не взяли по состоянию здоровья. Мы уехали из Парижа 20 мая 1940 года, опасаясь, что немцы, как только возьмут Париж, сразу вывезут русских в концентрационный лагерь. Мы отправились с семьями в Шабри, где загодя сговорились снять дом на лето. Надеялись пересидеть самое суматошное время начала оккупации, а вышло, что угодили как кур в ощип.
Мы выехали в половине пятого утра на Орлеанское шоссе. Сперва все шло отлично, но потом жандармы[4] начали заставлять сворачивать на объездные дороги, хотя шоссе ранним утром казалось почти пустым. Но наконец мы поняли почему: перед нами по правой стороне дороги потянулась бесконечная вереница грязных машин, тяжелых повозок, грузовиков, набитых чумазыми от пыли, изможденными людьми. А еще шли пешком десятки, сотни людей, ехали коляски, повозки с инвалидами… Одно время мы ехали рядом с бельгийским грузовиком, который вез тридцать девочек лет десяти-двенадцати, в белых платьях и белых вуалях, с венчиками на голове. Оказалось, они из бельгийского города Монс. Немцы уж входили в город, а кюре успел всех детей прямо из церкви, где проходило первое причастие, увезти. Паника была страшная… Мы сперва громко удивлялись, показывали друг другу машины – эта из Голландии, а эта из Бельгии, но потом замолкли. Зрелище было неожиданное, пугающее. Ведь столько людей уже несколько дней (так близко от Парижа!) шли, брели, ехали, а мы ничего не знали.
Захотелось вернуться в Париж, но Шабри был уже ближе. Мы вошли в прекрасный, просторный дом на самом краю села, почувствовав несказанный покой. Кто знал, что Шабри станет местом последнего сражения, данного армией генерала Вейгана незадолго до перемирия в Монтуаре! Мы очутились рядом с последним оплотом французской армии на пути бошей.
Бесконечное количество беглецов прошло в те дни через Шабри. Много было солдат, пробиравшихся в одиночку или по двое-трое, – пыльных, усталых, голодных, с несчастными лицами. Они боялись всех, ведь их все бросили, начальство их либо удрало на машинах, либо оказалось уже в плену.
Как-то в сильную жару четверо чумазых рядовых сели в овражке перед нашим домом передохнуть. Жена моя вышла и спросила их, не хотят ли они пить. Затем вынесла им сперва воды, а потом и горячего кофе с белым хлебом. Из соседних домов выглядывали жители Шабри, потом к нам стали подходить, принесли еду. Постепенно образовалась целая толпа. Солдаты вслух, не стесняясь, кляли начальство, англичан, немцев – всех на свете! Какой-то старик, ветеран прошлой войны, начал их жестко упрекать, страсти разгорелись. Моя жена быстренько забрала кофейник и чашки, попрощалась со всеми и ушла в дом, а я остался.
– На войне всякое бывает, – сказал один из солдат, на вид лет пятидесяти. Он был довольно высокий, полуседой и сильно прихрамывал. Одежда на нем была полувоенная: обыкновенные, цивильные брюки и ботинки, но френч, сильно просторный для его худого тела, и форменное кепи. При нем имелась винтовка без штыка, а на шее висел «шмайссер». – То наступаешь, то отступаешь. Если вы, мсье, воевали, должны были это запомнить. И первое дело на войне – дисциплина. Если начальством солдату дан приказ отходить – что ему остается делать?
Ветеран успокоился, закивал согласно, стушевался.
Я, нахмурясь, слушал хромого. У него был странный выговор – некое дуновение акцента в нем чувствовалось.
– Вы русский, что ли? – догадался вдруг я.
Его глаза – большие, серо-зеленые глаза – так и вспыхнули:
– Да.
– Я тоже, – сказал я. – Вы откуда?
Я имел в виду – из какого он города, но его ответ был краток:
– Из России.
Ясно, он не хотел о себе говорить. Ну что ж, его дело. Да и правда, не время для светских любезностей!
– Ранены? – спросил я. – Может быть, ногу перевязать? Видно, что вам трудно идти.
– Ну, моя рана зажила почти двадцать пять лет назад, – усмехнулся он. – Это память о боях в Галиции. Я, как и тот мсье, уже воевал с бошами – с четырнадцатого года по семнадцатый.
– Возраст у вас непризывной. Мне сорок, а вы даже постарше… – неопределенно сказал я. – И рана у вас старая… Неужели вы в армии?
Он пожал плечами и стал объяснять:
– Я жил почти три года в Бургундии, в Муляне. Работал у одного винодела. Вдруг слухи о войне. К хозяину приезжает сосед, тоже винодел, ухмыляется. Ничего, говорит, мы с Германией торгуем испокон веков, войны проходят, а торговля остается. Коллекционные вина, дорогие лозы, уникальные наши земли – это мировое достояние, война Франции и Германии тут совершенно ни при чем. Так он сказал. Может, он и прав, но мне на их коллекционные вина плюнуть и растереть. Война есть война! Попросил я расчет и подался к Парижу. Там у меня семья. То есть бывшая семья. Я сам от них ушел… так нужно было. – Тут хромой замялся. – Вообще меня мертвым считают, наверное. Я не мешал им жить, а теперь беспокойство одолело. Ну и пошел я. По пути вот пристал к этому отряду. Кепи и оружие на обочине подобрал, френч подарил мне каптенармус, которому я починил велосипед…
– Пора двигать дальше, – задумчиво пробормотал один из солдат. – Только винтовки придется бросить, патронов все равно нет.
– Патронов нет, это правда, – кивнул хромой. – Но все же – как без оружия?
– Да ну, лишняя тяжесть! – сказал тот же солдат. – Тебе винтовка вместо палки сгодится, а нам зачем…
Хромой оценил неуклюжий юмор беглой улыбкой:
– Ладно, винтовку можно бросить, обойдусь без палки. А «шмайссер» жалко. Еще у меня в кармане револьвер. Он мне когда-то от погибшего товарища достался. Выручит и теперь в случае чего.
– Надо в обход дорог идти, тогда никакого случая не будет, – буркнул солдат, призывавший бросить винтовки, и остатки бравой французской армии побрели через просторный выгон к дороге.
– Как ваша фамилия? – крикнул я вслед по-русски.
Хромой обернулся, покачал головой, блеснул глазами – и больше не оглядывался. Я пошел в дом со странным ощущением, что мы еще увидимся с ним.
Так и случилось – буквально через несколько дней. Вернее, я его увидел, а он меня – нет…
То, что немецкая армия скоро появится и в Шабри, становилось все яснее, и числа 15–16 июня настроение стало совсем тревожным.
Наступило 18 июня. Париж был уже занят немцами, их войска безудержно стремились к югу и западу от столицы. В тот знаменательный день, часов около пяти, генерал де Голль произнес свой знаменитый призыв к сопротивлению, Résistance, и продолжению войны вне территории Франции. Я не поверил собственным ушам: никому не известный генерал призывал из Лондона продолжать борьбу – Франция, мол, проиграла лишь одно сражение, а не войну. Он призывал всех офицеров, солдат, военных инженеров, летчиков и моряков присоединиться к нему и вступать в ряды войск Свободной Франции, France Libre. И уже через два часа будет открыта запись по такому-то адресу в Лондоне! Он закончил словами: «Vive la France!»
Мы себе места не находили после этой передачи. Едва уснули. А утром, около восьми часов, нас разбудила артиллерия – начался бой за переправу через реку Шэр. Снаряды падали все чаще. Им отвечали танки. Откуда они взялись там? Потом мы узнали, что вечером со стороны Шабри заняли позицию четыре небольших танка и около двадцати солдат – их командир, лейтенант, был человек решительный и спокойный, уверенный в том, что он обязан продолжать сражаться против немцев, сколько бы их на той стороне реки ни было.
Наступило затишье в перестрелке, наши семьи были вне себя от страха, и мы последовали примеру населения Шабри: переползли-перебежали в небольшой лесок. И вовремя: перестрелка снова началась.
Немцы выпустили по Шабри более двухсот снарядов. Четыре танка, защищавшие мост через Шэр, и их начальник отступили от Шабри к югу, по направлению к замку Валансэ. Снарядов больше не было, вот и решили отходить. Но кто-то должен был прикрывать отступление. Вызвался один солдат. Он дал своим время скрыться, а когда подошли немецкие броневики, открыл по ним огонь – и был убит.
Бой закончился, обстрел прекратился, все вернулись домой.
Старик-сосед, ветеран мировой войны, постучал ко мне среди ночи вне себя от возбуждения. Оказывается, он и его сыновья в темноте прокрались к месту гибели того солдата.
– Это был хромой! Ваш, русский! – твердил сосед. – Он стрелял из своего «шмайссера». Ни одного патрона не осталось. Он там лежит, весь изрешеченный. Боши своих убитых подобрали, а его бросили. Надо бы его похоронить, а?
Я немедля оделся и пошел с ними. У нас были потайные фонари, с какими крестьяне ходят ночью в погреба.
Нашли тело, постояли над ним. Да, это был он. Хромой. Значит, он не ушел с теми солдатами, которые бросили оружие. Значит, вернулся и сражался вместе с французами, сопротивлялся бошам до конца жизни. Слышал ли он призыв де Голля? Или поступил так, повинуясь велению души? Теперь уже никто не узнает.
Ни его «шмайссера», ни револьвера, о котором он говорил, рядом не было. Конечно, забрали боши… Но забрали у мертвого, а не у живого!
Я смотрел на него, направив свет фонаря. И вдруг увидел, что под изорванным пулями френчем что-то белеет. Оказалось, книга. Вернее, брошюрка. Тоненький сборничек стихов, изданный в Париже. Автор – поэт Георгий Адамович. Ну что ж, в наших кругах – имя известное. Я и сам прежде читал его стихи, очень их любил.
Я перелистал книжечку и нашел среди страниц листок. На нем было написано: «Меня зовут Дмитрий Аксаков. В случае моей смерти прошу сообщить в Париж, мадам Татьяне Ле Буа, по адресу: 12, рю де ля Мадлен».
Я взял книгу и записку себе и мысленно поклялся исполнить его просьбу. Мы зарыли тело и сделали отметку на том месте. Старик обещал смотреть за могилой.
Надо думать, он держит слово. Я тоже держу свое.
Много я видел героев, мадам, я ведь успел повоевать, хоть был тогда, в Гражданскую, совсем мальчишкой. Наверное, кое-что еще мне предстоит увидеть – ведь многие отозвались на призыв де Голля к Résistance. Но среди этих героев – известных и неизвестных, настоящих и будущих – незабываемым останется для меня подвиг русского солдата Дмитрия Аксакова, который погиб за свободную Францию.
Возможно, мне следовало бы переслать Вам и книгу, в которой лежала записка. Но, во-первых, я не убежден, что письмо мое до Вас дойдет, а во-вторых, не знаю, имеет ли она для Вас какое-то значение. Для меня же она теперь священна. Как прощальный дар товарища по оружию, понимаете? Если когда-нибудь судьба нас с Вами сведет, я передам Вам ее. Ну а пока всего лишь переписываю для Вас то стихотворение, которое было заложено последней запиской Аксакова. Книга, повторяю, пулями продырявлена, но я эти стихи и без подсказки знаю – так же, как многие из нас, многие русские:
Когда мы в Россию вернемся… о Гамлет восточный, когда? —Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем…Больница. Когда мы в Россию… колышется счастье в бреду,Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду,Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мглеКолышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.Когда мы… довольно, довольно. Он болен, измучен и наг,Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.Когда мы в Россию вернемся… но снегом ее замело.Пора собираться. Светает. Пора бы и трогаться в путь.Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.Прощайте, мадам Ле Буа. Ваш безымянный друг».
1965 год
– Слушай, Гошка, как ты думаешь, они там в самом деле…
Лёша Колобов нерешительно умолк.
– Что – они? Что – в самом деле? – раздраженно спросил Георгий: он терпеть не мог, когда его называли Гошкой.
В Энске так звали всех Георгиев, Егоров и Игорей подряд, но он уже в детстве «собачью кличку» не выносил и в конце концов избрал очень простой способ довести это до сведения всех родственников и знакомых: перестал на «Гошу» и «Гошку», а также на «Гошеньку» отзываться. Правда, тут же он понял, что нагнал на себя новые хлопоты. Сосед снизу, Северьян Прокопьевич, начал звать его Геркой. Тоже кошмар, но ладно, как-то можно было пережить, а вот Гогу или Жору – нет и нет! Мысленно Георгий поругивал маму, которая выбрала для него такое неудобное имя. В честь родного отца, понятно, а все же… Да нет, имя-то как раз было красивое и, главное, довольно редкое, не затертое, как всякие там Саши или Лёши, но уменьшительной формы-то для него путной не подберешь, хоть голову сломай.
Немалое время прошло, прежде чем окружающие усвоили, что Аксаков отзывается только на имя Георгий, а всего остального просто не слышит. Пока это время проходило, его гораздо чаще звали по фамилии, против чего Георгий совершенно не возражал. Фамилия ему нравилась. «Гошкой» его теперь называли только недавние знакомые, не успевшие усвоить его принципиальной позиции по данному вопросу, или совсем уж тупые робята, вроде Колобова. Сущее «тенито», как называли мямлей в Энске. Слово скажет – и тотчас умолкнет, будто сам себя испугается: а то ли сказал? А не лучше ли было смолчать? Георгий Лёшку недолюбливал и только диву давался, как Колобов отважился записаться в группу «Комсомольского прожектора»: ведь активистам иной раз приходилось и с милицией схватываться, а для этого как-никак нервишки крепкие нужны. Пусть и не врукопашную, конечно, схватки происходили, а словесно, можно сказать, интеллектом сражались, но все же… А впрочем, Лёшка Колобов первый раз участвовал сегодня в рейде активистов, поэтому некоторую нерешительность и робость ему вполне можно было простить.
– Ты имеешь в виду, правда ли, что те девицы торгуют своим телом за деньги? – усмехнулся Валерка Крамаренко. – Ну да, а как еще? В том-то и есть смысл проституции. Или ты думаешь, они награждают своими прелестями отличников соцсоревнования – и всё задаром?
Георгий вскинул голову, прищурился, подставив лицо ветру. От души надеялся, что никто не заметил, как его бросило в жар. Есть некоторые слова, от которых его не то что корежит или коробит, а как-то… не по себе становится. Чего уж, казалось бы, стыдиться слова «проститутка»? Ленин вон, к примеру, так называл Троцкого в своих статьях – и ничего. А между тем щеки и уши загорелись. Ну да, к Троцкому это слово применимо только в политическом смысле, но когда употребляешь его не в политическом, а в бытовом, невольно сразу представляешь себе, чем «те девицы» конкретно занимаются. И становится очень даже не по себе. За деньги, главное! Противно. Но вот девчонки-малярки из рабочего общежития, к которым в прошлом году однажды привел Георгия Валерка Крамаренко, – они, если по-честному, были кто? Девчонки оказались симпатичные: маленькие ростиком, так что Георгий смотрел на них сверху вниз и чувствовал себя в полном смысле слова на высоте, разбитные и веселые: слово скажешь – они уже заливаются хохотом. Валера и Юрка Станкевич не забыли прихватить две бутылки портвейна: они в общежитии бывали не раз и отлично знали, что нравится девочкам. Георгий купил шоколадных конфет «Ласточка» и «Школьных» – повезло, как раз выбросили, он и в очереди-то почти не стоял, какие-то полчаса не считаются. Сначала Георгий ужасно стеснялся, все три девчонки казались ему на одно лицо, но после пары рюмок портвейна он уже начал немножко ориентироваться в суете, пахнущей одеколоном «Гвоздика», и даже определил, что ему больше всех нравится, пожалуй, Зая. И хорошо, потому что Маруська должна была достаться Валере, а Люся – Юрке Станкевичу, ребята заранее предупредили, чтобы Георгий на этих двух чувих и не думал заглядываться, а вот, мол, Зая – его.
– Вообще-то меня зовут Зоя, – пояснила девчонка между прочим. – Но уж больно суровое имя, меня в школе дразнили Зоей Космодемьянской. Да ну, больно надо!
Георгий считал, что Зоя – очень красивое имя, но ладно, пусть она будет Зая, если ей так хочется… А впрочем, он ни разу ее по имени и не назвал. Кажется, вообще слова ей не сказал. Как-то не до того было! Все случилось очень быстро. Вот они с Заей еще переглядывались через стол, а вот она уже сидит рядом и ее нога прижимается к его ноге, ее бедро – к его бедру, а вот она хохочет и повторяет: «Ну, ты и швыдкий, ну и ну!» Георгий крепко призадумался: «Что такое «швыдкий»?» Но это было неважно, главное, она его ни разу не назвала ни Гошей, ни Гогой, ни Жорой, а то, наверное, он обиделся бы и сплоховал. Но он не сплоховал, хотя и струхнул было, когда Зая вдруг откинулась на спину и потянула его на себя. Вдобавок оказалось, что его рука уже у нее за пазухой и при падении на Заю он руку чуть не вывихнул. «Когда я только успел?» – изумился Георгий, но тут же обо всем забыл, потому что Зая его заблудившуюся руку из-за пазухи вынула и положила себе на живот, на трикотажные трусики. Под ними что-то такое было… непонятное. Понять хотелось, но трусики мешали, Георгий их с Заи стащил, ну а дальше все было «как у людей», хотя удовольствия, если честно, вышло чуть. А слов-то, слов на эту тему сказано и написано…
– Да ладно, не тушуйся, в первый раз так всегда и бывает, – утешил его потом Валерка, когда они тащились домой на последнем трамвае. – Нам еще ничего, а девчонкам вообще худо попервости – им больно, и они орут знаешь как… И кровь идет…
– Да ты что? – почти с ужасом спросил Георгий. – Но Зая не орала, и крови вроде не было. А может, я не заметил?
– Ты что, решил, что девочку имел? – хохотнул Валера. – Да у Заи таких, как ты, было-перебыло! Она, конечно, не шлюха, но давалка еще та. У них в общежитии, такое ощущение, девочек совсем не осталось. Некоторые из деревни уже приезжают готовенькие, а некоторые сразу со здешними парнями начинают валандаться. Вообще девки в таких общежитиях чем хороши? Неприхотливые, цену себе не набивают. Бутылка, конфеты… Никаких кафе или ресторанов, вполне по карману нашему брату студенту. А то ведь со стипендии не слишком-то по ресторанам находишься!
Георгий прикинул расходы. Полкило «Школьных» и полкило «Ласточек» встали ему рубля в три. Стипендия – двадцать восемь. Да, с нее не шибко нашикуешь… Но это сугубо его карманные деньги, дома о них даже и разговора никогда не заходит: отчим считает, что у парня должны водиться свободные деньги. Ну что ж, дядя Коля получает хорошо, даже пенсия у него – ого-го, дай Бог каждому.
– Девчонки, знаешь, бывают двух видов: умные и дуры, – разглагольствовал между тем Валерка Крамаренко. – Умные выпьют, конфет поедят – и сразу в койку, потому что понимают: парень только за тем и пришел, а если начнешь его мурыжить, он уйдет и завтра «Три семерки» и «Ласточку» отнесет другой. Дуры начинают форс гнуть: мол, только после свадьбы! Или все же согласятся, но после ноют: когда ты на мне женишься, меня мамка убьет… ну и все такое. Главное, знают прекрасно, ну какая может быть женитьба! Прямо-таки парни с радиофака или журфака ходят к маляркам-штукатурщицам, чтобы невесту там себе найти! Ну просто кино «Цирк зажигает огни»! Но все равно болтают всякую чушь. Потому что дуры!