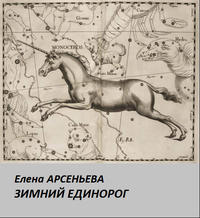Полная версия
Год длиною в жизнь

Елена Арсеньева
Год длиною в жизнь
Где-то, когда-то, давным-давно тому назад…
И. ТургеневВесь мир – как огромный цветок.Ты плачешь от счастья, без сил,При мысли, что хоть на часокИ ты этот мир посетил.А. Лодзинский…И потому, что время длится бесконечно,И потому, что этот мир велик,И потому, что мы с тобой моглиНе повстречаться…Благословляем мы боговЗа то, что сердце в человекеНе вечно будет трепетать,За то, что все вольются рекиКогда-нибудь в морскую гладь…Р. БроунингПролог из 2007 года
Старая дама сидела в зеленом металлическом кресле около фонтана в Тюильри и щурилась на ослепительное небо. Среди череды сырых и ветреных дней, ознаменовавших начало года (даже в ночь на первое января шел настоящий, праздничный, новогодний проливной дождь), наконец-то выдался такой вот – тоже ветреный, но до того солнечный, что с самого раннего утра Тюильри был наполнен народом. Нет, многочисленные туристы, решившие встретить Новый год в красивейшем городе мира, еще не выползли из своих отелей – это парижане ловили краткий миг света и сияния. Опять же, день был выходной, поэтому около фонтана, карусели и коновязи толпились мамы и папы со своими отпрысками. От карусели до старой дамы долетали звуки незатейливых веселеньких мелодий, от фонтана – жадное кряканье уток, которые выпрашивали у зевак кусочек багета, а от коновязи доносился успокаивающий голос маленького рассудительного португальца, который водил по кругу выводок терпеливых пони и осликов. На их спинах восседали парижане в возрасте от двух до семи лет. Малышню привязывали к седлам веревками. Те, что постарше, сами вдевали ноги в стремена, сами держались, щеголяли удальством, снисходительно посматривая на родителей, и ужасно негодовали, если какая-нибудь aan или grand-иre пристраивались обочь кавалькады, беспокоясь за свое дитятко. Впрочем, ехидно подумала старая дама, почти каждый парижанин может нынче сказать о себе: «Je ’en foutise!»,[1] – ну а выдается это за то, что они, мол, уважают достоинство подрастающего поколения. А потому большинство родителей терпеливо переминалось с ноги на ногу у коновязи, ожидая, когда дети и внуки вернутся с верховой прогулки.
Не смогла преодолеть своего беспокойства только одна высокая женщина. Она шла рядом с пони, на котором сидела амазонка лет двух. Женщина следила за малышкой, а старая дама следила за ней.
Конечно, не француженка. Сразу видно! Слишком красивая. Это ведь всем известно, как закон природы: если дама элегантно одета, значит, француженка. Если красива – значит, славянка. Да, есть что-то такое в лице, особенно – в безмятежном взгляде серых глаз. Европейцы так не смотрят, не умеют смотреть, вот разве что дети… но и те отучаются очень быстро: жизнь их отучает. Ну, c’est la vie! А славяне сохраняют такой взгляд до преклонного возраста – да, их загадочная душа… Поскольку старая дама сама имела славянские корни, она очень любила это выражение о загадочной славянской душе.
А вот, кстати, о возрасте. Интересно, сколько лет красивой славянке? Стройная, лицо почти без морщинок, хорошо одета… Да разве угадаешь возраст нынешних ухоженных дам? Ей может быть и тридцать пять, и сорок пять, и больше, современная косметика творит чудеса. Повезло нынешним красавицам!
– Ты не боишься? – раздался обеспокоенный голос той женщины, и старая дама даже вздрогнула: надо же, угадала! Она в самом деле славянка, вдобавок русская. Теперь дама поглядывала на эту особу с особенным любопытством.
Несмотря на то что фамилия дамы была Ле Буа и она родилась и всю жизнь прожила во Франции, она тоже была русская. Чистокровная русская! Ле Буа ее звали не по мужу, а по отчиму. Замуж мадам Ле Буа (вообще-то ее следовало бы называть мадемуазель, но, согласитесь, как-то не совсем ловко именоваться девицею в возрасте восьмидесяти двух лет, поэтому она никогда не поправляла тех, кто называл ее мадам) за всю свою жизнь так и не вышла, хотя любовников у нее было великое множество. Единственный раз она собиралась под венец, но не успела – жениха ее убили. И с тех пор ни разу не возникало у нее желания связать хоть с кем-то свою судьбу. А впрочем, нет, однажды все же мимолетно взбрела ей в голову такая блажь… Это было сорок два года тому назад. Но, конечно, тот порыв и в самом деле был сущей блажью. Во-первых, долго нельзя так любить, как любили они с тем мужчиной. Страсть в браке быстро проходит, и на смену ей является тоска. Выходить замуж по страсти следует только в шестнадцать-семнадцать лет. Когда она собиралась под венец впервые, ей как раз исполнилось шестнадцать, и она была страстно влюблена, что было вполне нормально, естественно. А вот в другой раз… Главное, тот человек был совершенно чужд ей, ну вообще чужой человек, из далекой и страшной, чужой, хоть и родной страны… Ох, какая кошмарная страна – Россия! Когда-то оттуда бежали отец и мать мадам Ле Буа, а потом, спустя почти полвека, бежала и она… с растерзанным сердцем, потеряв за один только год столько души своей, что, казалось, вовек не обрести утраченного, никогда более не обрести покоя. Но время, всемогущее время унесло горе, смыло его, как река. Время и в самом деле похоже на реку, на воду – все смывает. И лечит все, будто целебная вода. Хорошо это или плохо? Неизвестно. Шекспир отвечал однозначно: «Время – для немногих счастье, скорбь – для всех!»
Мадам Ле Буа пожала плечами. Она бы не стала утверждать столь категорично. Ей-то воспоминания о былых временах уже не приносят ни скорби, ни счастья, ни ужаса. Хотя… Нет, она лукавит перед собой. Разве вчера вечером, когда она шла мимо церкви Святого Юсташа в Ле Аль, она не испытала подлинного страха от внезапно нахлынувшего воспоминания?
Вчера вечером старая дама решила прогуляться по Монтергёй. Она любила эту шумную пешеходную улицу со множеством магазинов. Здесь сказочные кондитерские и булочные, а рыбные, мясные и цветочные лотки и фромажерии[2] держат не арабы, которых теперь сплошь и рядом видишь даже в центре, а настоящие французы. Еще их отцы и деды держали те же самые рыбные, мясные и цветочные лотки и фромажерии – здесь же, на Монтергёй, рядом с Центральным рынком, со знаменитым Чревом Парижа, воспетым Золя. Может быть, если бы мадам Ле Буа встретилась с этими самыми отцами и дедами, у них нашлось бы, о чем поговорить, о чем вспомнить, сидя за столиком одного из здешних многочисленных бистро, которые тоже помнят былое… Она ведь тут часто бывала в прежние времена! Неподалеку от Монтергёй, вон там, за углом, была конспиративная квартира 9-й группы парижского отделения FFL, Forces de la France Libre, войск Свободной Франции. Может быть, в нее входил и кто-то из старожилов Монтергёй…
Но, скорей всего, никого из тех стариков уже нет – как нет больше и Чрева Парижа. Теперь на его месте прелестный парк. Только она что-то задержалась тут, на этом свете. Одинокая старуха, переполненная воспоминаниями, будто ее китайская шкатулка – пуговичками. Боже мой, каких только пуговичек там нет! Даже с матушкиных платьев! Их начала собирать еще в Харбине grand-aan…
Нет, ну при чем здесь давно покойная grand-aan? При чем здесь пуговички? Мысли скачут, совершенно как блохи на уличной собаке, не угнаться за ними!
Кажется, сто лет прошло с тех пор, как она видела настоящую уличную собаку. Это хорошо, конечно, что больше нет бездомных псов, а все-таки почему-то хочется встретить на улице вдруг не одного из рафинированных золотистых ретриверов или страшненьких тигровых бульдогов, а веселую лохматую дворняжку с любопытной, словно бы улыбающейся мордой – как раньше, давным-давно…
Стоп. Мысли опять разлетелись. Монтергёй, она почему-то вспоминала про Монтергёй… Почему? Может быть, потому, что однажды видела здесь саму английскую королеву? Да-да, ее величество Елизавета тоже любила Монтергёй и как-то раз, во время очередного визита в Париж, решила прогуляться по этой чудной улице. Конечно, она была окружена толпой охраны и толпищей зевак, так что старая дама увидела не то чтобы королеву, вернее, совсем не королеву, а всего лишь краешек розовой вуали, красивым облачком осенявшей королевскую шляпку. А это, конечно, не считается.
Ах нет, сообразила вдруг мадам Ле Буа, она вспоминала Монтергёй вовсе не из-за королевы, а из-за того высокого парня, который внезапно появился из-за церкви Святого Юсташа. Он шел быстрой, решительной походкой, развернув плечи. На нем было крохотное кепи с маленьким козырьком, надвинутое на лоб, короткое приталенное пальто, распахнутое так, что были видны свитер и галифе, заправленные в высокие, до колен, сапоги с узкими голенищами. Мадам Ле Буа даже ахнула, когда его увидела, даже зажала испуганно рот ладонью. Совершенно так одевались в Париже во время оккупации те парни, которые пошли на службу к гитлеровцам. Это был их особый шик: куртка, перешитая из шинели, кепи, надвинутое на лоб, сапоги и галифе. Увидишь такого франта – и понимаешь: перед тобой прихвостень бошей. Среди них были не только французы, но и русские, такие же отпрыски эмигрантов, как и Рита Ле Буа, и они были почему-то особенно безжалостны к соотечественникам, которые работали в Сопротивлении…
Мода нынче вернулась – на такие же кепи, такие же галифе и сапоги? Или этот парень в самом деле выскользнул из дальнего уголка воспоминаний, глубоко запрятанных в душе старой дамы?
Она не любила вспоминать войну, как, впрочем, не любила вспоминать кое-что, случившееся уже во вполне мирные времена: в 1965 году. В том году она побывала в России… Она предпочитала проскальзывать в своем сознании мимо этих двух событий – совершенно как умело делать то же самое Время, о котором писал в «Зимней сказке» Шекспир:
Я – для немногих счастье, скорбь – для всех.Для злых и добрых – страх и радость…Я вечно то же, с древности далекойДо наших дней. Мое взирало окоНа самое начало бытия;И сделаю таким же прошлым яТо, что царит теперь. Оно увянетИ сказкою, как эта сказка, станет!Перевернуть часы позвольте мнеИ думайте, что были вы во сне.Старая дама деликатно зевнула, прикрыв рот рукой, затянутой в коричневую замшевую перчатку, и устало прищурилась. Ее и в самом деле вдруг стало клонить в сон. Слишком уж ярко светило нынче солнце, вот в чем дело. Не по-зимнему, а по-весеннему! Сверкали мраморные статуи богов и героев, сверкала белая щебенка, которой усыпана земля в Тюильри, сверкала вода в фонтане, и даже перья отъевшихся на туристских багетах уток сверкали…
Сверкают перья уток? Absurde. У нее просто что-то с глазами. Вот что подумала мадам Ле Буа. В старости такое бывает. Видишь то, чего нет, вспоминаешь то, о чем не стоит вспоминать, вообще лезет в голову всякая ерунда. Например, сейчас она подумала, глядя вслед той русской женщине, которая все еще идет за кавалькадой маленьких всадников, что, если бы в 1965 году в России не умерла ее новорожденная дочь, она бы выглядела сейчас, наверное, совершенно так, как эта красивая дама. Ей было бы чуть за сорок. А кто эта маленькая девочка, которая сидит на пони? Ее внучка? Или поздняя дочь? Значит, такой же девочкой могла бы быть внучка или правнучка мадам Ле Буа, и ей не пришлось бы коротать жизнь в полном одиночестве.
on Dieu и Боже мой, это уже маразм. Во всех русских женщинах, которым под сорок, она невольно видит свою дочь, как будто та не умерла, едва успев родиться!
«Успокойся, – строго сказала она себе. – Не думай больше об этом. От таких мыслей ты начинаешь волноваться, а волноваться в твои годы вредно».
Время, о котором писал Шекспир, Старик Время, как называл его Метерлинк, – много ли они оставили ей времени?..
Старая дама поудобнее устроилась в металлическом кресле, вытянула ноги в изящных замшевых туфлях, увы, уже изрядно испачканных белой пылью. Определенно, у нее уже начался старческий маразм. О чем она только думала, надевая их в Тюильри? Все знают: в замшевой обуви сюда приходить нельзя, теперь туфли непоправимо испорчены. Эту пыль ничем не отчистишь до конца, все равно остаются белесые пятна. Придется покупать новые, искать вот такую же замшу, которая бы подходила по цвету к перчаткам… Ну не смешно ли: подбирать не перчатки к туфлям, а туфли к перчаткам?
А впрочем, слабо улыбнулась старая дама, в ее годы уже смешно заботиться о таких мелочах. На ее век как-нибудь хватит и этих туфелек. Пусть даже и с пятнышками!
«Я знаю, век мой уж измерен…» Она вздохнула. Или зевнула? «Я знаю, век мой уж измерен, но чтоб продлилась жизнь моя…» Как там дальше? Как же, как же?.. Неужели не вспомнить? Ах, вот, вспомнила! «Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я!» Эти стихи из «Евгения Онегина» читал ей тот мальчик… ну да, он был совсем мальчишка, герой ее давнего-давнего романа…
Мадам Ле Буа повернула голову и посмотрела вслед той женщине. Нет, конечно, она ни при каких обстоятельствах не может быть ее дочерью, ведь тогда у нее были бы черные глаза, как у отца. А у нее, кажется, серые… у мадам Ле Буа тоже серые… Или все-таки может случиться, чтобы у черноглазого отца и сероглазой матери родилась сероглазая дочь?
Старая дама смежила веки. «Забудь!» – приказала она себе. А почему бы не вздремнуть под зимним, но совершенно весенним солнцем, под шум фонтана? Она поспит совсем чуть-чуть, а потом пойдет к себе, в свою квартиру близ площади Мадлен. Им, Ле Буа, испокон веков принадлежал весь этот дом. Налоги, конечно, высоки, во Франции просто грабительские налоги. Ну так что ж, она не бедствует, совсем нет, на ее век хватит, на ее век…
1965 год
– Они живут на Ашхабадской, угол улицы Невзоровых, в том доме, где 29-я поликлиника, – сказал завотделом. – Начало мероприятия в двенадцать часов. Сам решай, поедешь со всеми на кладбище или только на поминки заглянешь.
– Да, наверное, сначала на кладбище надо бы поехать, – пробормотал Георгий. – А то как-то неудобно получится: вдруг явился, как с печки упал, – и сразу за стол. Там небось только свои будут, коллеги его. Вообще все это неловко… Может, мне завтра или послезавтра прийти в больницу и поговорить там о нем? Ну какое интервью может быть на похоронах?
– Ладно тебе миндальничать, Аксаков, – недовольно двинул стулом завотделом. – Ты что, идешь на похороны какого-нибудь Ваньки Пупкина, сормовского слесаря? Не-ет, хоронят не последнее в городе лицо! Знаменитого хирурга, к которому едут лечиться со всех концов нашей необъятной родины!
– Ехали, – вздохнул Георгий.
– Что? – осекся завотделом. – А, ну да, конечно, ехали. Энск по праву может гордиться своим сыном. Юношей он по зову сердца уехал в составе комсомольского отряда покорять целинные земли, бросив медицинский институт. Во время степного пожара он получил ожоги, долго болел и вынужден был вернуться в Энск. Однако не пал духом: закончил институт, а вскоре стал ведущим хирургом ожогового центра областной больницы, уникальным специалистом по пересадке кожи. И это в тридцать с небольшим лет! Что и говорить, жизнь давала ему щедрые авансы… как жаль, что ему не суждено было ими воспользоваться!
Георгий чуть приподнял брови. Сколько ни приучали его штамповать газетные статьи из готовых словесных кирпичей, он никак не мог к этому привыкнуть. Привыкать, если честно, было неохота. Не успеешь оглянуться, как вообще разучишься не только писать, но и разговаривать по-людски. Вот завотделом уже разучился, бедолага. Хотя, сказать по правде, насчет авансов, которые давала жизнь, не так уж плохо получилось.
Завотделом между тем задумчиво моргал. Выражение и ему понравилось. Он даже сам не ожидал, что способен родить нечто столь свеженькое. «Надо бы записать», – подумал он, но тотчас мысленно махнул рукой.
– Дарю фразу тебе, Аксаков, – сказал с отеческой интонацией. – Вставишь в свой матерьяльчик. Пользуйся на здоровье!
– Спасибо, Иван Исаевич, – кивнул Георгий. – Фраза что надо!
– Вот именно…
Завотделом суетливо перекладывал гранки на столе. Ему стало ужасно жалко «авансов», но теперь уже деваться некуда. Как говорит младшая дочка – школьница, подарки не отдарки. И чего он расщедрился? Для него эта фраза – случайная удача, а Аксаков, мальчишка, такие печет, будто теща – блины на Масленицу. Талантлив, как бес, пишет, как птица поет! Вот и для него жизнь щедра, ох, щедра на авансы! Оно, конечно, цыплят по осени считают, а все же случается, что и под осень жизни, в сорок пять, считать уже нечего. И никаких цыплят ты уже не высидишь, как ни тужься, завотделом областной газеты Иван Исаевич Полозков…
– Ладно, Аксаков, поезжай, чего время тянешь? – сказал он уныло. – Если хочешь успеть к выносу, надо вовсю подметки рвать.
– А можно я возьму редакционный «газик»? – спросил Георгий.
– А вот от барства отвыкать надо, Аксаков, – укоризненно вскинул глаза завотделом. – Ты еще не генерал, как твой отчим. И не редактор газеты. И до завотделом тебе еще расти да расти. Это руководящему составу казенный транспорт положен, а ты молодой, хоть и подающий надежды, журналист-практикант, на «двойку» садись, которая идет по городскому кольцу. Или вообще – ножками, ножками…
– Нет, я уж лучше на трамвае. «Зайчики в трамвайчике…» – хмыкнул Георгий, выходя из кабинета, и немедленно стер улыбку с лица: все-таки он ехал на похороны. И хотя день был чудесный, уже совсем летний, в такой день только по сторонам глазеть, заглядываться на широкие, накрахмаленные юбки девчонок, которые как взгромоздились три года назад на шпильки, так и не собираются с них слезать, хотя мужчине и вообразить трудно, как можно ходить на таких жутких, ненадежных подпорках, но вот ходят же, и как ходят… Словом, день никак не располагал к печали или хотя бы к грустным размышлениям, однако Георгий все пытался собраться с мыслями.
Пока он собирался, трамвай ушел. Из-под носа ушел! Ждать следующего можно было до завтрашнего дня: «двойка» ходила хуже всех энских номеров, что было общеизвестно. Да и зачем ждать? Прав Полозков: ножками, ножками придется…
Георгий свернул со Свердловки на Октябрьскую, потом на Дзержинскую – и вскоре, пробежав дворами, оказался на улице Горького, почти напротив кинотеатра «Спутник». Глянул на афишу. Эх ты, черт, «Фантомас разбушевался» уже прошел, а так хотелось посмотреть… Первый «Фантомас» чепуха, конечно, но чепуха интересная. Вдобавок там играет эта невероятно хорошенькая блондинка, худенькая и элегантная, Милен Демонжо. Георгий уже видел ее в «Трех мушкетерах». Господи, вот это фильм! Георгий ходил на него тринадцать раз! На счастье, фильм вышел на экраны еще до начала практики, не то он и его бы пропустил. Классная киношка, очень красивая. Какие костюмы, какие дворцы! Но ведь это все история, а «Фантомас» – фильм современный. Хотя… ужасное вранье, конечно. Нет, не в том смысле, что сюжет фантастический – бывает фантастика и покруче, например, «Туманность Андромеды» Ефремова, – а в том смысле, что люди так жить не могут, как современные французы в фильме. В реальной жизни они не могут носить такую хорошую одежду, жить в таких квартирах, ездить на таких автомобилях… В газетах то и знай пишут про нечеловеческие условия труда в капиталистическом обществе. Ну и жизнь в бытовом смысле, наверное, там нечеловеческая. Так что фильм, конечно, – туфта. Пропагандистская буржуазная агитка.
Или нет? Э, про такое лучше не думать! Дай себе волю, и до чего только не додумаешься…
– Жаль, что «Фантомас» уже прошел. С этой работой дохнуть некогда, снова хорошую киношку пропустил, – проворчал Георгий, чувствуя себя невероятно счастливым именно оттого, что ему даже в кино сходить не хватает времени, а когда кончится практика и его возьмут в штат, наверное, времени на кино еще меньше останется.
Когда-нибудь, лет через тридцать или даже сорок, Георгий Аксаков напишет автобиографию. Мемуары! И первой фразой маститого автора будет: «Я родился для того, чтобы стать журналистом…»
Он перешел улицу. Рядом с кинотеатром был вход в парк Кулибина. Говорят, раньше здесь находилось кладбище. Теперь от него сохранились только две могилы: самого изобретателя-самоучки и бабушки Алеши Пешкова, вернее, великого советского писателя Максима Горького. Все остальное стало парком – довольно мрачным, сырым, темным и прохладным. Мама, баба Саша и покойная баба Люба (до недавнего времени у Георгия было две бабушки) парк почему-то терпеть не могли, баба Саша вообще сюда никогда не ходила, но объяснять ничего не объясняла. Это было как-то связано с ее прошлым, еще до рождения Георгия баба Саша «сидела». Тогда был культ личности, ныне осужденный. Осужденный-то осужденный, однако толком рассказывать про те времена никто не хотел. Сразу начинались какие-то оглядки, недомолвки, в глазах людей проскальзывал страх… Смешно! Как будто в наше время, в нашей стране могут кого-то преследовать за политические убеждения! Конечно, если ты не антисоветчик, ты можешь сказать все, что хочешь, ведь у нас самое справедливое и свободное государство на земле. Но, к сожалению, баба Саша думала иначе.
Георгий попал в парк Кулибина лет в пятнадцать, когда их класс повели на какую-то экскурсию и нужно было пройти через парк. Ну и что такого особенного в этом месте? Подумаешь, кладбище тут было. Всякие оживающие мертвецы или потревоженные духи покойников – просто предрассудки. Нет здесь никаких духов! Зато комаров всегда какое-то невероятное, болотно-тропическое количество, вот они донимают похлеще призраков. Впрочем, несмотря на тучи комаров, на лавочках сейчас все же сидели многочисленные парочки, как минимум по две на каждой лавке. А вон одинокая девчонка, мимоходом отметил Георгий. Кавалер опаздывает? Может, и не придет вовсе. Вполне может быть! Девчонка-то совсем не современная – с косой, и юбка не пышная, и блузка не капроновая, а просто ситцевая, белая в горошек, и туфли не на шпильках… Сейчас у таких скромненьких барышень с косичками уже нет никаких надежд найти хорошего кавалера – когда кругом столько стриженых, модных и бойких красоток. Другие времена настали!
Георгий промчался через парк с такой скоростью, что комары разлетались перед ним в некотором даже испуге и не осмеливались гнаться. Выскочил на Белинку и притормозил. О, на афише кинотеатра имени Белинского – зеленая лысая голова Фантомаса! Вот, значит, куда он перебрался с центральных экранов. Так, на двенадцать есть сеанс. Георгий машинально сунул руку в карман, нашаривая гривенник, но тут же вспомнил, куда идет. Нет, Фантомасу придется еще немного поскучать без него, и Милен Демонжо останется ждать встречи с Георгием, совсем как та девочка на лавочке – своего кавалера. Работа прежде всего!
Он чуть не опоздал. Гроб, обитый красной тканью, уже вынесли из коммуналки, где жил Вознесенский, и поставили на табуретах на лужайке, заросшей мелкой аптечной ромашкой и темно-зеленой муравой. Вокруг толпился народ. За спинами, среди вороха цветов едва можно было разглядеть сложенные на груди руки покойника – покрытые желтой, как бы глянцевой кожей, и такой же желтый глянцевый лоб. Лучший хирург ожогового центра с собственными ожогами сладить не мог – они были слишком обширны. Георгий встречался с Олегом Вознесенским один раз – на какой-то медицинской конференции, о которой писал по заданию редакции, – и надолго запомнил ужас, который испытал при виде этого высокого человека. Великолепные черные волосы не скрывали рубцов на голове, яркие черные глаза, которые когда-то, наверное, были красивыми, теперь казались пугающими в обрамлении полосок желто-розовых век без признаков ресниц. Страшное лицо! Но стоило Олегу заговорить, стоило перестать смотреть на хирурга, а начать слушать – впечатление сразу менялось. У него был потрясающий голос, внушающий безоглядное доверие. Такие голоса бывают у первоклассных актеров. Олег Вознесенский был комсоргом курса, и недаром, когда он ринулся на целину, десятка два студентов оставило институт и поехало вместе с ним. Зачаровал он их своим голосом, наверное! Эти бывшие студенты по-прежнему работали где-то в Казахстане, стали настоящими целинниками. Ничего об их судьбах Георгий не знал, а сейчас подумал, что неплохо было бы разузнать и упомянуть о них в статье. А может быть, кто-то тоже вернулся в Энск и сейчас стоит около гроба, провожая в последний путь товарища боевой комсомольской юности?
Георгий поморщился – штамп. Долой штампы! Внимательней к словам и даже к мыслям, будущий автор мемуаров, будущий маститый писатель!
Георгий скользил взглядом по лицам. Кто эти плачущие женщины в черном? Каждая из них по возрасту годилась бы Олегу Вознесенскому в матери. Однако, насколько было известно Георгию, тот воспитывался в детдоме, родни не имел, после целины так и не женился. Значит, у гроба собрались только друзья и коллеги? Ого, сколько народу! Наверное, и благодарные пациенты здесь есть. Стоп, а это кто? Очень высокий, седой, широкоплечий… Герой войны Федор Федорович Лавров! В нынешнем году, когда праздновали двадцатилетие Победы над фашистами, о нем много писали. Совершенно невероятная личность. В сорок первом попал в плен, был в концлагере, бежал оттуда, сражался в отряде французского Сопротивления. Участвовал в освобождении Парижа! Потом вернулся домой, в смысле, в Союз, но почему-то в родной город Энск явился только через десять лет и жил тихо-тихо, никто даже и не знал о его подвигах. И вот недавно все открылось, практически случайно: в комитет ветеранов пришло письмо из Франции – бывшие партизаны, участники движения Сопротивления, разыскивали товарища по оружию. Настоящее потрясение для Энска, а уж для областной больницы, где скромно работал Лавров в хирургическом отделении, – и подавно. Ох как налетела на него пресса! Кажется, не было в Энске, области да и в центральных изданиях журналиста, который не писал бы о подвигах Лаврова. Но, читая все матерьальчики о герое, Георгий заметил: рассказывая о себе, Лавров ни словом не обмолвился о тех десяти годах, которые прошли между войной и возращением в Энск. Где он был? Неужели тоже стал жертвой сталинских репрессий, как баба Саша? Почему же молчит об этом? Стыдится? Но ведь сейчас совсем другое время!