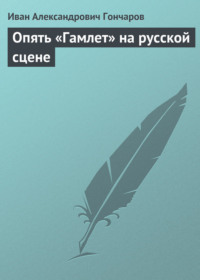Полная версия
Обрыв
Райский только глядел, как проворно и крепко пишет он цифры, как потом идет к нему прежде брюхо учителя с сердоликовой печаткой, потом грудь с засыпанной табаком манишкой. Ничего не ускользнуло от Райского, только ускользнуло решение задачи.
Кое-как он достиг дробей, достиг и до четырех правил из алгебры, когда же дело дошло до уравнений, Райский утомился напряжением ума и дальше не пошел, оставшись совершенно равнодушным к тому, зачем и откуда извлекают квадратный корень.
Учитель часто бился с ним и почти всякий раз со вздохом прибавлял:
– Садись на свое место, ты пустой малый!
Но когда на учителя находили игривые минуты и он, в виде забавы, выдумывал, а не из книги говорил свои задачи, не прибегая ни к доске, ни к грифелю, ни к правилам, ни к пинкам, – скорее всех, путем сверкающей в голове догадки, доходил до результата Райский.
У него в голове было свое царство цифр в образах: они по-своему строились у него там, как солдаты. Он придумал им какие-то свои знаки или физиономии, по которым они становились в ряды, слагались, множились и делились; все фигуры их рисовались то знакомыми людьми, то походили на разных животных.
– Ну, не пустой ли малый! – восклицал учитель. – Не умеет сделать задачи указанным, следовательно, облегченным путем, а без правил наобум говорит. Глупее нас с тобой выдумывали правила!
Между тем писать выучился Райский быстро, читал со страстью историю, эпопею, роман, басню, выпрашивал, где мог, книги, но с фактами, а умозрений не любил, как вообще всего, что увлекало его из мира фантазии в мир действительный.
Из географии, в порядке, по книге, как проходили в классе, по климатам, по народам, никак и ничего он не мог рассказать, особенно когда учитель спросит:
– А ну-ка, перескажи все горы в Европе! – или: – все порты Средиземного моря.
Между тем вне класса начнет рассказывать о какой-нибудь стране или об океане, о городе – откуда что берется у него! Ни в книге этого нет, ни учитель не рассказывал, а он рисует картину, как будто был там, все видел сам.
– Да ты все врешь! – скажет иногда слушатель-скептик, – Василий Никитич этого не говорил!
Директор подслушал однажды, когда он рассказывал, как дикие ловят и едят людей, какие у них леса, жилища, какое оружие, как они сидят на деревьях, охотятся за зверями, даже начал представлять, как они говорят горлом.
– Пустяки молоть мастер, – сказал ему директор, – а на экзамене не мог рассказать системы рек! Вот я тебя высеку, погоди! Ничем не хочет серьезно заняться: пустой мальчишка! – И дернул его за ухо.
Райский смотрел, как стоял директор, как говорил, какие злые и холодные у него были глаза, разбирал, отчего ему стало холодно, когда директор тронул его за ухо, представил себе, как поведут его сечь, как у Севастьянова от испуга вдруг побелеет нос, и он весь будто похудеет немного, как Боровиков задрожит, запрыгает и захихикает от волнения, как добрый Масляников, с плачущим лицом, бросится обнимать его и прощаться с ним, точно с осужденным на казнь. Потом, как его будут раздевать и у него похолодеет сначала у сердца, потом руки и ноги, как он не сможет сам лечь, а положит его тихонько сторож Сидорыч…
Он слышал мысленно свой визг, видел болтающиеся ноги и вздрогнул…
У него упали нервы: он перестал есть, худо спал. Он чувствовал оскорбление от одной угрозы, и ему казалось, что если она исполнится, то это унесет у него все хорошее, и вся его жизнь будет гадка, бедна и страшна, и сам он станет, точно нищий, всеми брошенный, презренный.
В это время, как будто нарочно пришлось, священник толковал историю Иова, всеми оставленного на куче навоза, страждущего…
Райский расплакался, его прозвали «нюней». Он приуныл, три дня ходил мрачный, так что узнать нельзя было: он ли это? ничего не рассказывал товарищам, как они ни приставали к нему.
Так было до воскресенья. А в воскресенье Райский поехал домой, нашел в шкафе «Освобожденный Иерусалим» в переводе Москотильникова, и забыл об угрозе, и не тронулся с дивана, наскоро пообедал, опять лег читать до темноты. А в понедельник утром унес книгу в училище и тайком, торопливо и с жадностью, дочитывал и, дочитавши, недели две рассказывал читанное то тому, то другому.
Снились ему такие горячие сны о далеких странах, о необыкновенных людях в латах, и каменистые пустыни Палестины блистали перед ним своей сухой, страшной красотой: эти пески и зной, эти люди, которые умели жить такой крепкой и трудной жизнью и умирать так легко!
Он содрогался от желания посидеть на камнях пустыни, разрубить сарацина, томиться жаждой и умереть без нужды, для того только, чтоб видели, что он умеет умирать. Он не спал ночей, читая об Армиде, как она увлекла рыцарей и самого Ринальда.
«Какая она?» – думалось ему – и то казалась она ему теткой Варварой Николаевной, которая ходила, покачивая головой, как игрушечные коты, и прищуривала глаза, то в виде жены директора, у которой были такие белые руки и острый, пронзительный взгляд, то тринадцатилетней, припрыгивающей, хорошенькой девочкой в кружевных панталончиках, дочерью полицмейстера.
Он сжимался в комок и читал жадно, почти не переводя духа, но внутренно разрываясь от волнения, и вдруг в неистовстве бросал книгу и бегал как потерянный, когда храбрый Ринальд или, в романе мадам Коттен, Малек-Адель изнывали у ног волшебницы.
То вдруг случайно воображение унесет его в другую сторону, с каким-нибудь Оссианом: там другая жизнь, другие картины, еще величавее, хотя и суровее тех, и еще необыкновеннее.
И все это, непохожее на текущую жизнь около него, захватывало его в свою чудесную сферу, от которой он отрезвлялся, как от хмеля.
После долго ходил он бледен и скучен, пока опять чужая жизнь и чужие радости не вспрыснут его, как живой водой.
Дядя давал ему истории четырех Генрихов, Людовиков до XVIII и Карлов до XII включительно, но все это уже было для него, как пресная вода после рома. На минуту только разбудили его Иоанны III и IV да Петр.
Он бросался к Плутарху, чтоб только дальше уйти от современной жизни, но и тот казался ему сух, не представлял рисунка, картин, как те книги, потом как Телемак, а еще потом – как «Илиада».
Между товарищами он был очень странен: они тоже не знали, как понимать его. Симпатии его так часто менялись, что у него не было ни постоянных друзей, ни врагов.
Эту неделю он привяжется к одному, ищет его везде, сидит с ним, читает, рассказывает ему, шепчет. Потом ни с того ни с сего вдруг бросит его и всматривается в другого и, всмотревшись, опять забывает.
Рассердит ли его какой-нибудь товарищ, некстати скажет ему что-нибудь, он надуется, даст разыграться злым чувствам во все формы упорной вражды, хотя самая обида побледнеет, забудется причина, а он длит вражду, за которой следит весь класс и больше всех он сам.
Потом он отыскивал в себе кротость, великодушие и вздрагивал от живого удовольствия проявить его; устроивалась сцена примирения, с достоинством и благородством, и занимала всех, пуще всех его самого.
Он как будто смотрел на все это со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину перед собой.
А когда все кончалось, когда шум, чад, вся трескотня выходили из него, он вдруг очнется, окинет все удивленными глазами, и внутренний голос спросит его: зачем это? Он пожмет плечами, не зная сам зачем.
Иногда, напротив, он придет от пустяков в восторг: какой-нибудь сытый ученик отдаст свою булку нищему, как делают добродетельные дети в хрестоматиях и прописях, или примет на себя чужую шалость, или покажется ему, что насупившийся ученик думает глубокую думу, и он вдруг возгорится участием к нему, говорит о нем со слезами, отыскивает в нем что-то таинственное, необычайное, окружит его уважением: и другие заразятся неисповедимым почтением.
Но через неделю товарищи встанут в одно прекрасное утро, с восторженными речами о фениксе подойдут к Райскому, а он расхохочется.
– Этакую дрянь нашли, да и нянчатся! Пошел ты прочь, жалкое создание! – скажет он.
Все и рты разинут, и он стыдится своего восторга. Луч, который падал на «чудо», уже померк, краски пропали, форма износилась, и он бросал – и искал жадными глазами другого явления, другого чувства, зрелища, и если не было – скучал, был желчен, нетерпелив или задумчив.
По выходе из училища действительная жизнь мало увлекала его в свой поток и своей веселой стороной, и суровой деятельностью. Позовет ли его опекун посмотреть, как молотят рожь, или как валяют сукно на фабрике, как белят полотна, – он увертывался и забирался на бельведер смотреть оттуда в лес или шел на реку, в кусты, в чащу, смотрел, как возятся насекомые, остро глядел, куда порхнула птичка, какая она, куда села, как почесала носик; поймает ежа и возится с ним; с мальчишками удит рыбу целый день или слушает полоумного старика, который живет в землянке у околицы, как он рассказывает про «Пугача», – жадно слушает подробности жестоких мук, казней и смотрит прямо ему в рот без зубов и в глубокие впадины потухающих глаз.
По целым часам, с болезненным любопытством, следит он за лепетом «испорченной Феклушки». Дома читает всякие пустяки. «Саксонский разбойник» попадется – он прочтет его; вытащит Эккартсгаузена и фантазией допросится, сквозь туман, ясных выводов; десять раз прочел попавшийся экземпляр «Тристрама Шенди»; найдет какие-нибудь «Тайны восточной магии» – читает и их; там русские сказки и былины, потом вдруг опять бросится к Оссиану, к Тассу и Гомеру или уплывет с Куком в чудесные страны.
А если нет ничего, так лежит, неподвижно по целым дням, но лежит, как будто трудную работу делает: фантазия мчит его дальше Оссиана, Тасса и даже Кука – или бьет лихорадкой какого-нибудь встречного ощущения, мгновенного впечатления, и он встанет усталый, бледный, и долго не придет в нормальное положение.
– Лентяй, лежебока! – говорят кругом его.
Он пугался этих приговоров, плакал втихомолку и думал иногда с отчаянием, отчего он лентяй и лежебока? «Что я такое? что из меня будет?» – думал он и слышал суровое: «Учись, вон как учатся Саврасов, Ковригин, Малюев, Чудин, – первые ученики!»
Они равно хорошо учатся и из математики, и из истории, сочиняют, чертят, рисуют и языки знают, и все – счастливцы! Их все уважают, они так гордо смотрят, так покойно спят, всегда одинаковы.
А он сегодня бледен, молчит как убитый, – завтра скачет и поет, бог знает отчего.
Всего пуще пугало его и томило обидное сострадание сторожа Сидорыча, и вместе трогало своей простотой. Однажды он не выучил два урока сряду и завтра должен был остаться без обеда, если не выучит их к утру, а выучить было некогда, все легли спать.
Сидорыч тихонько встал, вздул свечу и принес Райскому из класса книгу.
– Учи, батюшка, – сказал он, – пока они спят. Никто не увидит, а завтра будешь знать лучше их: что они в самом деле обижают тебя, сироту!
У Райского брызнули слезы и от этой обиды, и от доброты Сидорыча. Он взглянул, как храпят первые ученики, и не выучил урока – от гордости.
Зато, если задето его самолюбие, затронуты нервы, тогда он одним взглядом в книгу как будто снимет фотографию с урока, запомнит столбцы цифр, отгадает задачу – и вдруг блеснет, как фейерверк, и изумит весь класс, иногда и учителя.
«Притворяется!» – думают ученики. «Какие способности у этого лентяя!» – подумает учитель.
Он чувствовал и понимал, что он не лежебока и не лентяй, а что-то другое, но чувствовал и понимал он один, и больше никто, – но не понимал, что же он такое именно, и некому было растолковать ему это, и разъяснить, нужно ли ему учить математику или что-нибудь другое.
В службе название пустого человека привинтилось к нему еще крепче. От него не добились ни одной докладной записки, никогда не прочел он ни одного дела, между тем вносил веселье, смех и анекдоты в ту комнату, где сидел. Около него всегда куча народу.
Но мысль о деле, если только она не проходила через доклад, как, бывало, русский язык через грамматику, а сказанная среди шуток и безделья, для него как-то ясна, лишь бы не доходило дело до бумаг.
Он озадачивал новизной взгляда чиновников. Столоначальник, слушая его, с усмешкой отбирал у него какую-нибудь заданную ему бумагу и отдавал другому.
– Напишите, пожалуйста, вот это предписание, – говорил он, – пока Борис Павлович рисует свой проект!
Столоначальник был прав: Райский рисовал и дело, как картину, или оно так рисовалось у него в голове.
Воображение его вспыхивало, и он путем сверкнувшей догадки схватывал тень, верхушку истины, дорисовывал остальное и уже не шел долгим опытом и трудом завоевывать прочную победу.
Он уже был утомлен, он шел дальше, глаза и воображение искали другого, и он летел на крыльях фантазии, через пропасти, горы, океаны, переходимые и переплываемые толпой мужественно и терпеливо.
Он и знание – не знал, а как будто видел его у себя в воображении, как в зеркале, готовым, чувствовал его и этим довольствовался; а узнавать ему было скучно, он отталкивал наскучивший предмет прочь, отыскивая вокруг нового, живого, поразительного, чтоб в нем самом все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь.
Вокруг его не было никого, кто направил бы эти жадные порывы любознательности в определенную колею.
В одном месте опекун, а в другом бабушка смотрели только, – первый, чтобы к нему в положенные часы ходили учителя или чтоб он не пропускал уроков в школе; а вторая, чтоб он был здоров, имел аппетит и сон, да чтоб одет он был чисто, держал себя опрятно, и чтоб, как следует благовоспитанному мальчику, «не связывался со всякой дрянью».
А что он читал там, какие книги, в это не входили, и бабушка отдала ему ключи от отцовской библиотеки в старом доме, куда он запирался, читая попеременно то Спинозу, то роман Коттен, то св. Августина, а завтра вытащит Вольтера или Парни, даже Боккачио.
Искусства дались ему лучше наук. Правда, он и тут затеял пустяки: учитель недели на две посадил весь класс рисовать зрачки, а он не утерпел, приделал к зрачку нос и даже начал было тушевать усы, но учитель застал его и сначала дернул за вихор, потом, вглядевшись, сказал:
– Где ты учился?
– Нигде, – был ответ.
– А хорошо, брат, только видишь, что значит вперед забегать: лоб и нос – хоть куда, а ухо вон где посадил, да и волосы точно мочала вышли.
Но Райский торжествовал: «Хорошо, брат: лоб и нос хоть куда!» – было для него лавровым венком.
Он гордо ходил один по двору, в сознании, что он лучше всех, до тех пор, пока на другой день публично не осрамился в «серьезных предметах».
Но к рисованью он пристрастился и, через месяц после «зрачков», копировал кудрявого мальчика, потом голову Фингала.
Заветной мечтой его была женская головка, висевшая на квартире учителя. Она поникла немного к плечу и смотрела томно, задумчиво вдаль.
– Позвольте мне вот с этой нарисовать копию! – робко, нежно звучащим голосом девочки и с нервной дрожью верхней губы просил он учителя.
– А если стекло разобьешь? – сказал учитель, однако дал ему головку.
Борис был счастлив. Когда он приходил к учителю, у него всякий раз ёкало сердце при взгляде на головку. И вот она у него, он рисует с нее.
В эту неделю ни один серьезный учитель ничего от него не добился. Он сидит в своем углу, рисует, стирает, тушует, опять стирает или молча задумается; в зрачке ляжет синева, и глаза покроются будто туманом, только губы едва-едва заметно шевелятся, и в них переливается розовая влага.
На ночь он уносил рисунок в дортуар, и однажды, вглядываясь в эти нежные глаза, следя за линией наклоненной шеи, он вздрогнул, у него сделалось такое замиранье в груди, так захватило ему дыханье, что он в забытьи, с закрытыми глазами и невольным, чуть сдержанным стоном, прижал рисунок обеими руками к тому месту, где было так тяжело дышать. Стекло хрустнуло и со звоном полетело на пол…
Нарисовав эту головку, он уже не знал предела гордости. Рисунок его выставлен с рисунками старшего класса на публичном экзамене, и учитель мало поправлял, только кое-где слабые места покрыл крупными, крепкими штрихами, точно железной решеткой, да в волосах прибавил три, четыре черные полосы, сделал по точке в каждом глазу – и глаза вдруг стали смотреть точно живые.
«Как это он? и отчего так у него вышло живо, смело, прочно?» – думал Райский, зорко вглядываясь и в штрихи и в точки, особенно в две точки, от которых глаза вдруг ожили. И много ставил он потом штрихов и точек, все хотел схватить эту жизнь, огонь и силу, какая была в штрихах и полосах, так крепко и уверенно начерченных учителем. Иногда он будто и ловил эту тайну, и опять ускользала она у него.
Но чертить зрачки, носы, линии лба, ушей и рук по сту раз – ему было до смерти скучно.
Он рисует глаза кое-как, но заботится лишь о том, чтобы в них повторились учительские точки, чтоб они смотрели точно живые. А не удастся, он бросит все, уныло облокотится на стол, склонит на локоть голову и оседлает своего любимого коня, фантазию, или конь оседлает его, и мчится он в пространстве, среди своих миров и образов.
Упиваясь легким успехом, он гордо ходил: «Талант, талант!» – звучало у него в ушах. Но вскоре все уже знали, как он рисует, перестали ахать, и он привык к успеху.
В деревне он опять пристрастился было к рисованию, делал портреты с горничных, с кучера, потом с деревенских мужиков.
Полоумную Феклушку нарисовал в пещере, очень удачно осветив одно лицо и разбросанные волосы, корпус же скрывался во мраке: ни терпенья, ни уменья не хватило у него доделывать руки, ноги и корпус. И как целое утро высидеть, когда солнце так весело и щедро льет лучи на луг и реку…
Вон, никак, от соседей скачет человек, верно, танцевать будут…
Дня через три картина бледнела, и в воображении теснится уже другая. Хотелось бы нарисовать хоровод, тут же пьяного старика и проезжую тройку. Опять дня два носится он с картиной: она как живая у него. Он бы нарисовал мужика и баб, да тройку не сумеет: лошадей «не проходили в классе».
Через неделю и эта картина забывалась и снова заменялась другою…
Музыку он любил до опьянения. В училище тупой, презираемый первыми учениками мальчик Васюков был предметом постоянной нежности Райского.
Все, бывало, дергают за уши Васюкова: «Пошел прочь, дурак, дубина!» – только и слышит он. Лишь Райский глядит на него с умилением, потому только, что Васюков, ни к чему не внимательный, сонный, вялый, даже у всеми любимого русского учителя не выучивший никогда ни одного урока, – каждый день после обеда брал свою скрипку и, положив на нее подбородок, водил смычком, забывая школу, учителей, щелчки.
Глаза его ничего не видали перед собой, а смотрели куда-то в другое место, далеко, и там он будто видел что-то особенное, таинственное. Глаза его становились дики, суровы, а иногда точно плакали.
Против него садился Райский и с удивлением глядел на лицо Васюкова, следил, как, пока еще с тупым взглядом, достает он скрипку, вяло берет смычок, намажет его канифолью, потом сначала пальцем тронет струны, повинтит винты, опять тронет, потом поведет смычком – и все еще глядит сонно. Но вот заиграл – и проснулся, и улетел куда-то.
Васюкова нет, явился кто-то другой. Зрачки у него расширяются, глаза не мигают больше, а все делаются прозрачнее, светлее, глубже и смотрят гордо, умно, грудь дышит медленно и тяжело. По лицу бродит нега, счастье, кожа становится нежнее, глаза синеют и льют лучи: он стал прекрасен.
Райский начал мысленно глядеть, куда глядит Васюков, и видеть, что он видит. Не стало никого вокруг: ни учеников, ни скамей, ни шкафов. Все это закрылось точно туманом.
После нескольких звуков открывалось глубокое пространство, там являлся движущийся мир, какие-то волны, корабли, люди, леса, облака – все будто плыло и неслось мимо его в воздушном пространстве. И он, казалось ему, все рос выше, у него занимало дух, его будто щекотали, или купался он…
И сон этот длился, пока длились звуки.
Вдруг стук, крик, толчок какой-нибудь будил его, будил Васюкова. Звуков нет, миры пропали, он просыпался: кругом – ученики, скамьи, столы – и Васюков укладывает скрипку, кто-нибудь дергает его уж за ухо. Райский с яростью бросается бить забияк, а потом долго ходит задумчивый.
Нервы поют ему какие-то гимны, в нем плещется жизнь, как море, и мысли, чувства, как волны, переливаются, сталкиваются и несутся куда-то, бросают кругом брызги, пену.
В звуках этих он слышит что-то знакомое; носится перед ним какое-то воспоминание, будто тень женщины, которая держала его у себя на коленях.
Он роется в памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать, и он, прижавшись щекой к ее груди, следил, как она перебирала пальцами клавиши, как носились плачущие или резвые звуки, слышал, как билось у ней в груди сердце.
Фигура женщины яснее и яснее оживала в памяти, как будто она вставала в эти минуты из могилы и являлась точно живая.
Он помнит, как, после музыки, она всю дрожь наслаждения сосредоточивала в горячем поцелуе ему. Помнит, как она толковала ему картины: кто этот старик с лирой, которого, немея, слушает гордый царь, боясь пошевелиться, – кто эта женщина, которую кладут на плаху.
Потом помнит он, как она водила его на Волгу, как по целым часам сидела, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освещенную солнцем, на кучу темной зелени, на плывущие суда.
Он смотрит, как она неподвижно глядела, как у ней тогда глаза были прозрачны, глубоки, хороши… «точно у Васюкова», – думал он.
Стало быть, и она видела в этой зелени, в течении реки, в синем небе то же, что Васюков видит, когда играет на скрипке… Какие-то горы, моря, облака… «И я вижу их!..»
Заиграет ли женщина на фортепиано, гувернантка у соседей, Райский бежал было перед этим удить рыбу, – но раздались звуки, и он замирал на месте, разинув рот, и прятался за стулом играющей.
Его не стало, он куда-то пропал, опять его несет кто-то по воздуху, опять он растет, в него льется сила, он в состоянии поднять и поддержать свод, как тот, которого Геркулес сменил.[34]
Звуки почти до боли ударяют его по груди, проникают до мозга – у него уже мокрые волосы, глаза…
Вдруг звуки умолкли, он очнется, застыдится и убежит.
Он стал было учиться, сначала на скрипке у Васюкова, – но вот уже неделю водит смычком взад и вперед: а, с, g, тянет за ним Васюков, а смычок дерет ему уши. То захватит он две струны разом, то рука дрожит от слабости: – нет! Когда же Васюков играет – точно по маслу рука ходит.
Две недели прошло, а он забудет то тот, то другой палец. Ученики бранятся.
– Ну вас к черту! – говорит первый ученик. – Тут серьезным делом заниматься надо, а они пилят!
Райский бросил скрипку и стал просить опекуна учить его на фортепиано.
«На фортепиано легче, скорей», – думал он.
Тот нанял ему немца, но, однако ж, решился поговорить с ним серьезно.
– Послушай, Борис, – начал он, – к чему ты готовишь себя, я давно хотел спросить тебя?
Райский не понял вопроса и молчал.
– Тебе шестнадцатый год, – продолжал опекун, – пора о деле подумать, а ты до сих пор, как я вижу, еще не подумал, по какой части пойдешь в университете и в службе. По военной трудно: у тебя небольшое состояние, а служить ты по своей фамилии должен в гвардии.
Райский молчал и смотрел в окно, как петухи дерутся, как свинья роется в навозе, как кошка подкрадывается к голубю.
– Я тебе о деле, а ты вон куда глядишь! К чему ты готовишься?
– Я, дядюшка, готовлюсь в артисты.
– Что-о?
– Художником быть хочу, – подтвердил Райский.
– Черт знает что выдумал! Кто ж тебя пустит? Ты знаешь ли, что такое артист? – спросил он.
Райский молчал.
– Артист – это такой человек, который или денег у тебя займет, или наврет такой чепухи, что на неделю тумана наведет… В артисты!.. Ведь это, – продолжал он, – значит беспутное, цыганское житье, адская бедность в деньгах, платье, в обуви, и только богатство мечты! Витают артисты, как птицы небесные, на чердаках. Видал я их в Петербурге: это те хваты, что в каких-то фантастических костюмах собираются по вечерам лежать на диванах, курят трубки, несут чепуху, читают стихи и пьют много водки, а потом объявляют, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны…
– Я слыхал, дядюшка, что художники теперь в большом уважении. Вы, может быть, старое время вспоминаете. Из академии выходят знаменитые люди…
– Я не очень стар и видел свет, – возразил дядя, – ты слыхал, что звонят, да не знаешь, на какой колокольне. Знаменитые люди! Есть артисты, и лекаря есть тоже знаменитые люди: а когда они знаменитыми делаются, спроси-ка? Когда в службе состоят и дойдут до тайного советника! Собор выстроит или монумент на площади поставит – вот его и пожалуют! А начинают они от бедности, из куска хлеба – спроси: все большею частью вольноотпущенные, мещане или иностранцы, даже жиды. Их неволя гонит в художники, вот они и напирают на искусство. А ты – Райский! У тебя земля и готовый хлеб. Конечно, для общества почему не иметь приятных талантов: сыграть на фортепиано, нарисовать что-нибудь в альбом, спеть романс… Вот я тебе и немца нанял. Но быть артистом по профессии – что за блажь! Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб нарисовал картину какой-нибудь князь, граф или статую слепил старый дворянин… нет: отчего это!..