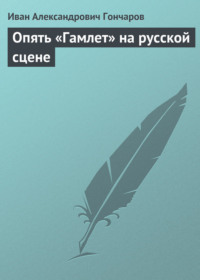Полная версия
Обрыв

Часть первая
I
Два господина сидели в небрежно убранной квартире в Петербурге, на одной из больших улиц. Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лет.
Первый был Борис Павлович Райский, второй – Иван Иванович Аянов.
У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет: большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохранили еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый.
Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опыт, чувство, болезнь оставляют след. Только рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение.
Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване.
Иван Иванович был, напротив, в черном фраке. Белые перчатки и шляпа лежали около него на столе. У него лицо отличалось спокойствием или скорее равнодушным ожиданием ко всему, что может около него происходить.
Смышленый взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво подстриженные, с сильной проседью, волосы на голове и бакенбардах, умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм – вот его наружный портрет.
На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшие из глаз. «Пожил человек, знает жизнь и людей», – скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур наивных.
Это был представитель большинства уроженцев универсального Петербурга и вместе то, что называют светским человеком. Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было бы представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света, то есть известного высшего слоя петербургского населения, хотя у него есть и служба, и свои дела, но его чаще всего встречаешь в большей части гостиных, утром – с визитами, на обедах, на вечерах: на последних всегда за картами. Он – так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм.
Незнание или отсутствие убеждения облечено у него в форму какого-то легкого, поверхностного всеотрицания: он относился ко всему небрежно, ни перед чем искренно не склоняясь, ничему глубоко не веря и ни к чему особенно не пристращаясь. Немного насмешлив, скептичен, равнодушен и ровен в сношениях со всеми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой.
Он родился, учился, вырос и дожил до старости в Петербурге, не выезжая далее Лахты и Ораниенбаума с одной, Токсова и Средней Рогатки с другой стороны. От этого в нем отражались, как солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба – эта вторая петербургская природа, и более ничего.
На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никаких понятий, кроме тех, какие дают свои и иностранные газеты. Петербургские страсти, петербургский взгляд, петербургский годовой обиход пороков и добродетелей, мыслей, дел, политики и даже, пожалуй, поэзии – вот где вращалась жизнь его, и он не порывался из этого круга, находя в нем полное до роскоши удовлетворение своей натуре.
Он равнодушно смотрел сорок лет сряду, как с каждой весной отплывали за границу битком набитые пароходы, уезжали внутрь России дилижансы, впоследствии вагоны, – как двигались толпы людей «с наивным настроением» дышать другим воздухом, освежаться, искать впечатлений и развлечений.
Никогда не чувствовал он подобной потребности, да и в других не признавал ее, а глядел на них, на этих других, покойно, равнодушно, с весьма приличным выражением в лице и взглядом, говорившим: «Пусть-де их себе, а я не поеду».
Он говорил просто, свободно переходя от предмета к предмету, всегда знал обо всем, что делается в мире, в свете и в городе; следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте и во французской палате депутатов, всегда знал о новой пиесе и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне. Знал генеалогию, состояние дел и имений и скандалезную хронику каждого большого дома столицы; знал всякую минуту, что делается в администрации, о переменах, повышениях, наградах, – знал и сплетни городские: словом, знал хорошо свой мир.
Утро уходило у него на мыканье по свету, то есть по гостиным, отчасти на дела и службу, – вечер нередко он начинал спектаклем, а кончал всегда картами в Английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все.
В карты играл он без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход. Потом он играл и по большой, и по маленькой, и с крупными игроками, и с капризными дамами.
Строевую службу он прошел хорошо, протерши лямку около пятнадцати лет в канцеляриях, в должностях исполнителя чужих проектов. Он тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд, и проект: Аянов работал так же умно и ловко и с новым начальником, над новым проектом – и докладные записки его нравились всем министрам, при которых он служил.
Теперь он состоял при одном из них по особым поручениям. По утрам являлся к нему в кабинет, потом к жене его в гостиную и действительно исполнял некоторые ее поручения, а по вечерам в положенные дни непременно составлял партию, с кем попросят. У него был довольно крупный чин и оклад – и никакого дела.
Если позволено проникать в чужую душу, то в душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы обольстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно. Повыситься из статских в действительные статские, а под конец, за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», как по службе, так и в картах, – в тайные советники, и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или в комитете, с сохранением окладов, – а там, волнуйся себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, – все пролетит мимо его, пока апоплексический или другой удар не остановит течение его жизни.
Аянов был женат, овдовел и имел двенадцати лет дочь, воспитывавшуюся на казенный счет в институте, а он, устроив свои делишки, вел покойную и беззаботную жизнь старого холостяка.
Одно только нарушало его спокойствие – это геморрой от сидячей жизни; в перспективе представлялось для него тревожное событие – прервать на время эту жизнь и побывать где-нибудь на водах. Так грозил ему доктор.
– Не пора ли одеваться: четверть пятого! – сказал Аянов.
– Да, пора, – отвечал Райский, очнувшись от задумчивости.
– О чем ты задумался? – спросил Аянов.
– О ком? – поправил Райский. – Да о ней все… о Софье…
– Опять! Ну! – заметил Аянов.
Райский стал одеваться.
– Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? – спросил Райский.
– Нимало: не все равно играть, что там, что у Ивлевых? Оно, правда, совестно немного обыгрывать старух: Анна Васильевна бьет карты своего партнера сослепа, а Надежда Васильевна вслух говорит, с чего пойдет.
– Не беспокойся, не оберешь по пяти копеек. У обеих старух до шестидесяти тысяч дохода.
– Знаю, и это все Софье Николаевне достанется?
– Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Они скупы, переживут ее.
– У отца ведь, кажется, немного…
– Нет, все спустил.
– Да куда он тратит? В карты почти не играет.
– Как куда? А женщины? А эта беготня, petits soupers,[1] весь этот train?[2] Зимой в пять тысяч сервиз подарил на вечер Armance, а она его-то и забыла пригласить к ужину…
– Да, да, слышал. За что? Что он у ней там делает!..
Оба засмеялись.
– От мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже немного осталось!
– Нет, тысяч семь дохода; это ее карманные деньги. А то все от теток. Но пора! – сказал Райский. – Мне хочется до обеда еще по Невскому пройтись.
Аянов и Райский пошли по улице, кивая, раскланиваясь и пожимая руки направо и налево.
– Долго ты нынче просидишь у Беловодовой?
– Пока не выгонят – как обыкновенно. А что, скучно?
– Нет, я думал, поспею ли я к Ивлевым? Мне скучно не бывает…
– Счастливый человек! – с завистью сказал Райский. – Если б не было на свете скуки! Может ли быть лютее бича?
– Молчи, пожалуйста! – с суеверным страхом остановил его Аянов, – еще накличешь что-нибудь! А у меня один геморрой чего-нибудь да стоит! Доктора только и знают, что вон отсюда шлют: далась им эта сидячая жизнь – все беды в ней видят! Да воздух еще: чего лучше этого воздуха? – Он с удовольствием нюхнул воздух. – Я теперь выбрал подобрее эскулапа: тот хочет летом кислым молоком лечить меня: у меня ведь закрытый… ты знаешь? Так ты от скуки ходишь к своей кузине?
– Какой вопрос: разумеется! Разве ты не от скуки садишься за карты? Все от скуки спасаются, как от чумы.
– Какое же ты жалкое лекарство выбрал от скуки – переливать из пустого в порожнее с женщиной: каждый день одно и то же!
– А в картах разве не одно и то же? А вот ты прячешься в них от скуки…
– Ну, нет, не одно и то же: какой-то англичанин вывел комбинацию, что одна и та же сдача карт может повториться лет в тысячу только… А шансы? А характеры игроков, манера каждого, ошибки!.. Не одно и то же! А вот с женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра… вот этого я не понимаю!
– Ты не понимаешь красоты: что же делать с этим? Другой не понимает музыки, третий живописи: это неразвитость своего рода…
– Да, именно – своего рода. Вон у меня в отделении служил помощником Иван Петрович: тот ни одной чиновнице, ни одной горничной проходу не дает, то есть красивой, конечно. Всем говорит любезности, подносит конфекты, букеты: он развит, что ли?
– Оставим этот разговор, – сказал Райский, – а то опять оба на стену полезем, чуть не до драки. Я не понимаю твоих карт, и ты вправе назвать меня невеждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красоте. Всякий по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иван Петрович так, я иначе, а ты никак, – ну, и при тебе!
– Ты играешь с женщинами, как я вижу, – сказал Аянов.
– Ну, играю, и что же? Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю… Что же тут дурного?
– Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невеста: женись, и конец всему.
– Да – и конец всему, и начало скуке! – задумчиво повторил Райский. – А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!
– Тогда, по-моему, и ходить незачем. Ты просто – Дон-Жуан!
– Да, Дон-Жуан, пустой человек: так, что ли, по-вашему?
– А как же: что ж он, по-твоему?
– Ну, так и Байрон, и Гете, и куча живописцев, скульпторов – все были пустые люди…
– Да ты – Байрон или Гете, что ли!..
Райский с досадой отвернулся от него.
– Донжуанизм – то же в людском роде, что донкихотство; еще глубже; эта потребность еще прирожденнее… – сказал он.
– Коли потребность – так женись… я тебе говорю…
– Ах! – почти с отчаянием произнес Райский. – Ведь жениться можно один, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой так, как бы наслаждался красотой в статуе? Дон-Жуан наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо; сын своего века, воспитания, нравов, он увлекался за пределы этого поклонения – вот и все. Да что толковать с тобой!
– Коли не жениться, так незачем и ходить, – апатично повторил Аянов.
– А знаешь – ты отчасти прав. Прежде всего скажу, что мои увлечения всегда искренны и не умышленны: – это не волокитство – знай однажды навсегда. И когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу, который фантазия сейчас создает мне из него, – у меня само собою доделается остальное, и тогда возникает идеал счастья, семейного…
– Вот видишь; ну так и женись… – заметил Аянов.
– Погоди, погоди: никогда ни один идеал не доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я уходил охлажденный… Что фантазия создает, то анализ разрушает, как карточный домик. Или сам идеал, не дождавшись охлаждения, уходит от меня…
– А все-таки каждый день сидеть с женщиной и болтать!.. – упрямо твердил Аянов, покачивая головой. – Ну о чем, например, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь от нее, если ее за тебя не выдадут?
– И я тебя спрошу: чего ты хочешь от ее теток? Какие карты к тебе придут? Выиграешь ты или проиграешь? Разве ты ходишь с тем туда, чтоб выиграть все шестьдесят тысяч дохода? Ходишь поиграть – и выиграть что-нибудь…
– У меня никаких расчетов нет: я делаю это от… от… для удовольствия.
– От… от скуки – видишь, и я для удовольствия – и тоже без расчетов. А как я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иван Петрович этого не поймете, не во гнев тебе и ему – вот и все. Ведь есть же одни, которые молятся страстно, а другие не знают этой потребности, и…
– Страстно! Страсти мешают жить. Труд – вот одно лекарство от пустоты: дело, – сказал Аянов внушительно.
Райский остановился, остановил Аянова, ядовито улыбнулся и спросил: «Какое дело, скажи пожалуйста: это любопытно!»
– Как какое? Служи.
– Разве это дело? Укажи ты мне в службе, за немногими исключениями, дело, без которого бы нельзя было обойтись?
Аянов засвистал от удивления.
– Вот тебе раз! – сказал он и поглядел около себя. – Да вот! – Он указал на полицейского чиновника, который упорно глядел в одну сторону.
– А спроси его, – сказал Райский, – зачем он тут стоит и кого так пристально высматривает и выжидает? Генерала! А нас с тобой не видит, так что любой прохожий может вытащить у нас платок из кармана. Ужели ты считал делом твои бумаги? Не будем распространяться об этом, а скажу тебе, что я, право, больше делаю, когда мажу свои картины, бренчу на рояле и даже когда поклоняюсь красоте…
– И что особенного, кроме красоты, нашел ты в своей кузине?
– Кроме красоты! Да это все! Впрочем, я мало знаю ее: это-то, вместе с красотой, и влечет меня к ней…
– Как, каждый день вместе и мало знаешь!..
– Мало. Не знаю, что у нее кроется под этим спокойствием, не знаю ее прошлого и не угадываю ее будущего. Женщина она или кукла, живет или подделывается под жизнь? И это мучит меня… Вон, смотри, – продолжал Райский, – видишь эту женщину?
– Ту толстую, что лезет с узлом на извозчика?
– Да, и вот эту, что глядит из окна кареты? И вон ту, что заворачивает из-за угла навстречу нам?
– Ну, так что же?
– Ты на их лицах мельком прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признак воли: ну, словом, – движение, жизнь. Немного нужно, чтоб подобрать ключ и сказать, что тут семья и дети, значит, было прошлое, а там глядит страсть или живой след симпатии, – значит, есть настоящее, а здесь на молодом лице играют надежды, просятся наружу желания и пророчат беспокойное будущее…
– Ну?
– Ну, везде что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее… А там ничего этого нет, ничего, хоть шаром покати! Даже нет апатии, скуки, чтоб можно было сказать: была жизнь и убита – ничего! Сияет и блестит, ничего не просит и ничего не отдает! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?
– Давно бы сказал мне это, и я удивляться перестал бы, потому что я сам такой, – сказал Аянов, вдруг останавливаясь. – Ходи ко мне, вместо нее…
– Ты?
– Да – я!
– Что же ты, красотой блистаешь!..
– Блистаю спокойствием и наслаждаюсь этим; и она тоже… Что тебе за дело!..
– До тебя – никакого, а она – красота, красота!
– Женись, а не хочешь или нельзя, так оставь, займись делом…
– Ты прежде заведи дело, в которое мог бы броситься живой ум, гнушающийся мертвечины, и страстная душа, и укажи, как положить силы во что-нибудь, что стоит борьбы, а с своими картами, визитами, раутами и службой – убирайся к черту!
– У тебя беспокойная натура, – сказал Аянов, – не было строгой руки и тяжелой школы – вот ты и куролесишь… Помнишь, ты рассказывал, когда твоя Наташа была жива…
Райский вдруг остановился и, с грустью на лице, схватил своего спутника за руку.
– Наташа! – повторил он тихо, – это единственный тяжелый камень у меня на душе – не мешай память о ней в эти мои впечатления и мимолетные увлечения…
Он вздохнул, и они молча дошли до Владимирской церкви, свернули в переулок и вошли в подъезд барского дома.
II
Райский с год только перед этим познакомился с Софьей Николаевной Беловодовой, вдовой на двадцать пятом году, после недолгого замужества с Беловодовым, служившим по дипломатической части.
Она была из старинного богатого дома Пахотиных. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ее, состоявший в полном распоряжении супруги, почувствовав себя на свободе, вдруг спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой и что он не успел пожить и пожуировать.
Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил и только смотрел, как ели и пили другие, а у него желудок не варил. Но он уже успел нанести смертельный удар своему состоянию.
У него, взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старческое тщеславие иметь вид шалуна, и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве сумасбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, брильянты жены, наконец и большая часть приданого дочери. На недвижимое имение, и без того заложенное им еще до женитьбы, наросли значительные долги.
Когда источники иссякли, он изредка, в год раз, иногда два, сделает дорогую шалость, купит брильянты какой-нибудь Armance, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкнет до следующих денег.
Николай Васильевич Пахотин был очень красивый сановитый старик, с мягкими, почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.
Особенно красив он был, когда с гордостью вел под руку Софью Николаевну куда-нибудь на бал, на общественное гулянье. Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шутливо трясти его за руку, звали устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную историю…
Старик шутил, рассказывал сам направо и налево анекдоты, говорил каламбуры, особенно любил с сверстниками жить воспоминаниями минувшей молодости и своего времени. Они с восторгом припоминали, как граф Борис или Денис проигрывал кучи золота; терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.
Но особенно любил Пахотин уноситься воспоминаниями в Париж, когда в четырнадцатом году русские явились великодушными победителями, перещеголявшими любезностью тогдашних французов, уже попорченных в этом отношении революцией, и превосходившими безумным мотовством широкую щедрость англичан.
Старик шутя проживал жизнь, всегда смеялся, рассказывал только веселое, даже на драму в театре смотрел с улыбкой, любуясь ножкой или лорнируя la gorge[3] актрисы.
Когда же наставало не веселое событие, не обед, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался в ней громовой раскат, когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспокойное молчание и только учащенно жевал губами.
У него был живой, игривый ум, наблюдательность и некогда смелые порывы в характере. Но шестнадцати лет он поступил в гвардию, выучась отлично говорить, писать и петь по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипаж и тысяч двадцать дохода.
Никто лучше его не был одет, и теперь еще, в старости, он дает законы вкуса портному; все на нем сидит отлично, ходит он бодро, благородно, говорит с уверенностью и никогда не выходит из себя. Судит обо всем часто наперекор логике, но владеет софизмом с необыкновенною ловкостью.
С ним можно не согласиться, но сбить его трудно. Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного, как огня. Но тот же опыт, жизнь всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовывали ему какой-то очень приятный, мелкий умок, и не знающий его с первого раза даже положится на его совет, суждение, и потом уже, жестоко обманувшись, разглядит, что это за человек.
Он не успел еще окунуться в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили на девушке красивой, старого рода, но холодной, с деспотическим характером, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его к рукам.
Теперь Николай Васильевич Пахотин заседает в каком-то совете раз в неделю, имеет важный чин, две звезды и томительно ожидает третьей. Это его общественное значение.
Было у него другое ожидание – поехать за границу, то есть в Париж, уже не с оружием в руках, а с золотом, и там пожить, как живали в старину.
Он с наслаждением и завистью припоминал анекдоты времен революции, как один знатный повеса разбил там чашку в магазине и в ответ на упреки купца перебил и переломал еще множество вещей и заплатил за весь магазин; как другой перекупил у короля дачу и подарил танцовщице. Оканчивал он рассказы вздохом сожаления о прошлом.
Вскоре после смерти жены он было попросился туда, но образ его жизни, нравы и его затеи так были известны в обществе, что ему, в ответ на просьбу, коротко отвечено было: «Незачем». Он пожевал губами, похандрил, потом сделал какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. После того, уже промотавшись окончательно, он в Париж не порывался.
Кроме томительного ожидания третьей звезды, у него было еще постоянное дело, постоянное стремление, забота, куда уходили его напряженное внимание, соображения, вся его тактика, с тех пор как он промотался, – это извлекать из обеих своих старших сестер, пожилых девушек, теток Софьи, денежные средства на шалости.
Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственно личность своего братца в грош, но дорожили именем, которое он носил, репутацией и важностью дома, преданиями, и потому, сверх определенных ему пяти тысяч карманных денег, в разное время выдавали ему субсидии около такой же суммы, и потом еще, с выговорами, с наставлениями, чуть не с плачем, всегда к концу года платили почти столько же по счетам портных, мебельщиков и других купцов.
Они знали, на какое употребление уходят у него деньги, но на это они смотрели снисходительно, помня нестрогие нравы повес своего времени и находя это в мужчине естественным. Только они, как нравственные женщины, затыкали уши, когда он захочет похвастаться перед ними своими шалостями или когда кто другой вздумает довести до их сведения о каком-нибудь его сумасбродстве.
Он был в их глазах пустой, никуда не годный, ни на какое дело, ни для совета – старик и плохой отец, но он был Пахотин, а род Пахотиных уходит в древность, портреты предков занимают всю залу, а родословная не укладывается на большом столе, и в роде их было много лиц с громким значением.
Они гордились этим и прощали брату все, за то только, что он Пахотин.
Сами они блистали некогда в свете, и по каким-то, кроме их, всеми забытым причинам остались девами. Они уединились в родовом доме и там, в семействе женатого брата, доживали старость, окружив строгим вниманием, попечениями и заботами единственную дочь Пахотина, Софью. Замужество последней расстроило было их жизнь, но она овдовела, лишилась матери и снова, как в монастырь, поступила под авторитет и опеку теток.
Они были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями.
Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем кацавейку, а Анна Васильевна сырцовые букли и большую шаль.
У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки.