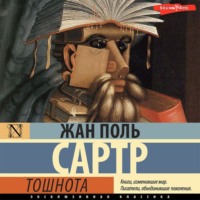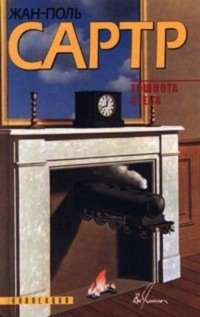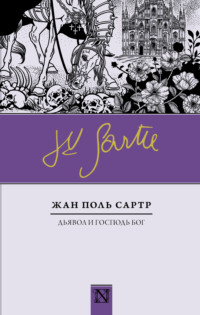Полная версия
Отсрочка
– Вы верите, что война будет? – быстро спросила она.
Ее движения потеряли агрессивную напряженность, они были грузными и томными. Но она сохранила грубоватый категоричный тон. Даниель смотрел на поля. Что это за поля? Он не отличал кукурузного поля от свекольного. До него донесся голос Марсель, повторившей:
– Вы в это верите?
Даниель подумал: «Если б разразилась война!» Марсель стала бы вдовой. Вдова с ребенком и с шестьюстами тысячами франков наличности. Не считая благоговейных воспоминаний о несравненном муже: чего она могла еще хотеть? Даниель резко остановился, потрясенный своим желанием; он изо всех сил сжал набалдашник трости и подумал: «Господи, хоть бы началась война! Сумасшедшая молния, которая взорвет эту мягкую тишину, чудовищно вспашет эти деревни, изроет воронками эти поля, преобразует эти ровные и монотонные земли в беспокойное море, война, повальная гибель людей доброй воли, мясорубка для невинных. Они искромсают это чистое небо собственными руками. Как они будут ненавидеть друг друга! Как они будут содрогаться от ужаса! А сам я буду трепетать в этом море ненависти». Марсель удивленно смотрела на него. Он едва не рассмеялся.
– Нет. Я в это не верю.
Дети на дороге, их звонкие беззащитные голоса, их смех. Мир. Солнце рябит в изгородях, как вчера, как завтра; на повороте дороги показалась колокольня Пейреорада. Каждая вещь на свете имеет свой запах, свою вечернюю тень, бледную и длинную, свое неповторимое будущее. И совокупность всех этих будущих – мир: до него можно дотронуться, коснувшись трухлявого дерева этой изгороди, нежной шейки этого мальчугана, его можно прочесть в его пытливых глазах, он поднимается из согретой дневным солнцем крапивы, он слышен в перезвоне этих колоколен. Повсюду люди собрались вокруг дымящихся супниц, они ломают хлеб, наливают в стаканы вино, вытирают ножи, их повседневные движения образуют мир. Он здесь, сотканный из всех будущих, в нем есть изменчивое упорство природы, он – вечное возвращение солнца, дымчатый покой полей, суть трудов человеческих. Нет ни одного движения, которое его не призывает и не реализует, даже тяжелая походка Марсель рядом со мной, даже нежная хватка моих пальцев на ее руке. Град камней в окно: «Вон отсюда! Вон отсюда!» Милан едва успел отскочить назад. Резкий голос выкрикивал его имя: «Глинка! Милан Глинка, вон отсюда!» Кто-то запел: «Чехи, как блохи в немецкой шубе!» Камни покатились по полу. Булыжник разбил каминное зеркало, другой упал на стол и размолотил чашку с кофе. Кофе разлился по клеенке и медленно закапал на пол, под окном все горланили по-немецки. Он подумал: «Они разлили мой кофе!» и схватил стул за спинку. Он покрылся испариной. Он поднял стул над головой.
– Что ты делаешь? – закричала Анна.
– Я швырну его им в морду.
– Милан, не смей! Ты не один.
Он поставил стул и с удивлением поглядел на стены. Это была больше не его комната. Они ее разворотили; красный туман заволок ему глаза; он засунул руки в карманы и мысленно повторял: «Я не один. Я не один». Даниель думал: «Я один». Один со своими кровавыми мечтами в этом беспредельном безмятежном мире. Танки и пушки, самолеты, грязные воронки, обезобразившие поля, – это был всего лишь маленький шабаш в его голове. Никогда это небо не расколется; будущее осеняло эти селения; Даниель был внутри, как червь в яблоке. Будущее всех этих людей: они его творили собственными руками, медленно, годами, и они мне в нем не оставили крохотного местечка, самого скромного шанса. Слезы бешенства навернулись на глаза Милану, Даниель повернулся к Марсель: «Моя жена, мое будущее, единственное, что мне осталось, потому что мир уже распорядился своим спокойствием».
Как крыса! Он приподнялся на локтях и смотрел, как мимо пробегали лавки.
– Ложитесь! – плачущим голосом взмолилась Жаннин. – И не вертитесь во все стороны: у меня уже голова кружится.
– Куда нас отправят?
– Я же вам сказала, что не знаю.
– Вы знаете, что нас собираются эвакуировать, и не знаете куда? Так я вам и поверил!
– Но клянусь, этого мне не сказали. Не мучьте меня!
– Прежде всего кто вам об этом сказал? Может, все это враки? Вы готовы проглотить все, что угодно.
– Главный врач клиники, – с сожалением призналась Жаннин.
– И он не сказал куда?
Коляска катилась вдоль рыбного магазина Кюзье; он, начиная с ног, погрузился в резкий и пресный запах свежей рыбы.
– Быстрее! Здесь пахнет немытой девчонкой!
– Я… я не могу идти быстрее. Я вас умоляю, моя куколка, не волнуйтесь, вы нагоните себе температуру.
Она вздохнула и добавила про себя:
– Я не должна была вам этого говорить.
– Естественно! А в день отъезда мне дали бы хлороформ или сказали бы, что везут на пикник.
Он снова лег, потому что они должны были проходить мимо книжного магазина Наттье. Он ненавидел этот книжный магазин с его грязно-желтой витриной. И потом, старуха всегда стояла на пороге и сплетала руки, когда видела, как его провозят мимо.
– Вы меня трясете! Осторожно!
Как крыса! Есть люди, которые могут вскочить, побежать, спрятаться в погребе или на чердаке. Я же мешок, им достаточно прийти и взять меня.
– Вы будете наклеивать этикетки, Жаннин?
– Какие этикетки?
– Этикетки для отправки: верх, низ, бьется, будьте осторожны. Одну наклеите мне на живот, другую – на задницу.
– Злюка! – возмутилась она. – Злюка! Злюка!
– Ладно! Нас, естественно, повезут на поезде?
– Да. А как же еще?
– На санитарном поезде?
– Но я не знаю! – закричала Жаннин. – Я не хочу выдумывать, я вам уже сказала, что не знаю!
– Не кричите – я не глухой.
Коляска резко остановилась, и он услышал, что Жаннин сморкается.
– Что с вами? Вы меня остановили посреди улицы…
Коляска снова покатилась по неровной мостовой. Он продолжал:
– Однако нам часто говорили, что следует избегать поездок на поезде.
Над его головой слышалось тревожное сопение, и он замолчал: он опасался, что она разревется. В этот час улицы кишели больными; хороша же будет картина: взрослого парня везет плачущая медсестра… Но тут ему пришла в голову мысль, и он, не сдержавшись, процедил сквозь зубы:
– Ненавижу переезжать.
Они все решили за него, они берут на себя все, у них здоровье, сила, свободное время; они проголосовали, выбрали своих вождей, они стояли с важным и озабоченным видом, они бегали по всей земле, они договорились между собой о судьбах планеты, и в том числе о судьбе несчастных больных – тех же взрослых детей. И вот результат: война, доигрались. Почему я должен расплачиваться за их глупости? Я больной, никто не спросил моего мнения! Теперь они вспомнили, что я существую, и хотят увлечь меня за собой, в свое дерьмо. Меня возьмут за подмышки и щиколотки, скажут мне: «Извини, брат. Но мы воюем», сунут меня в угол, как помет, чтобы я не осмелился помешать их кровавым стрельбищам. Вопрос, от которого он долго удерживался, едва не сорвался с губ. Он ей причинит боль, ну и пусть: он все равно спросит.
– А вы… а сестры будут нас сопровождать?
– Да, – сказала Жаннин. – Некоторые.
– А… а вы?
– Нет, – ответила Жаннин. – Я – нет.
Он, задрожав, прохрипел:
– Вы нас бросаете?
– Меня направляют в госпиталь в Дюнкерке.
– Ладно, ладно! – сказал Шарль. – Все сестры стоят друг друга, а?
Жаннин не ответила. Он привстал и осмотрелся. Его голова вертелась сама по себе слева направо и справа налево, это было утомительно, и в глазах у него сухо пощипывало. Навстречу им катилась коляска, которую толкал высокий элегантный старик. На фиксаторе лежала молодая женщина с худым лицом и золотистыми волосами; на ноги ей набросили роскошное меховое манто. Она мельком взглянула на Шарля, откинула голову и пробормотала несколько слов в склоненное лицо пожилого господина.
– Кто это? – спросил Шарль. – Я уже давно ее вижу.
– Не знаю. Кажется, артистка мюзик-холла. Ей ампутировали ногу, потом руку.
– Она знает?
– Что?
– Я хочу сказать, больные, они знают?
– Никто не знает, доктор запретил об этом распространяться.
– Жаль, – проговорил он с усмешкой. – Может, она не так чванилась бы.
– Побрызгайте инсектицидом, – сказал Пьер перед тем, как сесть в фиакр. – Здесь пахнет насекомыми.
Араб послушно распылил немного жидкости на белые чехлы и подушки сиденья.
– Готово, – сказал он.
Пьер нахмурил брови:
– Гм!
Мод закрыла ладонью его рот.
– Не надо, – умоляюще сказала она. – Не надо! И так сойдет.
– Как хочешь. Но если наберешься блох, потом не жалуйся.
Он подал ей руку, чтобы помочь подняться в фиакр, и уселся рядом. Худые пальцы Мод оставили на его ладони сухой лихорадочный жар: у нее всегда была небольшая температура.
– Повезите вокруг крепостных стен, – распорядился Пьер.
Что ни говори, бедность делает человека вульгарным. Мод была вульгарна, он ненавидел ее панибратство по отношению к кучерам, носильщикам, гидам, официантам: она постоянно принимала их сторону, и если их заставали на месте преступления, всегда старалась найти им извинения.
Кучер стегнул лошадь, и фиакр, скрипя, тронулся.
– Ну и колымага! – смеясь, сказал Пьер. – Того и гляди, ось сломается.
Мод высунулась из окошка и посмотрела окрест большими, серьезными и совестливыми глазами.
– Это наша последняя прогулка.
– Да! – ответил он. – Последняя.
Она настроена на лирический лад, так как это последний день, и завтра мы сядем на пароход. Это его раздражало, но он лучше переносил ее задумчивость, нежели веселость. Она была не очень красива, и когда хотела выказать любезность или живость, это сразу превращалось в бедствие. «Вполне достаточно», – подумал он. Будет завтрашний день, три дня плавания, а потом, в Марселе, до свидания, каждый пойдет своей дорогой. Он был доволен, что заказал себе место в первом классе: в третьем путешествовали четыре женщины, он пригласит ее в свою каюту, когда захочет, но, будучи робкой, она никогда не осмелится подняться в первый класс, если он сам за ней не придет.
– Вы заказали себе место в автобусе? – спросил он.
Мод немного смутилась.
– Мы не поедем автобусом. Нас подвезут на автомобиле в Касабланку.
– Кто?
– Один знакомый Руби, солидный господин, совершенно обворожительный, нам придется сделать крюк через Фес.
– Жаль, – вежливо отозвался он.
Фиакр выехал из Марракеша и теперь катил среди европейского города. Перед ними всухую гнил огромный участок с развороченными бидонами и пустыми консервными банками. Фиакр проезжал меж большими белыми кубами со сверкающими стеклами; Мод надела темные очки, Пьер немного морщился из-за солнца. Аккуратно расположенные бок о бок, кубы не давили на пустыню; подуй ветер – и они, казалось, улетели бы. На одном из них повесили указатель: «Улица Маршала Лиоте». Но улицы не было: совсем маленький рукав асфальтированной пустыни между зданиями. Три туземца глазели на проезжающий фиакр; у самого молодого было на глазу бельмо. Пьер приосанился и строго посмотрел на них. Всегда следует показать свою силу, чтобы не быть вынужденным ею воспользоваться, – эта формула не имела смысла только для военных властей, но она предписывала нормы поведения колонистам и даже обычным туристам. Не нужно демонстрировать свое могущество: надо лишь не забываться и просто держаться прямо. Тревога, угнетавшая его с утра, испарилась. Под тупыми взглядами этих арабов он чувствовал, что представляет Францию.
– Что будет, когда мы вернемся? – вдруг спросила Мод.
Он, не отвечая, стиснул кулаки. Дура – она внезапно возродила его тревогу. Мод настаивала:
– Возможно, будет война. Ты уедешь, а я стану безработной.
Он терпеть не мог, когда она говорила о безработице с серьезным видом работяги. Тем не менее она была второй скрипкой в женском оркестре «Малютки», гастролировавшем по Средиземноморью и Ближнему Востоку: это могло сойти за артистическую профессию. Он раздраженно дернулся:
– Прошу тебя, Мод, давай не говорить о политике. Хотя бы один раз, а? Это наш последний вечер в Марракеше.
Она прижалась к нему:
– Действительно, это наш последний вечер.
Он погладил ее по волосам; но во рту у него оставался горький привкус. Это был не страх – вовсе нет; ему было с кого брать пример, он знал, что никогда не испугается. Это было скорее… разочарование.
Теперь фиакр ехал вдоль крепостных стен. Мод показала на красные ворота, над которыми зеленели верхушки пальм:
– Пьер, ты помнишь?
– Что?
– Сегодня ровно месяц, как мы встретились – именно здесь.
– Ах, да…
– Ты меня любишь?
У нее было худощавое личико, немного костистое, с огромными глазами и красивыми губами.
– Да, я люблю тебя.
– Скажи повыразительней!
Он наклонился и поцеловал ее.
У старика был сердитый вид, хмуря брови, он смотрел им прямо в глаза. Он отрывисто произнес: «Меморандум! Вот и все их уступки!» Гораций Вильсон покачал головой, он подумал: «К чему он ломает комедию?» Разве Чемберлен не знал, что будет меморандум? Разве все не было решено еще накануне? Разве они не согласились со всем фарсом, когда остались наедине с этим двуличным доктором Шмидтом?
– Обними свою маленькую Мод, у нее сегодня вечером скверное настроение.
Он обнял ее, и она заговорила детским голоском:
– Ты не боишься войны?
Он почувствовал неприятную дрожь, пробежавшую по затылку.
– Моя бедная девочка, нет, не боюсь. Мужчина не должен бояться войны.
– А я точно могу сказать, что Люсьен боится! Это меня и отвратило от него. Он слишком труслив.
Он нагнулся и поцеловал ее в волосы: он недоумевал, почему у него вдруг возникло желание дать ей пощечину?
– Прежде всего, – продолжала она, – как мужчина может защищать женщину, если он все время дрейфит?
– Это не мужчина, – мягко сказал он. – А я – мужчина.
Она взяла его лицо в свои руки и начала говорить, обнюхивая его:
– Да, вы были мужчиной, месье, да, вы были мужчиной. Черные волосы, черная борода – вам можно было дать двадцать восемь лет.
Он высвободился; он чувствовал себя податливым и пресным; тошнота поднималась от желудка к горлу, и он не знал, от чего его больше тошнило – от этой мерцающей пустыни, от этих красных стен или от этой женщины, которая съежилась в его объятиях. «Как же я устал от Марокко!» Он хотел бы оказаться в Туре, в родительском доме, и чтобы было утро, и мать принесла ему в постель завтрак! «Итак, вы спуститесь в салон для журналистов, – сказал он Невилу Гендерсону, – и сообщите, что в соответствии с просьбой рейхсканцлера Гитлера я прибуду в отель «Дрезен» приблизительно в двадцать два тридцать».
– Кучер! – сказал он. – Кучер! Возвращайтесь в город через эти ворота!
– Что с тобой? – удивилась Мод.
– Мне надоели крепостные стены! – вскинулся он. – Мне надоела пустыня и Марокко тоже.
Но он сразу же совладал с собой и двумя пальцами взял ее за подбородок.
– Будешь умницей, – сказал он ей, – купим тебе мусульманские туфли.
Войны не было в музыке манежей, не было в кишащих забегаловках улицы Рошешуар. Ни дуновения ветра. Морис истекал потом, он чувствовал у своего бедра теплое бедро Зезетты, сыграть в белот – и все в порядке, войны не было в полях, в неподвижном дрожании теплого воздуха над изгородями, в звонком, чистом щебете птиц, в смехе Марсель, она возникла в пустыне вокруг стен Марракеша. Поднялся горячий, красный ветер, он вихрем закружился вокруг фиакра, пробежал по волнам Средиземного моря, ударил в лицо Матье; Матье обсыхал на пустынном пляже, он думал: «Даже этого не останется», и ветер войны дул ему прямо в лицо.
Даже этого! Немного похолодало, но ему не хотелось сразу возвращаться. Один за другим люди уходили с пляжа; наступило время ужина. Само море обезлюдело, оно лежало, пустынное и одинокое, большой лежачий свет, и черный трамплин для лыжников дырявил его, как верхушка кораллового рифа.
«Даже этого не останется», – думал Матье. Она вязала у открытого окна, ожидая писем Жака. Время от времени она со смутной надеждой поднимала голову, она искала взглядом свое море. Ее море: буек, ныряльщик, плещущая о теплый песок вода. Тихий садик, столь подходящий для людей, садик с несколькими широкими аллеями и бесчисленными тропинками. И каждый раз она возобновляла свое вязание с тем же разочарованием: ей изменило ее море. Территория страны, ощетинившаяся штыками и перегруженная пушками, втянет в себя это побережье; вода и песок будут вовлечены в эту воронку и продолжат свою сумрачную жизнь каждый сам по себе. Колючая проволока избороздит белые каменные лестницы звездчатыми тенями; пушки на бульварах между соснами, часовые у вилл; офицеры вслепую будут шагать по этому городу скорбных вод. Море вернется к своему одиночеству. Купаться будет запрещено: вода, охраняемая военными, примет у кромки пляжа казенный вид; вышка для прыжков и буйки не будут больше заманчиво маячить вдалеке; все маршруты, которые Одетта прочертила на волнах со времен своего детства, будут стерты. Но открытое море, наоборот – открытое море, неспокойное и бесчеловечное, с морскими сражениями в пятидесяти милях от Мальты, с гроздьями потопленных кораблей у Палермо, с глубинами, изборожденными железными рыбами, открытое море ополчится против нее, повсюду, во всем будет обнаруживаться его ледяное присутствие, открытое море поднимется на горизонте стеной безнадежности. Матье встал; он уже высох и стал ладонью очищать плавки. «Война, как это омерзительно!» – подумал он. А после войны? Это будет уже другое море. Но какое? Море победителей? Море побежденных? Через пять, через десять лет он, возможно, снова будет здесь, быть может, таким же сентябрьским вечером, в тот же самый час, он будет сидеть на том же песке перед этой огромной желатиновой массой, и те же золотистые лучи будут скользить по поверхности воды. Но что он увидит?
Матье встал, завернулся в халат. Сосны на террасе чернели на фоне неба. Он бросил последний взгляд на море: война еще не разразилась; люди спокойно ужинали на виллах; ни одной пушки, ни одного солдата, нет колючей проволоки, флот стоит на рейде в Бизерте, в Тулоне; еще дозволено видеть море в цвету, море одного из последних мирных вечеров. Но оно останется спокойным и нейтральным: огромное пространство соленой воды, слегка потревоженное, но молчаливое. Он пожал плечами и поднялся по каменным ступеням: уже несколько дней все поочередно покидало его. Он не ощущал запахов, всех южных запахов, не ощущал вкуса. А теперь – море. «Как крысы бегут с тонущего корабля». Когда наступит день отъезда, он будет совсем пуст, ему будет не о чем сожалеть. Он медленно пошел к вилле, а Пьер выпрыгнул из фиакра.
– Идем, – сказал он, – ты заслужила пару туфель.
Они вошли на рынок. Было поздно; арабы спешили добраться до площади Джемаа-эль-фна до захода солнца. Пьеру стало веселее; волнение толпы его приободрило. Он смотрел на женщин в чадрах, и когда они отвечали на его взгляд, он наслаждался своей красотой, отраженной в их глазах.
– Смотри, – сказал он, – вот и туфли.
Прилавок был переполнен: целая груда дешевых тканей, ожерелий, вышитых туфель.
– Как красиво! – сказала Мод. – Остановимся.
Она запустила руки в этот пестрый беспорядок, и Пьер немного отодвинулся: он не хотел, чтобы арабы видели, как европеец поглощен созерцанием женских безделушек.
– Выбирай, – рассеянно сказал он, – выбирай, что хочешь.
За соседним прилавком продавали французские книги; он, от нечего делать, стал их перелистывать. Тут была уйма детективов и кинороманов. Он слышал, как справа от него под пальцами Мод звякали кольца и браслеты.
– Нашла туфли своей мечты? – спросил он через плечо.
– Я ищу, ищу, – ответила она. – Надо выбрать.
Он вернулся к книгам. Под стопкой «Джека из Техаса» и «Буйвола Билла» он обнаружил книгу с фотографиями. Это было произведение полковника Пико о ранениях лица; первых страниц не хватало, другие были загнуты. Он хотел быстро положить ее на место, но было слишком поздно: книга открылась сама собой; Пьер увидел ужасное лицо, от носа до подбородка зияла дыра, дыра без губ и зубов; правый глаз вырван, широкий шрам прорезал правую щеку. Изувеченное лицо сохранило человеческое выражение – отвратительно насмешливый вид. Пьер почувствовал ледяные покалывания по всей коже головы и подумал: как эта книга сюда попала?
– Хороший книга, – сказал торговец. – Не скучаешь.
Пьер принялся листать ее. Он увидел людей без носов, без глаз или без век, с выпученными, как на анатомических плакатах, глазными яблоками. Он был загипнотизирован, он просматривал фотографии одну за другой и повторял про себя: «Как она попала сюда?» Самым ужасным было лицо без нижней челюсти; на верхней челюсти не было губы, открылись десны и четыре зуба. «Он жив, – подумал Пьер. – Этот человек жив». Он поднял глаза – облезлое зеркало в позолоченной раме отразило его собственное лицо, он с ужасом посмотрел на него…
– Пьер, – сказала Мод, – посмотри-ка, я нашла.
Он замешкался: книга жгла ему руки, но он не мог решиться отшвырнуть ее в общую кучу, отойти от нее, повернуться к ней спиной.
– Иду, – сказал он.
Он указал торговцу пальцем на книгу и спросил:
– Сколько?
Юноша метался, как хищный зверь в клетке, по небольшой приемной. Ирен печатала на машинке любопытную статью о преступлениях военщины. Она остановилась и подняла голову:
– У меня от вас голова кружится.
– Я не уйду, – упорствовал Филипп. – Не уйду, пока он меня не примет…
Ирен засмеялась:
– В чем же дело! Вы хотите его видеть? Что ж, он там, за дверью; вам нужно только войти – и вы его увидите.
– Прекрасно! – сказал Филипп.
Он сделал шаг вперед и остановился:
– Я… это будет неловко, я его потревожу. Ирен, пожалуйста, спросите его! В последний раз, клянусь вам, в последний раз.
– Какой вы надоедливый, – сказала она. – Оставьте все это. Питто – подлец; неужели вы не понимаете: вам повезло, что он не хочет вас видеть! Вам же только хуже будет.
– А, куда уж хуже! – иронично сказал он. – Разве мне можно повредить? Сразу видно, что вы не знаете моих родителей: они – сама добродетель, а мне оставили только водить компанию со Злом.
Ирен посмотрела ему в глаза:
– Вы думаете, я не знаю, чего он от вас хочет?
Юноша покраснел, но ничего не ответил.
– И потом, после всего, – сказала она, пожимая плечами.
– Пойдите спросите еще, Ирен, – умоляюще повторил Филипп. – Пойдите спросите еще. Скажите ему, что я на пороге кардинального решения.
– Ему на это плевать.
– И все-таки пойдите и скажите.
Она толкнула дверь и вошла, не постучав. Питто поднял голову и скривился.
– Что такое? – прорычал он.
Ирен его не боялась.
– Все в порядке, – сказала она. – Не надо так кричать. Там этот мальчик. Мне надоело с ним нянчиться. Вас не очень затруднит, если я вам подброшу его на минутку?
– Я сказал нет! – рявкнул Питто.
– Он говорит, что собирается принять кардинальное решение.
– Какое мне до этого дело, черт побери!
– Ну вас! Разбирайтесь сами, – нетерпеливо сказала она. – Я ваша секретарша, а не его нянька.
– Ладно, – сказал он, сверкнув глазами. – Пусть войдет! Так он собирается принять кардинальное решение! Кардинальное решение! Что ж, а я собираюсь его кардинально прикончить.
Она рассмеялась ему в лицо и вернулась к Филиппу.
– Идите.
Юноша так и бросился, но на пороге кабинета благоговейно застыл, и она вынуждена была его подтолкнуть, чтобы заставить войти. Она закрыла за ним дверь и вернулась к своему столу. Почти тотчас же по ту сторону двери послышалась громкая брань. Ирен, не обращая внимания, продолжала печатать: она знала, что для Филиппа партия проиграна. Он корчил из себя человека, стоящего над общественной моралью, и преклонялся перед Питто; Питто хотел воспользоваться этим, чтобы приголубить его, и все это из чистой порочности: он даже не был педерастом. В последний момент малыш струсил. Он был как все мальчишки – хотел иметь все, не давая ничего взамен. Теперь он умолял Питто сохранить с ним дружбу, но Питто еще раньше послал его к черту. Она слышала, как он кричал: «Пошел вон! Ты маленький трус, маленький буржуа, маменькин сынок, корчишь из себя сверхчеловека!» Она засмеялась и напечатала еще несколько строк статьи. «Можно ли представить себе более гнусных животных, чем высшие офицеры, осудившие капитана Дрейфуса?» «Как он их приложил», – развеселившись, подумала она.
Дверь с шумом распахнулась и захлопнулась. Филипп стоял перед ней. Лицо у него было заплаканное. Он склонился над столом, направив указательный палец в грудь Ирен:
– Он довел меня до крайности, – сказал он со свирепым видом. – Никто не имеет права доводить людей до крайности. – Он запрокинул голову и засмеялся. – Вы обо мне еще услышите!
– Не забивай себе голову чепухой, – вздохнув, сказала Ирен.