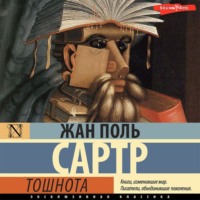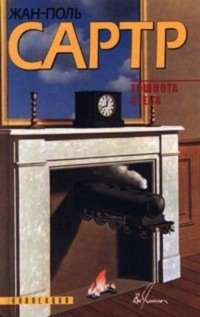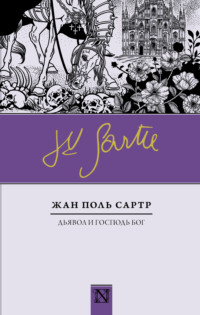Полная версия
Отсрочка
– Какая отъявленная глупость эта война, а? – сказал он.
– Гм! – хмыкнул Вайс.
– А что, разве это не глупость?
– Конечно, – сказал Вайс. – Однако я хотел сказать: для нас это не такая уж глупость.
– Для нас? – удивленно переспросил Бирненшатц. – Для нас? О ком ты говоришь?
Вайс опустил глаза:
– Для нас, евреев, – сказал он. – После того что сделали с евреями в Германии, мы имеем все основания сражаться.
Бирненшатц сделал несколько шагов по комнате, он разозлился:
– А что это такое: мы, евреи? Мне это непонятно. Я – француз. Ты что, чувствуешь себя евреем?
– Со вторника у меня живет кузен из Граца. Он мне показал свои руки. Они их прижигали сигарами от локтя до подмышек.
Бирненшатц резко остановился, он схватил сильными руками спинку стула, и мрачный огонь бешенства полыхнул на его лице.
– Те, кто это сделал, – сказал он, – те, кто это сделал…
Вайс заулыбался; Бирненшатц успокоился:
– Это не потому, что твой кузен – еврей, Вайс. Это потому, что он – человек. Не выношу, когда совершают насилие над человеком. Но что такое еврей? Это человек, которого другие люди считают евреем. Вот посмотри на Эллу. Разве ты бы принял ее за еврейку, если б не знал ее?
Вайс не казался убежденным. Бирненшатц пошел на него, ткнул его в грудь вытянутым указательным пальцем:
– Послушай, мой маленький Вайс, вот что я тебе скажу: я уехал из Польши в 1910 году, я прибыл во Францию. Меня здесь хорошо приняли, я почувствовал себя здесь как дома, я сказал себе: «Bсe хорошо, теперь моя родина – Франция». В 1914 году началась война. Ладно, я сказал себе: «Воюю, потому что это моя страна». И я знаю, что такое война, я был на Шмен-де-Дам. И сейчас я могу одно тебе сказать: я – француз, не еврей, не французский еврей: француз. Мне жалко евреев Берлина и Вены, евреев в концлагерях, меня бесит от мысли, что кого-то терзают. Но послушай меня хорошенько. Я сделаю все, что смогу, чтобы помешать французу, одному-единственному французу, сломать себе шею ради них. Я чувствую себя более близким первому попавшемуся прохожему, которого встречу на улице, чем моим дядям из Ленца или племянникам из Кракова. Дела немецких евреев нас не касаются.
У Вайса был замкнутый и упрямый вид. Он сказал с жалкой улыбкой:
– Даже если это и правда, хозяин, вам лучше этого не говорить. Нужно, чтобы те, кто уходит на войну, имели основания драться.
Бирненшатц почувствовал, как краска смущения залила ему лицо. «Бедняга», – с раскаянием подумал он.
– Ты прав, – сказал он резко, – я всего лишь старая развалина, и нечего мне болтать об этой войне – я в ней все равно не участвую. Когда ты уезжаешь?
– Поездом в шестнадцать тридцать, – ответил Вайс.
– Сегодняшним поездом? Но тогда что ты здесь делаешь? Иди быстрей домой, к жене. Тебе нужны деньги?
– Сейчас нет, благодарю.
– Иди. Пришлешь ко мне свою жену, я все с ней улажу. Иди, иди. Прощай.
Он открыл дверь и вытолкнул его. Вайс кланялся и бормотал невнятные слова благодарности. Бирненшатц через плечо Вайса заметил человека, сидевшего в приемной со шляпой на коленях. Он узнал Шалома и нахмурился: он не любил, когда просителей заставляли ждать.
– Заходите, – сказал он. – Вы давно ждете?
– С полчасика, – улыбаясь, кротко ответил Шалом. – Но что такое полчасика? Вы так заняты. А у меня так много времени. Что я делаю с утра до вечера? Жду. Жить в изгнании – это непрестанное ожидание, разве не так?
– Входите, – быстро сказал Бирненшатц. – Входите. Следовало меня предупредить.
Шалом вошел, он улыбался и кланялся. Бирненшатц вошел следом и закрыл дверь. Он прекрасно узнал Шалома: «Он был кем-то там в баварском профсоюзном движении». Шалом время от времени заходил, брал у него две-три тысячи франков и исчезал на несколько недель.
– Пожалуйста, сигару.
– Я не курю, – сказал Шалом, делая нырок вперед. Бирненшатц взял сигару, рассеянно покрутил ее между пальцами, потом снова положил в коробку.
– Ну как? – спросил он. – Ваши дела улаживаются?
Шалом искал глазами стул.
– Садитесь! Садитесь! – любезно предложил Бирненшатц.
Нет. Шалом не хотел садиться. Он подошел к стулу и поставил на него свой портфель, чтобы было удобнее, затем, повернувшись к Бирненшатцу, издал долгий мелодичный стон:
– А-а-а! Ничего не улаживается. Нехорошо, когда человек живет в чужой стране, его с трудом переносят; его попрекают куском хлеба, а тут еще это недоверие к нам, типично французское недоверие. Когда вернусь в Вену, вот какое впечатление я сохраню о Франции: темная лестница, по которой с трудом поднимаешься, кнопка звонка, которую нажимаешь, дверь, которая наполовину отворяется: «Что вам нужно?» и тут же закрывается. Полиция, мэрия, очередь в префектуру. В сущности, это естественно, мы у них в гостях. Но присмотритесь внимательно: нас могли бы заставить работать: я хочу всего-навсего быть полезным. Но чтобы найти место, нужна рабочая карточка, а чтобы получить рабочую карточку, нужно где-то работать. Как бы я ни старался, мне не удается зарабатывать себе на жизнь. И это самое невыносимое: быть обузой для других. Особенно когда они так жестоко дают это почувствовать. А сколько потерянного времени: я начал писать мемуары, это принесло бы мне немного денег. Но каждый день столько хлопот, что пришлось все это забросить.
Он был совсем маленький, юркий, он поставил портфель на стул, а его освободившиеся руки так и порхали вокруг пунцовых ушей. «До чего же у него еврейский вид». Бирненшатц небрежно подошел к зеркалу и бросил на себя быстрый взгляд: метр восемьдесят роста, сломанный нос, под очками – лицо американского боксера; нет, нет, мы не одной породы. Но он не смел посмотреть на Шалома, он чувствовал себя опороченным. «Хоть бы он ушел! Если б он сейчас же ушел!» Но рассчитывать на это не приходилось. Только продолжительностью своих визитов и жизнерадостной живостью своих разговоров Шалом в собственных глазах отличался от простого нищего. «Мне нужно что-то говорить», – подумал Бирненшатц. Шалом имел на это право. Он имел право на три тысячи франков и пятнадцать минут разговора. Бирненшатц присел на край письменного стола. Правой рукой он поигрывал портсигаром в кармане пиджака.
– Французы черствые люди, – сказал Шалом. Его голос пророчески взмывал и опускался, но в вылинявших глазах подрагивал оживленный огонек. – Черствые люди. С их точки зрения, иностранец в принципе подозрителен, а то и виновен.
«Он говорит со мной так, будто я не француз. Черт возьми: да, я еврей, польский еврей, прибывший во Францию 19 июля 1910 года, никто об этом здесь не помнит, но сам-то он этого не забыл. Еврей, которому повезло». Он повернулся к Шалому и с раздражением посмотрел на него. Шалом немного потупил голову и из почтительности показывал ему лоб, но при этом смотрел из-под выгнутых бровей прямо ему в лицо. Он не сводил с него глаз, и эти большие бесцветные глаза видели в нем еврея. Два еврея в уединении кабинета на улице Катр-Септамбр, два сообщника; а вокруг них, на улицах, в других домах никого, кроме французов. Два еврея, высокий еврей, который преуспел, и маленький худосочный еврейчик, которому не повезло. Ни дать ни взять – Лорел и Харди[6].
– Это черствые люди! – повторил Шалом. – Безжалостные люди!
Бирненшатц резко вздернул плечи.
– Нужно поставить себя на… их место, – сухо заметил Бирненшатц, он не смог выговорить: «на наше место», – знаете, сколько иностранцев осело во Франции с 1934 года?
– Знаю, – сказал Шалом, – знаю. И по-моему, это большая честь для Франции. Но что она делает, чтобы ее заслужить? Смотрите: какие-то молодчики прочесывают Латинский квартал, и если кто-то похож на еврея, они набрасываются на него с кулаками.
– Министр Блюм нанес нам большой ущерб, – заметил Бирненшатц.
Он сказал «нам»; он вступил в сообщество этого маленького чужака. Мы. Мы евреи. Но он это сделал из милосердия. Глаза Шалома изучали его с почтительной настойчивостью. Он был худосочный и маленький, его избили и выгнали из Баварии, теперь он был здесь, ему приходилось ночевать в замызганной гостинице и проводить дни в кафе. «А кузену Вайса прижигали руки сигарами». Бирненшатц смотрел на Шалома и чувствовал себя липким. Не то чтобы он испытывал к нему симпатию, вовсе нет! Это было… это было…
Она смотрела на него и думала: «Этот человек – хищник. Все они помечены, и это из-за них начинаются войны». Но она чувствовала, что ее давняя любовь не умерла.
Бирненшатц ощупывал свой бумажник.
– Что ж, – доброжелательно сказал он, – будем надеяться, что это не слишком затянется.
Шалом поджал губы и быстро поднял головенку. «Я слишком рано потянулся к бумажнику», – подумал Бирненшатц.
Человек-хищник. Он овладевает женщинами и убивает мужчин. Он думает, что он сильный, но это неправда, он просто помечен, вот и все.
– Это зависит от французов, – сказал Шалом. – Если французы постигнут суть своей исторической миссии…
– Какой миссии? – холодно спросил Бирненшатц.
Глаза Шалома заблестели от гнева:
– Германия их провоцирует и всячески оскорбляет, – сказал он резко и жестко. – Чего они ждут? Они что, рассчитывают укротить ярость Гитлера? Каждая очередная сдача позиций удлиняет нацистский режим на десятилетие. А в это время мы здесь, мы жертвы, мы грызем кулаки от бессилия. Сегодня я видел на стенах белые плакаты, и во мне затеплилась надежда. Но еще вчера я думал: у французов в жилах не кровь, и мне суждено умереть в изгнании.
Два еврея в кабинете на улице Кэтр-Септамбр. Точка зрения евреев на международные события. «Же сюи парту»[7] завтра напишет: «Евреи толкают Францию к войне». Бирненшатц снял очки и протер их платком: он захмелел от гнева. Он тихо спросил:
– А если будет война, вы пойдете воевать?
– Я уверен, что множество эмигрантов вступят в армию, – сказал Шалом. – Но посмотрите на меня, – сказал он, показывая на свое тщедушное тело. – Какая призывная комиссия сочтет меня годным?
– Но тогда почему вы не оставите нас в покое? – прогремел Бирненшатц. – Почему вы не оставите нас в покое? Зачем вы обливаете нас грязью у нас же дома? Я – француз, я не немецкий еврей, плевать мне на немецких евреев. Затевайте свою войну где-нибудь в другом месте!
Шалом с минуту в оцепенении смотрел на него, затем вновь обрел подобострастную улыбку, вытянул руку, схватил портфель и попятился к двери. Бирненшатц вынул бумажник из кармана:
– Подождите.
Шалом уже дошел до двери.
– Мне ничего не нужно, – сказал он. – Иногда я прошу вспомоществования для евреев. Но вы правы: вы не еврей, я ошибся адресом.
Он вышел, и Бирненшатц долго неподвижно смотрел на дверь. Это человек жестокий, человек – хищник, у них есть счастливая звезда, и им все удается. Но война приходит от них; смерть и страдание тоже от них. Они пламя и пожар, они приносят зло, он мне принес зло, я его ношу, как горящий уголек под веками, как занозу в сердце. «Вот что она обо мне думает». Ему не нужно было ее об этом спрашивать, он знал ее, если б он мог проникнуть в эту темноволосую курчавую голову, он в любой момент нашел бы там эту упорную и неумолимую мысль, по-своему она упряма и никогда ничего не забывает. Он перегнулся в пижаме над площадью Желю, еще прохладно, небо бледно-голубое, серое по краям – это был час, когда вода струится по плиточному настилу, по деревянным прилавкам торговцев рыбой, пахло отъездом и утром. Утро, открытое в бескрайний простор, и там – жизнь, лишенная сомнений, маленькие округлые дымки от гранат на потрескавшейся земле Каталонии. Но за его спиной, за приоткрытым окном, в комнате, полной сна и ночи, угнездилась эта мертвая мысль, она подстерегает его, судит, вызывает угрызения совести. Он уедет завтра, он их поцелует на перроне, они с малышом вернутся в отель, Сара вприпрыжку спустится по величественной лестнице, думая: вот он снова уехал в Испанию. Она никогда не простит ему, что он в Испании; это обволакивало мертвой коркой его сердце. Он перегнулся над площадью Желю, чтобы оттянуть момент возвращения в комнату; ему нужны были вопли, горестное пение, яростные краткие страдания, но не эта всепоглощающая нежность. Вода струилась по площади. Вода, влажные запахи утра, рассветные деревенские крики. Под платанами площадь была скользкой, жидкой, белой и быстрой, как рыба в воде. В эту ночь пел негр, и ночь казалась тяжелой и сухой, как ночи Испании. Гомес прикрыл глаза, он почувствовал, как терпкая тяга к Испании и войне овладевала им, Сара ничего этого не понимает – ни ночи, ни утра, ни войны.
– Пам, пам! Пам, пам, пам, паи, пам! – во всю глотку заорал Пабло.
Гомес повернулся и ступил в комнату. Пабло надел каску, взял за ствол карабин и стал упражняться им, как палицей. Он бегал по комнате отеля, нанося в пустоту резкие удары и пытаясь при этом сохранить равновесие. Сара следила за ним потухшим взглядом.
– Да тут побоище? – сказал Гомес.
– Я уложу их всех! – не останавливаясь, выкрикнул Пабло.
– Кого «всех»?
Сара в халате сидела на краю кровати. Она штопала чулок.
– Всех фашистов, – сказал Пабло.
Гомес откинулся назад и захохотал:
– Убей их! Ни одного не оставляй в живых. По-моему, ты забыл вон того.
Пабло побежал туда, куда показал Гомес, и рубанул воздух карабином.
– Бац, бац! – кричал он. – Бац, бац, бац! Никакой пощады!
Он остановился и, задыхаясь, повернулся к Гомесу, серьезный и разгоряченный.
– Гомес! – сказала Сара. – Вот к чему это приводит! Как ты мог?
Гомес накануне купил Пабло игрушечный военный набор.
– Ему надо научиться сражаться, – пояснил Гомес, гладя мальчика по голове. – Иначе он будет трусом, как все французы.
Сара подняла на него глаза, и он понял, что жестоко обидел ее.
– Не понимаю, – удивилась Сара, – как можно называть людей трусами только потому, что они не хотят воевать?
– Есть моменты, когда этого нужно хотеть, – возразил Гомес.
– Никогда! – возмутилась Сара. – Ни в коем случае. Нет ничего на свете, ради чего стоило бы, чтоб я очутилась однажды на дороге рядом с моим разрушенным домом и с моим раздавленным ребенком на руках.
Гомес не ответил. Ему нечего было ответить. Сара была права. Со своей точки зрения, она была права. Но точка зрения Сары была из тех, которыми следовало из принципа пренебречь, иначе ни к чему не придешь. Сара тихо и горько засмеялась.
– Когда я с тобой познакомилась, ты был пацифистом, Гомес.
– В тот момент нужно было быть пацифистом. И наша цель не изменилась. Но средства для ее достижения иные.
Сара в замешательстве умолкла. Рот ее оставался полуоткрытым, и отвисшая губа обнажала испорченные зубы, Пабло вращал карабином и кричал:
– Ну погоди, подлый француз, подлый французский трус!
– Видишь, – вымолвила Сара.
– Пабло, – вдруг сказал Гомес, – не нужно бить французов. Французы не фашисты.
– Французы – тру´сы! – выкрикнул Пабло и ударил прикладом по тяжело взлетевшим шторам. Сара промолчала, но Гомес предпочел бы не видеть взгляда, который она бросила на Пабло. Это не был строгий взгляд, нет: взгляд удивленный, скорее неуверенный, казалось, она видит сына в первый раз. Она отложила в сторону чулок и глядела на этого незнакомого ребенка, на этого нормального маленького злодея, который отрывал головы и разбивал вдребезги черепа, должно быть, она изумленно думала: «И это мой сын!» Гомесу стало стыдно: «Восемь дней, – подумал он. – Хватило всего восьми дней».
– Гомес, – быстро сказала Сара, – ты действительно считаешь, что будет война?
– Очень на это рассчитываю, – ответил Гомес. – Надеюсь, что Гитлер в конце концов вынудит французов воевать.
– Гомес, – проговорила Сара, – знаешь, я в последнее время поняла: люди злы.
Гомес пожал плечами:
– Они ни добры, ни злы. Просто каждый преследует свою цель.
– Нет, нет, – возразила Сара. – Они злы. – Она не отводила взгляда от Пабло, казалось, она тщилась предугадать его судьбу. – Нет, они злы и пытаются непрерывно друг другу навредить.
– Я не злой, – сказал Гомес.
– Злой, – не глядя на него, сказала Сара. – Ты злой, мой бедный Гомес, ты очень злой. И у тебя даже нет оправданий: другие хотя бы несчастны. Но ты счастлив и зол.
Наступило долгое молчание. Гомес смотрел на этот короткий жирный затылок, на это обиженное природой тело, которое он все ночи держал в объятиях, и думал: «Она не испытывает ко мне ни дружбы, ни нежности, ни уважения. Она меня просто любит: кто из нас двоих злее?»
Но вдруг к нему вернулись угрызения совести: однажды вечером он прибыл из Барселоны счастливым, да, поразительно счастливым. Он дал себе восемь дней отгула. Завтра он снова уедет. «Да, я не добрый», – подумал он.
– Есть горячая вода?
– Теплая, – отозвалась Сара. – Кран слева.
– Хорошо, – сказал Гомес. – Пойду-ка побреюсь.
Он вошел в ванную комнату, оставив дверь широко открытой, повернул кран и выбрал лезвие: «Когда уеду, – подумал он, – игрушечное оружие долго не проживет». Вернувшись домой, Сара, без сомнения, запрет его в большом шкафу для лекарств; если только не сочтет, что проще забыть его здесь. «Она учит Пабло только девчачьим играм», – подумал он. Когда еще он свидится с Пабло, и во что она его за это время превратит? Однако у мальчика строптивый вид! Гомес подошел к умывальнику и увидел их обоих в зеркале: Пабло, запыхавшись, застыл посреди комнаты, весь пунцовый, расставив ноги и засунув руки в карманы; Сара стояла перед ним на коленях и, не говоря ни слова, смотрела на него. «Она хочет понять, похож ли он на меня», – подумал Гомес. Он почувствовал себя неловко и бесшумно закрыл дверь.
«… где ко мне присоединилась Сара с малышом… Ждите меня четырехчасовым поездом в воскресенье и закажите мне…», одна рука сильно сжала его левое плечо, другая – правое. Теплое и дружеское пожатие. Ну вот: он положил письмо в карман и поднял глаза.
– Привет.
– Одетта только что мне сказала… – проговорил Жак, погружая взгляд в глаза Матье. – Бедный старик!
Не сводя с брата глаз, он сел в кресло, которое только что покинула Одетта; рука его автоматически приподняла обе брючины; ноги скрестились сами собой; он не замечал этих мелких побочных действий. Он целиком превратился в собственный взгляд.
– Знаешь, я еду не сегодня, – сказал Матье.
– Знаю. Ты не опасаешься неприятностей?
– Подумаешь, несколькими часами позже…
Жак глубоко вздохнул:
– Что тебе сказать? В другие времена, когда человек уходил на войну, ему говорили: защищай своих детей, защищай свою свободу или свой дом, наконец – защищай Францию, всегда можно было найти причину, чтобы рискнуть своей шкурой. Но сегодня…
Он пожал плечами. Матье, опустив голову, постукивал каблуком по земле.
– Молчишь, – проникновенно сказал Жак. – Ты предпочитаешь молчать из страха сказать лишнее. Но я знаю, о чем ты думаешь.
Матье все еще постукивал туфлей по земле, не поднимая головы, он ответил:
– Да нет, не знаешь.
Наступило короткое молчание, затем он услышал неуверенный голос брата:
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что я совсем ни о чем не думаю.
– Как хочешь, – сказал Жак с легким раздражением. – Ты ни о чем не думаешь, но ты пришел в отчаяние, а это одно и то же.
Матье заставил себя вскинуть голову и улыбнуться.
– Я вовсе не пришел в отчаяние.
– Не хочешь же ты меня убедить, будто ты уходишь, смирившись, как баран, которого ведут на бойню?
– Да, – сказал Матье, – все же я немного похож на барана, ты не находишь? Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе. Справедлива эта война или нет, для меня это второстепенно.
Жак откинул голову и, полузакрыв глаза, посмотрел на Матье:
– Матье, ты меня удивляешь. Ты меня бесконечно удивляешь, я тебя больше не узнаю. Как же так? У меня был бунтующий, циничный, язвительный брат, который никогда не хотел быть одураченным, который мизинцем не мог пошевелить, не пытаясь понять при этом, почему он шевелит им, а не указательным пальцем, почему он шевелит мизинцем правой руки, а не левой. И вот война, его посылают в первых рядах, и мой бунтарь, мой сокрушитель посуды, не задавая лишних вопросов, покорно уходит, говоря: «Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе».
– Моей вины здесь нет, – сказал Матье. – Мне никогда не удавалось сформировать собственное мнение по вопросам такого рода.
– Но давай рассуждать, – сказал Жак, – мы имеем дело с неким господином – я имею в виду Бенеша, – который твердо пообещал построить из Чехословакии конфедерацию по швейцарской модели. И он действительно за это взялся, – с силой повторил Жак, – я это прочел в протоколах Мирной конференции, видишь, я от тебя не скрываю своих источников. А это намерение равнозначно гарантии для судетских немцев подлинной национальной автономии. Ладно. Но потом этот господин полностью забывает о своих обязательствах и ставит над немцами чехов, которые за ними надзирают, их судят, ими управляют. Немцам это не нравится: это их естественное право. Тем более что я знаю чешских чиновников, я был в Чехословакии: ты не представляешь себе, какие они буквоеды! Так вот, им хотелось бы, чтобы Франция, как они утверждают, страна свободы, пролила свою кровь ради их бюрократического произвола над немецким населением, и теперь ты, преподаватель философии в лицее Пастера, собираешься провести свои последние молодые годы в десятифутовых траншеях между Битхе и Виссембургом. Теперь ты понимаешь, почему сейчас, когда ты мне сказал, что уезжаешь, смирившись, и что тебе наплевать, справедливая это война или нет, мне за тебя досадно.
Матье с недоумением смотрел на брата; он думал: «Национальная автономия, никогда бы не додумался». Он все же для очистки совести сказал:
– Они хотят не национальной автономии: судеты уже требуют присоединения к Германии.
Жак страдальчески скривился:
– Пожалуйста, Матье, не говори, как мой консьерж, не называй их судетами. Судеты – это горы. Скажи: судетские немцы, или, если хочешь, просто немцы. Ну и что? Они хотят присоединиться к Германии? Но это наверняка потому, что их довели до предела. Если бы им сразу дали то, чего они просили, всего бы этого не случилось. Но Бенеш юлил, лукавил, потому что наши шишки внушили ему, будто у него за спиной Франция: и вот результат.
Он с грустью посмотрел на Матье.
– Все это, – сказал он, – я бы еще мог перенести, ибо давно уже знаю, чего стоят политики. Но когда ты, разумный человек с университетским образованием, настолько теряешь элементарное чутье, что утверждаешь, будто идешь на эту бойню потому, что не можешь иначе, этого я перенести не могу. Старик, если таких, как ты, много, Франция пропала.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Пожалуйста, говорите по-немецки (нем.).
2
Свинячья морда! (нем.)
3
Сторонники «революционного пацифизма»; лидер – Марсо Пивер.
4
МИД Франции.
5
Тоже (лат.).
6
Знаменитый дуэт кинокомиков.
7
Печатный орган крайне правых во Франции, основан в 1930 году, его публикации следовали нацистской пропаганде.