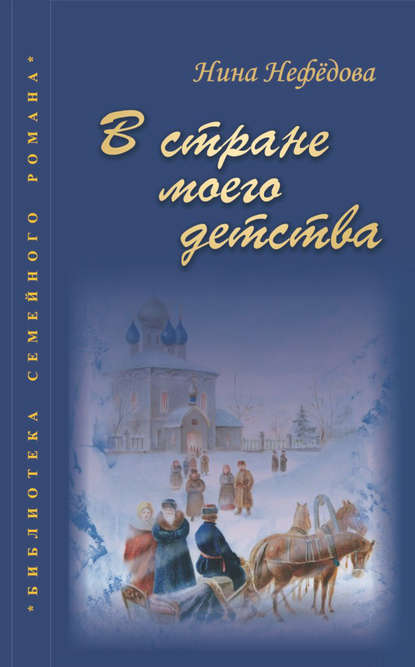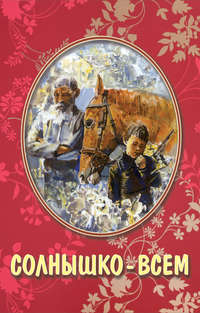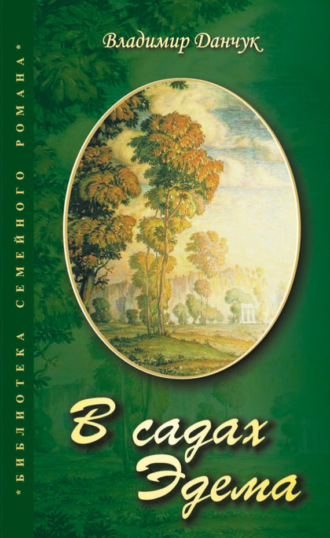
Полная версия
В садах Эдема
Вообще, мы с Володею чем глубже погружаемся в семейную жизнь, тем более, кажется, понимаем монашествующих. Вот бы с этим нынешним опытом да вернуться лет на 5 назад. Но… вряд ли что переменилось бы. Есть судьба и есть единственный путь. Всё можно победить смирением, а его-то и нет. Так глубоко гордость коренится в моём многогрешном сердце.
…наш отесинька принёс из библиотеки старинный том Жуковского, и там мы нашли стихотворение про Жаворонка, нам всем известное, но, оказывается, без последней строфы:
Здесь так легко мне, так радушно,Так беспредельно, так воздушно!Весь Божий мир здесь вижу я,И славит Бога песнь моя!…Когда мы получили ваше письмо и прочитали вслух, то Лизанька сказала: „Милая Леночка, что ж ты не едешь ко мне?” Целуем вас. Ждём писем и в гости.
P. S. Милая Танечка, у меня к тебе просьба – если увидишь в аптеке перцовый пластырь, купи, пожалуйста, штук десять».
13.10.84Я уволился из дворников; вчера получил окончательный расчёт. Все эти месяцы я работал один на своём участке, не сталкиваясь не только с начальством, но и с коллегами по работе; в контору заглядывал только за получкою. Начальник пару раз ловил меня в коридоре и выговаривал за то, что я не бываю на утренних «летучках». Все дворники… точнее, «дворничихи» (сплошь – одни женщины) каждый рабочий день часов в восемь, в девятом собираются в «красном уголке» во главе с начальником участка и обсуждают производственные проблемы. В первый день, не зная границ возможного, я тоже, уже убравшись на своём участке, пришёл на это заседание и около часа выслушивал «бабий крик»: того не хватает, этого нет, квартир не дают, а очередь уже прошла… Я вышел «покурить» и исчез. Когда через пару недель начальник прижал меня в углу, я спросил его, доволен ли он тем, как я работаю. «Ну… да. Бригадир говорит, что работаешь старательно…»
– И что ещё нужно?
– Надо ходить на «летучки».
– Извините, мне это не нужно. Да и вам, по-моему, тоже… Шум и гам, больше ничего.
В таком духе мы перепирались минут десять, пока его не отозвали. Я давно заметил, чем проще и трезвее аргументы, тем беспомощней любая демагогия, и широко этим пользуюсь. Мы ещё несколько раз сталкивались с ним по этому поводу, но вот на днях он сказал мне, что «бригада требует моего присутствия на летучке» – мол, у них ко мне какие-то претензии. «Ладно, – сказал я, – приду, раз такое дело». Ничего хорошего я не ждал. При редких, мимоходом, встречах с коллегами по утрам, когда я шёл с работы, а они расходились из конторы по участкам, они заговаривали иногда со мной игривыми женскими голосами, я так же легкомысленно отшучивался и считал, что все ко мне прекрасно относятся, пока однажды женщина с соседнего участка, часто меня выручавшая по мелочам, не сказала мне: «Смотри, Володя… Наши тебя невзлюбили…» Я был ошеломлён: с чего бы это? Она только пожала плечами.
Так что я был готов к холодному приёму. Правда, действительность всё же превзошла степень моей готовности. Я слегка оторопел от беспричинной злобы, с которой эти милые женщины выкрикивали мне какие-то бессмысленные обвинения, из них я уловил только одно конкретное: что я… не хожу на «летучки». Бред какой-то.
– Стоп! – сказал я. – Секундочку. У кого-то есть претензии к качеству моей работы?
– Нет, о работе никто не говорит… Участок убран, спору нет…
– Всё остальное я считаю несущественным. Но если вам не нравится сам стиль моей работы…
– Не нравится!.. Единоличник какой-то!..
– Тогда я ухожу.
Когда в кабинете начальника я писал заявление об уходе, он пробовал меня уговорить: мол, пошумят, погалдят и успокоятся. «Нет, – сказал я. – Слишком нервная обстановка, меня это не устраивает. У меня своих проблем хватает».
Уже с неделю идут настоящие осенние, затяжные дожди: зарядит с полуночи и льёт тихо до полудня. Четыре дня назад приехала Танечка с Леночкой; на следующий день после приезда я отвёз их к отцу Иоанну, там они и остались – увы. В эти как раз дни Лизанька и Олечка переболели жестокою простудою, и я поэтому потерял работу в храме: отработал день, и меня звали остаться в ночь – я приехал домой перекусить и попрощаться, но дома застал всё вверх дном и Олю на диване…
Иванушка съедает за один присест 350 грамм; выписанного питания не хватает, кормим простоквашею из рыночного молока – у Оли его почти совсем нет.
Лизанька уже сама одевается и пробует сама есть. Твердит мне: «Ига!..» – а я не понимаю:
– Игра, что ли?
Она сердится, хмурит бровки и совсем уже обижается, когда я пожимаю плечами:
– Ига!.. Разве можно иг’у кухать?
– Ах, еда! – догадываюсь я.
16.10.84С 15-го числа я числюсь в сторожах Покровского собора; сегодня вернулся с первого дежурства. Ехидный бригадир сторожей, с которым я повздорил ещё на Пасху, взял с меня расписку: мол, обязуюсь не читать книг в рабочее время. С пылу, с жару – и от неожиданности – я подписал эту глупость – дурацкий колпак гордости! – теперь морщусь от стыда и неестественности. Но – не читал.
А дело было так. Во время пасхальных дежурств всё свободное время, которого было немало, особенно по вечерам, я, разумеется, проводил за книгою, примостившись в любом более или менее подходящем уголке. Бригадир, наткнувшись на меня в первый раз, сразу заявил: «А читать нельзя!» Я искренне удивился:
– Почему?
– Мы на работе.
– И что надо делать?
Момент для своего замечания Васильич выбрал неудачно: мужики только что разлили по полстакана водки, и он со своим стаканом проходил мимо меня к закуске. Я от выпивки отказался и сидел в сторонке… Он замялся, оглядываясь, но на нас никто не смотрел, все шумели у стола.
– Ничего не делать. Все сидят, и ты сиди… Не пьёшь – твоё дело. Так сиди.
– Это глупо, – спокойно сказал я.
– Ишь, умник… Не сработаемся мы с тобой.
Я пожал плечами: не сработаемся – значит, не сработаемся. И сказал:
– Вам виднее.
Надо сказать, что к церковным служащим я, начав бывать на службах, относился с невольным благоговением. Мне нравились благообразные старики с аккуратными бородками, строго обходившие храм с тарелкою или просто мелькающие в толпе молящихся по своим таинственным делам. Я в них невольно видел людей, о которых читал в книгах: это – старина, это – остаток того, настоящего русского народа; не с нашей легковесною верою вставать в их ряды. И когда на всенощной к Покрову помощник старосты, Василий Андреевич (удивительно милая личность, у него даже во взгляде просто светится ум и заранее обещана ласка) подошёл ко мне и зазвал в конторку, я заволновался предчувствием.
– Вы где работаете?
– Только что уволился из дворников.
– К нам в сторожа не желаете?
– К вам?.. – кажется, я даже покраснел. Сказать «недостоин»? Уж слишком трафаретно. – Не знаю… Я курю.
– Вредная привычка… Ну, так как? Пойдёте в сторожа?
– Если подхожу… С радостью.
Правда, к этому времени я уже знал, что далеко не ангелы расхаживают по храму в синих халатах, за лето я частенько подрабатывал около церкви, но с суждениями не спешил, предпочитая оставаться при своём благоговейном заблуждении.
Вчера утром Василий Андреевич привёл меня в сторожку – шла пересменка – и сказал:
– Вот наш новый сторож – Володя… Будет вместо Юры. А это наш бригадир, Михаил Васильевич. Вы должны быть знакомы.
– Знакомы, знакомы… – пробурчал мой недоброжелатель, подавая мне руку.
И как только помощник старосты ушёл, он тут же начальническим тоном сказал:
– Пиши, студент, расписку – никаких книг на работе.
– А Евангелие?
– Не умничай.
Я усмехнулся, но на душе стало тяжело. Не из-за книг – из-за этой беспричинной враждебности. А всё равно – около храма (ведь даже мечтать не смели).
С Танечкой и Леночкой мы встретились в субботу на всенощной. Оля с тревогой заметила, что Танечка плохо себя чувствует – оказывается, простыла. Мы увезли их к нам, и Олечка принялась за лечение… Они прожили у нас два дня, Танечка ожила, и вчера вечером к нам приехали в гости о. Иоанн с матушкою и увезли наших гостий снова к себе. Леночка и Лизанька в эти дни были предоставлены самим себе и баловались с утра до вечера.
Бабушка несёт Лизаньку к окну – постоять на подоконнике (в плохую погоду это – любимое развлечение: поглазеть на улицу). Но Лизин взгляд падает на иконы.
– Вок, Богоодица на кибя смок’ит, – с упрёком говорит она бабушке и добавляет скорбно. – А ты Её не любих…
– Почему не люблю? – оправдывается бабушка. – Я Её просто не признаю.
Обедаем. Лиза сползает со своего стула, тащит его к холодильнику и снова вскарабкивается на него.
– Ты куда это, Лизанька? – спрашиваю я.
– Сейчас, сейчас… – торопливо отвечает она и, уцепившись за край дверцы, тянется на цыпочках.
– А-а! – говорит разочарованно, – эко лук! А я-ко гумала, кук шко-нибуг такое…
– Какое?
– Такое! С’аденькое!
Капризничает, надула губки:
– А почиму так мало?
– Лиза! – с упрёком говорит Олечка. – Как тебе не стыдно!
– А кибе бо-ольхэ… – уже плача, отвечает Лизанька.
– Ну, так что ж, что больше? Я же больше тебя.
– Га-а… ма-ало!
– Какая нехорошая, жадная девочка! – в сердцах говорит маминька.
– Не давай ей совсем ничего, – строго говорю я.
Лизанька недоверчиво, сквозь слёзы, смотрит на меня. Я качаю головой:
– Словно ты не наша девочка…
С рыданием:
– Ваха!
19.10.84Позавчера к вечеру вдруг похолодало, поднялся ветер, закружила метель, и нынче Лизанька выходила погулять уже с лопаточкой – покопаться в снегу.
У Олечки окончательно пропало молоко.
Щёчки у Иванушки по-прежнему пылают диатезным румянцем и шершавы на ощуп – чешет он их отчаянно.
Вечером моих «именин» (утром я причащался) появился о. Иоанн – приятное завершение торжественного дня. Я угостил его венгерским вермутом (утром мне его подарила матушка). Провожал я батюшку в начинающуюся метель.
Звонил Маше: она печальна – Юра уехал вновь; на это раз не только уволился со всех своих работ, но и выписался. Прямо горе. И Катенька у них простыла, гриппует.
Написал письмо Чугунову – в Москву (они хотят приехать к нам на Казанскую):
«Жизнь наша беспорядочна по-прежнему; времени хватает только на самое необходимое; читаю и пишу урывками и украдкою. Размышляю, покоряюсь и тревожусь – то ли Богу угодно сие, дабы не развеличалось до небес моё высокоумие („таков, Фелица, я развратен”), то ли лень моя и мечтательность, давняя губительница, окрадывают, злорадуясь, дни мои, беспечные и праздные.
Редко покидаю дом без Лизаньки. То на молочную кухню, то в учреждение какое, то в библиотеку, то с визитом к знакомым – маленькая девочка топочет со мною, ухватясь за палец. Я привык к этому и уже скучаю и теряюсь без неё в толпе.
Вчера вечером шли с нею тёмною и пустынною улицей. Она всё лепетала, но вдруг сказала:
– А мне н’авится, кага тихо… – и замолчала. И мы долго шли, слыша только шуршание наших шагов.
– А я Бога слыху…
– Что? – наклонился я к ней.
– Я Бога слыху…
Как тут не затрепетать!
– Что же ты слышишь, Лизанька?
„Голос” ли, хотел я спросить, „пенье” ли? – но побоялся „навести” ответ.
– Бога, – по-прежнему отвечала она и добавила, помолчав, – как у Него там на небе…
Царевич наш Иванушка уже не только улыбается, но и смеётся – утробным, восхитительным хохотком. Играю с ним: мягкая его тяжесть, кисло-сладкий… не запах, а „дух” – всё будит во мне какую-то томительную жадность. А уж „заговорит” когда – не наслушаешься этих булькающих трелей. Уж мы привыкли к его алым, диатезным щёчкам, и он мне кажется совершенным в херувимской своей чистоте.
Читаю Шевырёва (труды по истории и теории литературы); кое-какие мемуары; Жуковского перечитал; на очереди, если Бог даст, Батюшков, переписка Карамзина и – давно желанный! – Самарин (кое-что я у него читал: второе поколение славянофилов, учён и набожен).
Храни вас Бог, милое семейство. В.»
После стирки мажу руки кремом. Лизанька протягивает ладошку, и я выдавливаю ей капельку.
– Не надо бы, Володя, – замечает Олечка (гладит бельё, но всё видит).
– Ишь ты, – говорю я сокрушённо, – попались… Не надо бы…
– Мы же часко (часто) не бугим, – успокаивает меня Лиза. – Иннага (иногда)! Детям же низя часко.
На кухне – стоит на стуле и пьёт, держа стакан обеими руками. Подходит бабушка и, как всегда, умильно:
– Лиза! Угости бабушку!
– Нек! – она даже отводит стакан в сторону. – Кибе низя! ты заазишься.
– Да я от милой моей Лизаньки никогда не заражусь.
– Почиму? – с любопытством.
– Ты же мне родная!
Лиза хмурит лобик, соображает, но сообразить не может, причём тут «родная» и «не заражусь». Переспрашивает:
– Почиму?
Бабушка пускается в длинное объяснение святости родства и родной крови, но Лизанька машет ручкой и перебивает её решительно:
– Нек! Дахэ если немнохко выпьех, мохно заазиться!
Заигралась одна (часто – в последнее время), перекладывая свои игрушки. Но вот слазит с дивана и подбегает ко мне. Дёргая меня за рукав и доверительно заглядывая в лицо, говорит озабоченно:
– Отесинька… Ты знаех, Моничка так беспокойно спик (спит)…
– Как? – изумляюсь я.
И она повторяет чисто, покачивая головой и вздыхая:
– Беспокойно…
– А что с нею?
– Не знаю п’ямо… – она складывает ручки на животе. – Она ухэ больхая девочка, она ухэ агна спик (одна спит)… И на висипеге (велосипеде) какается на гвух коёсов…
И смотрит на меня выжидающе.
– Болеет, наверное, – говорю я, откидываясь на спинку стула. – Полечить бы…
– Га! – её личико светлеет. – В бойницу!
И бежит обратно к дивану.
Поёт уже громко и верно – одна! – «Отче наш», «Богородицу», «Взбранной воеводе» (Леночка даже заплакала, когда услышала последнюю молитву из уст Лизаньки: «А я не умею!»).
– Я ищё много моликв знаю, – говорит.
24.10.84Наша переписка с Мишей прямо заходит в тупик; два дежурства подряд, две ночи в церковной сторожке я просидел над письмом к нему, перечитывая, переписывая, осторожничая в каждой фразе – он страшно обижен последними моими эпистолами, до того, что, кажется, уже не вникает в смысл моих инвектив. О моих замечаниях пишет:
«Не логической стройности ищу я – она смешна и ничтожна пред Богом, а хотя бы приблизительной возможности рассказать о чувствах».
Отвечаю: «Вот она, житейская шелуха слова – гляди, что вышло: ведь отказываясь от „логической стройности”, ты тем самым отказываешься и от той „приблизительной возможности”, какую, по скромности, уделяешь себе, от возможности вообще что-то рассказать. Как писатель, ты просто не имеешь права на такую чувствительную бессмыслицу. И если ничтожна логическая (т. е. словесная) стройность (космос), как чадо Логоса-Слова, то никак уж не перед Богом… Не имею сил писать об остальном, но печально, что не идеи, а недоразумения подают повод к нашим сшибкам. И я сам себе кажусь занудою, когда – уже в который раз! – принимаюсь отцеживать комаров из водянистой нашей переписки. Поэтому на многое не отвечаю – не могу себя понудить. Посуди сам – это всё-таки труд, а ты как его оценил? „В чистое небо, как в копеечку”! Да и одно дело – критические разборы, другое совсем – предлагать идеал; если первое часто совершается в тёмном предчувствии истины, то второе требует ума ясного и просвещённого. Такового – увы! – не имеем. Самое главное, что я хотел сказать тебе: будь осторожен и трезв при обращении с ходячими «истинами», их меткость чаще всего поверхностна и представляет собою коварную ловушку, в которой навсегда застревает неискушённый ум, разменивая талант на безделушки…»
Дочитал 4-й том Жуковского (ПСС в 12-ти томах – знаменитое «Литературное приложение» к не менее знаменитой «Ниве», изящному изделию изобретательного немца). Оказалось, многое помнится. Я ходил за Олечкою по пятам и читал ей вслух. Когда набредали на Щукинские песни, Оля пела, а я удивлялся, с какою достоверностью она умела передавать неповторимую интонацию Володиного исполнения:
Уже утомившийся деньСклонился в багряные воды,Темнеют лазурные своды,Прохладная стелется тень…Или:
Знать, солнышко утомлено:За горы прячется оно;Луч погашая за лучомИ алым тонким облачкомЗадёрнув лик усталый свой,Уйти готово на покой…Но это – Олино «любимое». Мне почему-то твердились другие стихи:
Отуманилася Ида;Омрачился Илион;Спит во мраке стан Атрида;На равнине битвы сон.Тихо всё… курясь, сверкаетПламень гаснущих костров,И протяжно окликаетСтража стражу близ шатров.Удивительна пластичность описания (не говоря уж о словесной музыке).
25.10.84Дожди – если не днём, так ночью – и грязь…
Иванушка – тяжёлый и мягкий – уже хватается руками за бутылочку и держится. Сильно отталкивается ножками, пытаясь стоять. Сегодня я уже водил его по краю дивана (как Лизаньку когда-то) – нет, пока не ходит; тянется в струнку, трепещет на вытянутых ручках, на цыпочках шагнёт и – подламывается в коленках. Часто, как завидит меня, улыбается.
Вчера укладывал Лизаньку, и она вдруг потянулась ко мне из кроватки – с опаскою, потому что я уже велел закрывать глазки:
– Отесинька… отесинька! Я хочу кибе чивоко сказать… Я кибя очень юблю…
Я наклонился и поцеловал её.
– Обними меня…
Мне послышалось «подними»:
– Куда тебя поднять?
– Обними… обними меня в кроватке… свою девочку!
На кухне, за столом, доверительно наклоняясь к «тёте Тане»:
– А знаехе (знаете), шко я вам хочу сказать? Шко кам, за холодийником, хывёк (живёт) комарик…
Говорит мне:
– Я кибя больхэ слухаюсь, больхэ маминьки.
– Почему? Потому что я строгий?
– Га! – и бежит к маминьке, крича с полдороги. – Маминька! маминька! Я отесиньку больхэ люблю, пакамухка он строгий!
Как удивительно и верно перепутались понятия: послушание и любовь!
Минуем детскую площадку:
– Шко-ко много мальчиков кук накопилось!
Едем в автобусе. У Лизаньки в руках игрушечный котёнок. Он «очень любопытный» и обо всём расспрашивает (моим голосом) свою маленькую хозяйку:
– А это что?
– Эко пвовода (провода).
– А зачем?
– Шкобы краллейбусы езгили.
– А там что?
Она сбивается со снисходительно взрослого тона:
– Не зьняю…
И я тоже на минуточку выхожу из роли:
– Лиза! Я же говорил тебе!
– Анкенна! – вспоминает она. – Кам Иванухка лежал в бойнице.
– Неужели один лежал?
– Нек, с маминькой.
– А мы?
– А мы ему обек (обед) носили.
– И он ел? – недоверчиво спрашиваю я.
– Га! – по инерции бодро отвечает она.
– Ел? Сам?
– Нек… – теряется она и тут же спохватывается. – Маминька ела!
– То-то же. А Иванушка?
– Нек…
– А он что ел?
– Кага прихол гамой, скал кухать хыдкости…
Теперь котёнок выспрашивает про жизнь Лизину:
– А какие игрушки ты берёшь с собой в ванну?
– Плывучих зверей мохно взять…
– Каких, например?
– Ну, гусь…
И оживляется:
– А вок сканция «Аврора»!
И, обращаясь к котёнку:
– Сканция от слова «осканавливаться».
По дороге домой я обронил кошелёк, меня окликнули. Поблагодарив, я поднял кошелёк. Идём дальше.
– А шко тибе кричали?
Хм, мне кричали «эй, парень». Как-то не солидно. И я говорю:
– Мне кричали: дядя, иди сюда!
– А почиму они тибе кричали «дядя»?
– А как же им кричать?
– «Отесинька!..» – говорит она убеждённо.
Я смеюсь:
– Это я для тебя «отесинька». А для них – кто?
– Дядя… – медленно и почему-то смущённо говорит Лиза и вдруг останавливается и, обняв мою ногу, прижимается ко мне.
Оля на всенощной, и Иванушку кормлю я:
– Эй, братец! Не хватай так бутылочку! Мешаешь.
Лизанька вмешивается:
– Я же в х’аме (в храме) не хвакаю конфеты.
Мне любопытно:
– А как?
– Беу (беру) с поклоном!
06.11.84Укладывая Лизаньку спать, кроватку я, по обыкновению, подкатил к столу и, наказав ей спать, занялся своими делами. Минут через пять вспоминаю: как там Лиза? Гляжу, а она, поймав мой взгляд, машет ручкою:
– Пихы, пихы (пиши)! Я зак’ою г’азки, зак’ою…
Дочитал «Невидимую брань» Никодима Святогорца (М.,1892, переиздана в Джорданвилле в 1966), но ни слова не успел записать. А книжка хоть и не столь увлекательна, но читалась с интересом – «техническим». И многое намеревался выписать.
Зато «Мелочи из запаса моей памяти» Дмитриева читал, не торопясь:
«Лучшее в старину было то, что образ жизни был простее (но эта простота была бы нам совершенным неудобством и лишением), что люди были радушнее и жизнь была дешевле. Мотовство было частное, но не было общего, т. е. роскоши. Воспитание детей почти ничего не стоило; впрочем, не многому и учились…»
Комары нас просто одолели; по вечерам устраиваем настоящие сражения… Лизанька, уже готовая ко сну, сидит на диване, следит за нашими прыжками; я повествую:
– …Комарики ведь такие невнимательные!
– Почему?
– Потому что в паутину попадают.
– Эко мухки попагаюк… (мушки попадают)… Эко мухки незамечательные…
– Не замечательные? Почему они не замечательные?
– Покамухко не замечаюк…
Оля:
– Как мне Иванушка понравился!
Лиза:
– А раньхэ не нравился?
– Лизанька, я варенье принёс! – возвещаю от двери.
– Какое? – слазит она с дивана.
– Малиновое.
– А от него зю бки не боляк?
Опять в кроватке – обнимает меня и зовёт Олю:
– Маминька!.. Смок’и, как я отесиньку поюбила!.. Гахэ (даже) отцепиться не могу!
Лизанька и бабушка пекут пироги и беседуют.
– Батюхка меня п’ичащает, покамухко я маминьку с’ухаюсь… – говорит Лизанька.
– Не больно ты её и слушаешь… – возражает бабушка.
– Мы – люди г’ехные, – сокрушённо отвечает Лизанька.
11.11.84Ночью выпал снег, но продержался только полдня. Я пришёл домой вчера вечером – четверо суток провёл в храме (усиленное дежурство); заплатили по 114 рублей. Подоходный налог с этой суммы будет взимать райфинотдел; с жалования отчисляет бухгалтер. «Держи деньги в кармане», – предупреждают коллеги (т. е. «наготове» – не сумеешь выплатить сразу, пойдут пени).
Вчера втроём ездили ко всенощной. Лизанька брала с собою розовую пластмассовую уточку, и на обратном пути эта уточка расспрашивала Лизаньку обо всём на свете. Я нахохотался, слушая её ответы…
– Ой, что это?
– А эко к’ан (кран). Он гом (дом) скоит (строит)…
– А как он строит?
– Поднимаек кийпичики и ск’адывает навейху…
Но прерывает лекцию и кричит, привставая с моих колен:
– А вон забой (забор)!
– А зачем забор?
– Шкобы астения не с’ывали!
Выходим из автобуса.
– А почиму хафёй (шофёр) похох на майчика?
– Молодой ещё.
– Ухэ дядя?
– Да, дядя. Уже работает.
Подумала немного и качает головой:
– А ицо (лицо) совсем как у майчика…
Записываю 1-й том «Истории поэзии» Шевырёва – книга, совершенно невозможная в наш век специализаций; впервые я знакомлюсь с таким широким, «цивилизационным», взглядом на словесное искусство человечества; и пусть этот взгляд «приблизителен» и не совсем верен во многих частностях, но такой точки обзора я не встречал в современной литературе. Похоже, что чисто светская словесность зародилась на юге Франции, в Провансе, и была разнесена труверами по всем европейским дворам. И там же столетиями кипел котёл ересей.
Взял «Записки» Тучкова (наткнулся в каталоге), но он оказался лишь однофамильцем Бородинского героя, жена которого создала Спасо-Бородинский монастырь.
16.11.84Оля записала:
«– Бабухка, ты такая говорунья!.. Всё говоих и говоих. А маминька такая сиёзная (серьёзная), всё молчит и молчит…
Это Лизанька сказала на кухне, сидя за ужином.
Как-то мы читали с нею книжку Л. Толстого «Рассказы о животных». Прослушав рассказ «Акула», Лизанька спросила:
– А шко с ней (т. е. с акулой) потом бугик?
– Ничего. Убили её, и всё.
– А потом она воскреснет?»
Читаю Самарина («Сочинения», т.1; М., 1900). Уже статьи по польскому вопросу придают этому тому неубывающий интерес (неужели и вправду царь и правительство его настолько не доверяли своему народу, благоволя и снисходя к панам и баронам? – мысль обидная, расхожая в современной историографии). Но с гораздо большим интересом я, разумеется, читал статьи литературные. Полемика с Белинским меня просто захватила. Я не поленился полистать корифея нашей критики. Картина поразительная… Оба правы. Славянофилам явно не хватало вкуса, важность и великость их идеи подавляли в них восприятие художественного; эстетические суждения славянофилов даже если и верны, то настолько общи, что неприменимы ни к какому конкретному примеру; даже в этом случае они верны – как мировоззрение, но ни как сочувствие прекрасному, ни как впечатление и созерцание. Оба – и Самарин, и Белинский – недостойно мелки в своих придирках к оппоненту. Но Самарин великолепно вскрывает картину непонимания современниками даже того первого чувства, что вообще породило интеллектуальное движение «славянофильства», а Белинский блестяще отстаивает право искусства быть вне любого «направления».