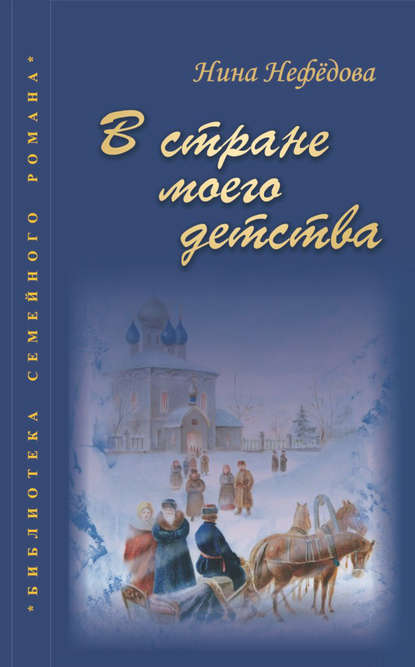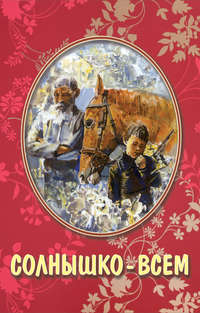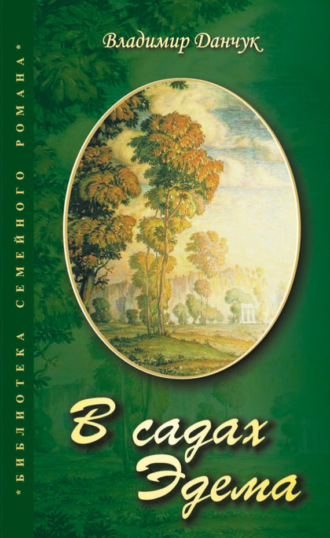
Полная версия
В садах Эдема

Владимир Данчук
В садах Эдема
«И насадил Господь Бог рай в Едеме…»
(Быт. 2, 8)По благословению архиепископа Самарского и Сызранского СЕРГИЯ
© В. И. Данчук
Предисловие
(От издателя)
Дорогой читатель!..
Так, по-старинному, хочется обратиться к тебе в преддверии открытой тобой книги. Обратиться на «ты», потому что ты не просто любопытным и посторонним человеком вошёл в незнакомый тебе дом, а «очутился вдруг», в качестве давнего знакомца, в тесном и шумном кругу… ну, скажем, не совсем обычного семейства, нисколько не смутив текущей там жизни. Здесь ты можешь не только прислушаться к детскому лепету малышей, полюбоваться их играми и забавами, но и поучаствовать в озабоченных диалогах родителей, заглянуть в их письма друзьям, откровенно рассказывающих о стремлениях и тревогах незаметно растущей семьи. Тебе, как почти родному человеку, не запрещено заглянуть даже в семейную спальню, где возле усталой «маминьки» копошатся, укладываясь, дети. Ты садишься где-нибудь в уголке или можешь примоститься на развороченном диване – и, не замечая тебя, дети продолжают игру, а взрослые занимаются своими делами. Ты можешь походить по комнате, переступая через рассыпанные игрушки, заглянуть через плечо склонившегося над своими записками «отесиньки», послушать лепет Лизаньки, сочинившей очередную историю про сказочную «девочку Сену». Не торопись уходить, любезный читатель, задержись, дорогой гость, засидись заполночь! Можешь даже вздремнуть, чтобы услышать детские голоса «сквозь сон», чтобы взглянуть на все эти неважные события как бы «внезапно проснувшись»…
В русской литературе понятие жанра постоянно расплывается: «роман-эпопея», «роман в стихах», «поэма» в прозе («Мёртвые души») – это хрестоматийные примеры. Но вот ещё оттенки отступлений: «журнал Печорина», «повести Белкина»… Умаление вымысла и возвышение действительности, воплощение слова и одушевление бытования необходимы для достоверности переживания. Жанровые границы при этом становятся субъективными, очень частными. Сцена перестаёт быть сценой, а игра – игрой, при некоторой тональности слова, переступающего условные границы жанра. Повести написаны не литератором Пушкиным, а просто частным лицом, рассказывающим поразившие его происшествия.
Это стремление уйти от жанра, оставаясь в его границах, нужно для того, чтобы разрушить стереотип читательского восприятия художественного текста. Художник, разрушающий жанр, и указывает своему читателю на свою задачу, вернее, сверхзадачу, которая должна, как закваска, замесить тесто художественного произведения. История Самсона Вырина занимательно рассказывается не для развлечения и даже не для «морали», а для чего-то другого. Для чего же? На этот вопрос, мне кажется, через несколько десятилетий ответил другой писатель, сказав, что цель художественного произведения – «унежить душу читателя».
И вот перед тобой, читатель, «просто книга», начинающаяся с детского лепета. И хотя этот лепет записан взрослым автором, но автором, умалившимся до лепета, не скучающего им, а любующимся каким-то бесконечным восхищением. Текст не ограничен классическими рамками какого-либо жанра, но всё же берега у него есть. Это перекликающиеся темы детства и культуры, но не в том смысле, в каком они воспринимаются современным слухом. Детское словотворчество и русская словесность оказываются в пространстве райского сада, или, точнее, они предстают автору (и, надеюсь, предстанут читателю) уголками райского сада, в котором Божие творение открывало Адаму свои сокровенные имена. Именование мира и раскрывающийся в своих глубинах мир русской классики оказываются явлениями одного порядка.
Что же роднит беспомощность младенческого лепета с магией художественного слова? Исток речи – с её полноводным течением? Можно ответить – её таинственное устье, тайна творческого слова. Это охранительная и питающая среда, источник природных и жизнетворческих сил, необходимых человеку на его пути. Как ни странно, но напоминание об этом оказывается актуальным в наше время – время «похуленного рождения» (Розанов) и стирания границ культуры, умаления её до социального феномена, который можно «развивать», «награждать» и «финансировать». Художественное слово, творящее и творимое в «проницающих лучах Откровения» – в этом направлении сосредоточено внимание автора, с любованием оглядывающего горизонты родной словесности.
Если обратить внимание на хронологию «событий» книги, не напрасно столь настойчиво предлагаемую автором – а это 80-е годы XX века – то мы увидим, что это время внешней несвободы для верующих в России. Но на страницах книги почти не чувствуется бремени этой несвободы, лишь в сценах посещения школы возникают приметы «лукавого» времени и тенью проходят образы «нового советского человека». Сама же книга полнится совсем иным, тем, что составляло внутреннюю жизнь человека во всю новую его историю – от Рождества Христова. «Личность стала центром но вой истории» (Розанов), и «после религии, после отношения к Богу… второю святынею становится семейный круг».
Розанов пишет: «Классическое „с ним или на нём”, которое обратила спартанка к рождённому от неё воину, не имеет никакого смысла <в новой истории – изд.>… и, напротив, получили смысл уединённые молитвы, которые неустанно шлются за сына, где бы он ни был, что бы ни сделал, как бы ни был осуждаем всеми и даже действительно дурен. Всё переменило характер от этого перемещения интересов человека… Всё ушло куда-то внутрь, за стены родного дома, к скрытому очагу, где человек живёт не наблюдаемый более никем, и откуда он выходит с лицом, осенённым светом, который никогда не согревал античного мира. Оттуда, из этой скрытой от всех, уединённой жизни выходит новая поэзия и новая философия, которая так много сказала человеческому сердцу и так многому научила человеческий ум».
Этот согревающий свет, о котором пишет Розанов, свет, наполняющий мир теплотою, исходит от первой заповеди, данной Богом человеку в раю и которую Христос вернул в историю – от заповеди «семейственности бытия»: «плодитесь и множьтесь, и наполняйте землю». Эта заповедь возводит человека в особую меру полноты бытия, удлиняющую и умудряющую взгляд его на все стороны человеческого жизнетворчества.
Один юный, но внимательный читатель этой книги так отозвался о ней: «Сейчас у веры и общества иные отношения, чем были во времена наших родителей. Может, это и хорошо в чем-то, даже во многом. Но для сегодняшней веры не всегда находится место для подвига. Конечно, и сегодня верующий чего-то лишается, в чем-то ущемляется, однако если со стороны, „с высоты птичьего полета” посмотреть на жизнь людей верующих и неверующих, то различие в большинстве случаев касается лишь внутренней жизни человека: далеко не всегда человек должен противопоставлять себя обществу. В те же времена необходимость выбора была очевидной: или ты атеист, или – христианин. Есть в этом что-то пленительное: укрыться в шалаше от всего мира Христа ради… Читая книгу, и сам погружаешься в эту атмосферу: „всё возможно верующему”, – и мерещатся уж серьезные дела веры: раз они (герои книги) смогли перешагнуть через социальные страхи, в некотором смысле преодолеть социальные законы, почему же другие не могут?..»
Читая эту «стенографию детства», вспомним и свою «зарю туманной юности». И, может быть, многие наши недоумения и проблемы разрешатся сами собою в свете божественного детского порыва, в котором смысл нашей жизни выражается не в умозаключениях и сентенциях, а в горячей исповеди детского сердца:
«Знаешь, как я люблю всех людей? Так, что хочу умереть за них!..»
Часть первая
02.12.83Погода переменилась 30-го вечером – потянул холодный ветерок с севера, слякотные дорожки подсохли на глазах, а лужицы начали затягиваться хрупким ледком. Наутро, 1-го, в день нашего отъезда из Нижнего Новгорода, даже подсыпало снежком. И в Самару мы нынче утром приехали в настоящую зиму: снег, – 7° и ветер.
Вечером нас навестила Маша – мы не виделись чуть ли не два года! Приехала – румяная, вся такая счастливая от радости встречи – и показалась мне удивительно юной…
Лизанька (2,5 года) была сегодня хороша, тиха и спокойна. Днём, пока Оля готовила на кухне, мы с нею играли: то кормили зверушек, то строили башни из кубиков:
– Смотри, Лизанька, какая у меня высокая!..
– Нек, нек! Ни как! (нет, не так)
И она нетерпеливым взмахом руки опрокидывает моё строение. Садится рядом:
– Вок! вок!.. (вот, вот)… А кук ыбка бугек зить… (а тут рыбка будет жить)
Ладно, пусть. Я строю другую башню. Кубиков не хватает.
– Отесинька, гай мине хок агин… (дай мне хоть один)… А ко не хвакаек (не хватает).
05.12.83Вчера были с Олечкою у ранней обедни, а за поздней причастили Лизаньку. Оказывается, мы соскучились по Покровскому храму. Вошли – как в родной дом после долгой разлуки. У Олечки блестели глаза от подступавших слёз:
– Как здесь хорошо!..
– Наш храм…
Сегодня втроём ходили в больницу: пятнышки у Лизаньки так и не сходят. Я сидел в коридоре, Оля с Лизой зашли к врачу… Доктором оказалась молодая и довольно вздорная женщина, напугавшая Олечку своей напористостью:
– Работаете?.. Нет?.. Из-за ребёнка?.. Отдайте в садик! ребёнок должен среди людей отираться!.. Мой с полутора лет в сад ходит, только на выходные домой беру – так обратно просится!
– Обидно, должно быть… – робко заметила Оля.
– Вот ещё! До смерти рада!
Вечером, уже перед сном, нёс Лизаньку к иконам и по дороге нечаянно запел: «Ходит Дрёма возле дома…» Лизанька испуганно крутнулась у меня на руках, обняла меня за шею и прижалась.
– Что ты, Лизанька? – остановился я в удивлении.
– Кам Г’ёма хогик… (там Дрёма ходит)… С’ыхих?.. (слышишь?)… Не хаги куга… (не ходи туда)…
– Куда не ходить, душа моя?
Она не посмела показать рукою направление, только глазки скашивала на окна:
– Куга… (туда)
И уже перед самым сном, после купания: Оля – важным шёпотом:
– Вот ползёт черепашка… А где же маленькая девочка?
Лиза торопливо натягивает на себя плед:
– Кук!.. (тут)
– «Кук»! – смеёмся мы с Олечкою, и Лизанька недоверчиво улыбается в ответ – не понимая причины нашего веселья.
Вместо прежнего «акобись» (автобус) стала говорить «апкобись». Фонетика явно становится разнообразнее.
07.12.83Вчерашний день провели дома, сегодня собираюсь ехать в библиотеку. Олечка хоть и хлопочет по дому, но как-то с ленцой. Часто спит вместе с Лизанькой. Боюсь, как бы она не заболела. Раньше к ней только таким путём возвращалось душевное напряжение. Впрочем, спаси, Господи, и помилуй.
Раз, поиграв с Лизанькою, мы с Олечкою поднялись вдруг и одновременно пошли из комнаты (не помню – зачем), и вслед нам раздался бунтующий вскрик:
– Ни бугу анна!.. (не буду одна)
А вчера утром попросила у меня просфорку.
– А где же они, просфорочки, Лизанька?
– Игём, – поманила она ручкою и подбежала к книжным полкам. – Вон! В касивой банке!..
И, сунув палец в рот, повторила с удовольствием:
– В касивой банке!
Прыгала в кроватке и вдруг остановилась (мы с Олею сидели на софе):
– Мама, а почиму в эком гоме неку кофейника? (в этом доме нет кофейника?)
Это – память о деревне…
Я запускал ей волчок (вчера купили), а она что-то восторженно кричала. Я не сразу разобрал:
– Как ванкияка!.. (как вентилятор)
08.12.83Вчера, во второй половине дня, и сегодня с утра был в библиотеке. Взял на свой номер три тома Хомякова, и первый том – чуть ли не в 800 страниц! Что тут я успею? надо ведь и на работу устраиваться… Но и завтра с утра поеду в библиотеку: помимо Хомякова, хочу заглянуть в Шильдера и Дюкре-Дюмениля полистать (Августа Лафонтена решил оставить «на потом» – «роман во вкусе Лафонтена»).
С Лизанькой произошла небольшая метаморфоза: до сих пор нам никак не удавалось покатать её на санках. Проедет метров 20 и уже кричит недовольно. Решительно слазит, пыхтя, зацепляет варежкой верёвочку и тащит санки сама. А тут дня два назад мы гуляли вечером (втроём), и Лизанька, как всегда, сама тащила санки («хоть не бери!»). Мы с Олею шли позади – разумеется, черепашьим шагом.
– Иди-ка ты, Олечка, вперёд, – решил я, – а мы уж там подъедем.
Оля побежала в магазины, а мы с Лизанькою тем же траурным маршем потащились за нею.
– Ах, Лиза! – не выдержал я. – Давай-ка я тебя прокачу, а?.. Хочешь, тебя Ивушка повезёт?
Эта «Ивушка» была счастливой находкой: Лизанька тут же полезла в санки и, не успев ещё сесть, уже кричала:
– Но!
И я помчался… Увы, маленькая девочка вошла во вкус – настолько, что вообще не хотела слазить с санок, даже замерзать стала. Но – сидит, понукает и просит:
– Биськей! (быстрей)
Сегодня тоже вдоволь погоняла меня, пока самой не надоело:
– Сё. Нагуяась… Пайгём гамой.
Проходили мы с нею через больничный пустырь, и она вспомнила (через полгода):
– А кук отесинька абокаек… (работает)
Но чаще вспоминает «Хахиньку» (Сашеньку) и «Еночку» (Леночку) и «сеый гомик».
– Что за серый домик, Лизанька?
– Ну, нах!.. (наш)… В насей дивене… (в нашей деревне)
10.12.83Мы с Олечкою завтракаем на кухне, Лиза играет в бабушкиной комнате. Бабушка, любуясь маленькой девочкой, громко и умилённо спрашивает:
– Ну, а щи Лизанька любит? а картошечку любит?
В ответ задышала, заторопилась Лизанька:
– Какохочку низя юбить… какохочку низя… юдей нага… нага юдей юбить… какохочку низя…
Но бабушка ничего не понимает, она плохо различает Лизин говорок, и, со счастливой улыбкой глядя на встревоженное лицо Лизаньки, продолжает своё умилённо-восторженное перечисление блюд:
– А кашку? кашку Лизанька любит?..
Из Пушкина выписал (всё кажется – это о нас и для нас):
Воды глубокиеПлавно текут.Люди премудрыеТихо живут.Это 35-ый год, а в следующем:
Забыв и рощу и свободу,Невольный чижик надо мнойЗерно клюёт и брызжет воду,И песней тешится живой.12.12.83Вчера причащались, исповедовал о. Иоанн. Сегодня утром ходил в РСУ – обещали взять (грузчиком), но просили позвонить через неделю. Потом гулял с Лизанькою – едва ли не более двух часов, но она так разыгралась, что всё равно не хотела идти домой. Зато спала потом часа три.
Одеваемся гулять. Лиза шалит, не даётся. Олечка:
– Не вертись же, Лизанька!.. Что за девочка! ну, что за девочка!.. Ты только погляди, отесинька: разве это девочка? Это же обезьянка.
Я незаметно стучу в стену:
– Тук-тук! А вот и дядя идёт, дядя с мешком. Идёт и спрашивает: «Где тут у вас обезьянки? Есть ли у вас обезьянки? Дайте-ка мне одну…»
Лиза затихает, слушает. Маминька пользуется этим и быстро одевает её, приговаривая:
– Уходи, дядя! Нет у нас обезьянки! У нас – послушная девочка Лизанька.
– Га, – с опаскою подтверждает Лиза.
– Ну, вот и уходи, дядя. Нет у нас обезьянки.
– У нась бываюк обизянки, – оживляется вдруг Лизанька, с лукавой улыбкой посматривая по сторонам, и расставляет ручки, – но всё авно неку…
Мы с Олечкою пьём чай на кухне, Лизанька заигралась в нашей комнате. Вдруг бежит к нам – личико испуганное.
– Что такое? Что случилось?
– Кам Г’ёма…
– Дрёма?
Да, за окном уже синеют сумерки.
– Ещё рано для Дрёмы, Лизанька…
И чтобы она не боялась, я пошёл с нею и положил на подоконник конфетку. Лизанька выглянула из-за меня, увидела конфетку, вскрикнула и восхитилась – вся. Но тут же сказала:
– А мне низя…
И, путаясь, объяснила, что ей можно есть конфетки только «пе-ед абегом» (перед обедом) – спуталась, видимо, от спешки и волнения.
Спрашивает у Оли:
– А потиму кы мою бабухку зовёх маминькой?
Обижается:
– Кага я ни бугу с вами г’узить!
Сравнивает:
– А маминька исё мехне (меньше), а я исё высокей…
Утешает себя:
– Ну и скофф!.. ну и скось!.. (ну и что ж)
Из книжки архиепископа Вениамина о преп. Серафиме (Париж, 1932) выписал удивительно практичный совет:
«В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми очами, с внутренним вниманием; открывать же очи – разве тогда, когда уныешь, или сон будет отягощать тебя и склонять к дреманию; тогда очи должно обращать на образ или на горящую пред ним свечу».
И так мудро сказано о настроении:
«Весёлость – не грех, матушка: она отгоняет усталость; а от усталости уныние бывает, и хуже его нет».
Из беседы с Мотовиловым (касаясь проблемы поистине головоломной):
«Не с такою силою, как в народе Божием, но проявление Духа Божияго действовало и в язычниках, не ведавших Бога Истиннаго, потому что и из их среды Бог находил избранных Себе людей. Таковы, например, были девственницы-пророчицы, сивиллы, которые обрекали себя на девство хотя для Бога неведомого… Также и философы языческие, которые хотя и во тьме неведения Божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, не непричастны Духу Божиему…»
13.12.83Хомяков – о послепетровской эпохе: «Тёмное чувство этой невидимой и в то же время ещё неосознанной опасности /то есть с чуждым просвещением принять и чужой дух – В. Д./ удаляло от нового просвещения множество людей и целые сословия, для которых оно могло бы быть доступно, и это удаление, которое спасло нас от полного разрыва со всею нашею историческою жизнью, мы можем и должны признавать за особенное счастье».
Это вполне моя мысль; я знаю, что она отдаёт «обскурантизмом», что это «счастье» обернулось для страны замедленностью экономического роста и отсталостью в просвещении, но я считаю, что трезвому взгляду надо видеть в исторических явлениях неизбежную их двойственность – любые приобретения оплачиваются потерями, зачастую невозвратимыми. Благо «просвещения» принесло людям безверие и мелкость душ, зло «крепостного права» триста лет хранило живительную теплоту крестьянского (христианского) мира, а блага «научно-технической революции» всё решительнее отнимают у человека естественную среду обитания. И так далее. У Хомякова и славянофилов было гораздо меньше поводов придти к такой мысли, чем у нас, и меня восхищает их прозорливость. Это – озарение.
«Россия приняла в своё великое лоно много разных племён… но имя, бытие и значение получила она от Русского народа (т. е. человека Великой, Малой, Белой Руси). Остальные должны с ним слиться вполне: разумные, если поймут эту необходимость; великие, если соединяться с этою великою личностью; ничтожные, если вздумают удерживать свою мелкую самобытность. Русское просвещение – жизнь России».
Подумать только, что в «николаевскую эпоху» можно было высказывать такие вещи, которые в наш просвещённый и гуманный век не только писать, но и читать опасно… Францию Хомяков называет страною в высшей степени «антихудожественною» – а ведь он не мог знать, что извращение искусства, порча таланта «на корню» зародится именно в этой стране.
О «русском просвещении» он дальше пишет, что это вера – «вера православная».
И по поводу Аксакова: «Нежность души не имеет ничего общего с изнеженностью; она принадлежит энергии, как истинная грация не существует без внутренней силы».
Чудо – как хорошо!
15.12.83Десятый час, а Лиза уже спит – редкий случай…
Каждый день бываю в библиотеке – обыкновенно с утра, часа на четыре; во второй половине дня – прогулки и домашние дела. Сегодня вечером ходили в гости к Татьяне Ивановне. Она «церковница» – крупная, но очень подвижная женщина, с большим круглым, простецким лицом. К нам приглядывается с живым любопытством: то ли не верит своим глазам (такие молодые и – верующие?), то ли «не может наглядеться». Она вхожа к владыке и в Покровском храме как будто пользуется известным авторитетом. Познакомились мы с нею по дороге: живёт она в наших краях, и как-то мы сошли на нашей остановке с одного трамвая… Время от времени она испытующе говорит:
– Надо вам сходить к владыке…
– Зачем? – пожимаю я плечами.
– Познакомиться! – многозначительно говорит она.
– Да неловко как-то. Всё-таки владыка – человек занятой… Вон, к нему со всей епархии едут со своими заботами и печалями… А мы – «познакомиться»!
На мои отговорки она обычно отвечает укорительным взглядом, но аргументов не находит.
Лизанька перевязывает куклу ленточкой:
– Смоки («смотри»! – хотя, пожалуй, она уже говорит не просто «смоки», а уже подыскивается под истинное звучание: «смок’и»), как я завинува (завернула)! Как я жёсько зак’епила (закрепила)!
Разглядывает патриарха Пимена – на церковном календаре, что висит у нас над столом.
– Это патриарх, Лизанька. Самый главный батюшка…
– Самый гамный батюхка, – с уважением повторяет она, – и в с’япе (в шляпе)…
– Это – митра.
– Ско (что)? – переводит она на меня свои чистые глазки.
Морщась, я полощу рот водкой (зуб болит).
– А ки тё деваешь? (а ты что делаешь?)
– Лечусь, Лизанька.
Смотрит внимательно и вдруг смеётся:
– А помних, отесинька, ви вино пии? (вы вино пили)
– Где? когда?
– Кам, в дивене… (там, в деревне)
И, скроив гримаску, хихикает:
– Хи-хи!
Обедаем; Лиза уже соскользнула с колен маминьки – нашла себе занятие с пустыми бутылками (всё стоят на кухне, не умеем сбыть, а Оля чуть ли не ежедневно покупает минеральную воду).
– Смок’и, – показывает, поднимая, тёмно-зелёную бутылку, – понная букивка (полная бутылка).
А она пустая.
17.12.83На номере в библиотеке у меня лежат «Богословские труды» Хомякова, но я углядел в каталоге книгу Самарина «Иезуиты и их отношения к России» (М., 1870 – третье издание за четыре года; издал всё тот же Пётр Бартенев, редактор «Русского Архива», основанного им по мысли Хомякова) и не утерпел – прочитал залпом, в два приёма.
Кратко: впервые иезуиты явились к нам в свите Самозванца (не считая Поссевина, который сразу же отметился у нас предательством), с ним же и были изгнаны; потом прибыли в свите послов Немецкого императора и недолго благоденствовали под покровительством тогдашнего «прогрессиста» – князя Василия Голицына (прогрессисты и либералы удивительно последовательны в своём стремлении нанести хоть какой-нибудь вред своей нелюбимой родине). По просьбе патриарха Иоакима в 1688 году их выпроводили за Литовский рубеж за счёт казны; в спешке отцы-иезуиты оставили московитам свою любовную переписку. В третий раз пробрались при Петре, но тоже ненадолго – были высланы в 1720 году. При Екатерине II иезуиты были приобретены Россиею вместе с Белоруссией (1772 г.), но были поставлены под строгий надзор:
«Судьба послала Екатерине даровитого и вполне сознательного сотрудника в лице литовского дворянина, впоследствии архи епископа, а ещё позднее митрополита Сестринцевича, в продолжении полустолетия управлявшего всею Латинскою церковью в пределах России.
На этом поприще он был для Екатерины тем самым, чем были при ней Суворов и Румянцев по военной части, Потёмкин по делам восточной политики, Бецкий по общественному призрению и воспитанию, князь Вяземский и Безбородко по делам внутреннего и гражданского законодательства».
При Павле, выхлопотавшем у папы восстановление ордена в пределах России, иезуит Грубер добился ссылки Сестринцевича. Но в 1820 году их самих попросили вон.
«Я не принадлежу к безусловным поклонникам Александровской эпохи, но я отдаю справедливость людям того времени. При всей шаткости их понятий и неустойчивости их направления, они не терпели притворства, не мирились с обманом и ненавидели подлость; чувство чести и гражданской честности было в них живо и сильно развито. Это именно чувство и заговорило против иезуитов. Оно не вынесло их воровских приёмов».
О существе этих приёмов Самарин пишет с богословской точностью:
«В душе каждого человека таится более или менее сознательное поползновение убаюкать свою совесть, подкупить её или спрятаться от её докучливых обличений за каким-нибудь благовидным предлогом. Это поползновение хуже всякого прямого влечения ко злу, потому что ослабляет и стремится подрезать в самом корне всякое живое противодействие злу, начиная с внутреннего смысла различения добра от зла.
Иезуиты угадали, в покушениях человека на чуткость его собственной совести и в уклонениях его от строгих её требований, присутствие страшной силы, способной сделаться превосходным орудием для порабощения чужой воли. Они изучили эту силу во всех её проявлениях, овладели ею и на ней, как на незыблемой, всегда присущей человеку психической основе, вывели стройное здание своего учения и своей организации».
В магазине «Дружба» купил и уже прочитал любопытную книжечку – «Das Niebelungenlied», прозаическое переложение. Считают, что «Песнь» была написана около 1200 г. неизвестным поэтом на материале раннего бургундского эпоса (поражает жажда мести и хладнокровность резни).