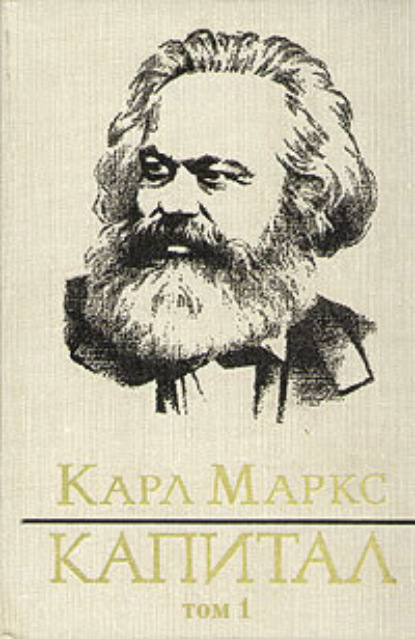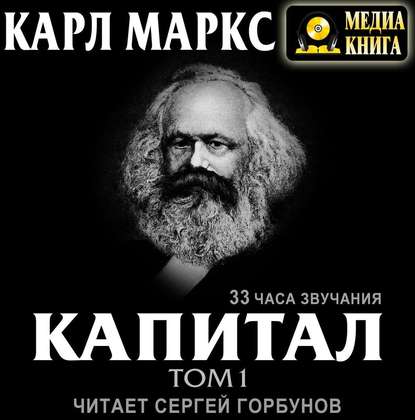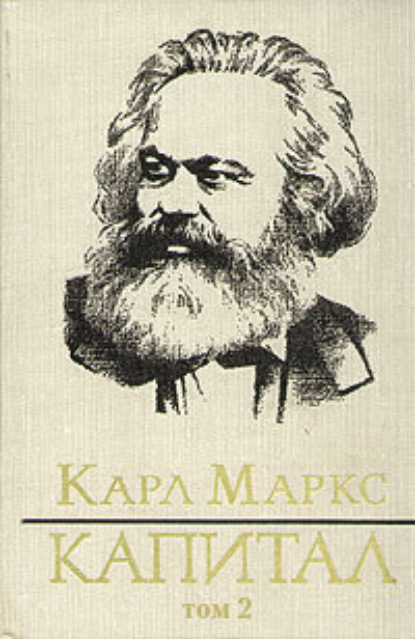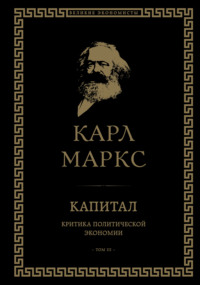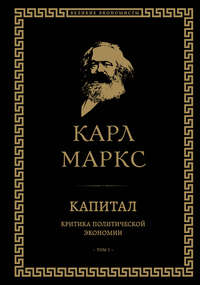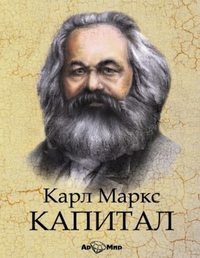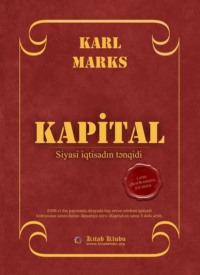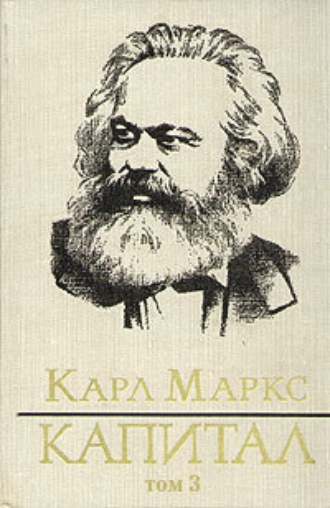 полная версия
полная версияКапитал. Том третий
37
Эти строки заключены в скобки, потому что, представляя собой переделку замечания из оригинала рукописи, они всё же в некоторой части изложения выходят за пределы материала, содержащегося в оригинале. – Ф. Э.
38
Чтобы иметь основание для классификации купеческого капитала как производительного капитала, Рамсей отождествляет его с транспортной промышленностью и называет торговлю «the transport of commodities from one place to another» [ «транспортировкой товаров из одного места в другое»] («An Essay on the Distribution of Wealth» (Edinburgh, 1836], p. 19). Такое же отождествление встречается уже у Верри («Meditazione sulla Economia Politica» [в издании Custodi: «Scrittori Classici Italiani di Economia Politica». Parte moderna, t. XV, p. 32], § 4) и Сэя («Traité d'Économie Politique» [t. I, Paris, 1817, p. 14–15]). В своих «Elements of Political Economy» (Andover and New York, 1835) С. Ф. Ньюмен говорит: «При существующем экономическом устройстве общества тот акт, который совершает купец, стоящий между производителем и потребителем, авансируя первому капитал, получая в обмен за него продукты и передавая эти самые продукты последнему, причём он получает обратно капитал, – этот акт есть сделка, облегчающая экономический процесс общества и присоединяющая стоимость к продукту, с которым совершён этот акт» (стр. 174). Таким образом благодаря посредничеству купца производитель и потребитель сберегают деньги и время. Выполнение такой услуги требует авансирования капитала и труда и должно быть оплачено, «потому что это присоединяет стоимость к продуктам, так как те же самые продукты имеют бо́льшую стоимость в руках потребителя, чем в руках производителя». И таким образом торговля кажется ему совершенно так же, как г-ну Сэю, «strictly an act of production» [ «в буквальном смысле слова актом производства»] (стр. 175). Этот взгляд Ньюмена совершенно ошибочен. Потребительная стоимость товара в руках потребителя больше, чем в руках производителя, потому что она вообще только здесь реализуется. Ведь потребительная стоимость товара реализуется, начинает выполнять свою функцию лишь после того, как товар перешёл в сферу потребления. В руках производителя она существует лишь в потенциальной форме. Но один и тот же товар не оплачивают дважды: сначала его меновую стоимость, а затем ещё, кроме того, его потребительную стоимость. Оплачивая его меновую стоимость, я тем самым присваиваю его потребительную стоимость. И от того, что товар переходит из рук производителя или посредника в руки потребителя, не происходит ни малейшего прироста меновой стоимости.
39
John Bellers [Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations, and Immorality. London, 1699, p. 10].
40
Насколько оправдалось впоследствии это предвидение участи торгового пролетариата, данное в 1865 г., об этом могут порассказать сотни немецких приказчиков, которые, будучи весьма сведущи во всех торговых операциях и владея 3–4 языками, тщетно предлагают свои услуги в лондонском Сити по 25 шилл. в неделю, – значительно ниже оплаты квалифицированного слесаря. Пропуск в рукописи, занимающий две страницы, показывает, что предполагалось подробнее развить этот пункт. Впрочем, можно указать на «Капитал», кн. II, гл. VI («Издержки обращения»), стр. 105–113 [см. К. Маркс. Капитал, том II, глава VI. М., 1969, стр. 153–161], где Маркс уже коснулся многого из того, что относится сюда. – Ф. Э.
41
«Согласно общему правилу, прибыль всегда одинакова, какова бы ни была цена; она держится на одной отметке, как плавающее тело при колебаниях волны. Поэтому, когда цены повышаются, торговец повышает цены, когда цены понижаются, торговец понижает цены» (Corbet. «An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals». London, 1841, p. 20). – Здесь, как и вообще в тексте, речь идёт лишь об обычной торговле, а не о спекуляции, изучение которой, как и вообще всё относящееся к классификации торгового капитала, выходит из круга нашего исследования. «Торговая прибыль есть стоимость, присоединяемая к капиталу, независимо от цены; вторая» (спекуляция) «основана на изменении стоимости капитала или самой цены» (там же, стр. 128).
42
Вот одно очень наивное, но вместе с тем совершенно правильное замечание: «Поэтому в основе того обстоятельства, что один и тот же товар можно получить у различных продавцов по существенно различным ценам, несомненно очень часто лежит неправильная калькуляция» (Feller und Odermann. «Das Ganze der Kaufmannischen Arithmetik». 7. Auflage, 1859 [S. 451]). Это показывает, как определение цен становится чисто теоретическим, т. е. абстрактным.
43
Карл Маркс. «К критике политической экономии». Берлин, 1859, стр. 27 [см. К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, том 13, стр. 36–37].
44
«Уже вследствие большого разнообразия монет как в отношении их веса и пробы, так и в отношении чеканки их многими князьями и городами, имеющими право на это, возникла повсеместная необходимость пользоваться местной монетой в тех случаях, когда в торговых делах требовалось свести счета в какой-нибудь одной монете. Купцы, отправляясь на какой-нибудь из иностранных рынков, для расчётов наличными запасались слитками чистого серебра, а также, конечно, и золота. Точно так же отправляясь в обратный путь, они обменивали полученные ими местные монеты на слитки серебра или золота. Поэтому меняльное дело, обмен слитков благородных металлов на местные монеты и обратно, стало очень распространённым и выгодным делом» (Hüllmann. «Städtewesen des Mittelalters». Erster Theil. Bonn, 1826, S. 437, 438). «De Wisselbank [обменный банк] получил своё название не… от wissel (векселя], не от вексельной расписки, а от wisselen van geldspeciën [обменивать различные разновидности денег]. Задолго до учреждения Амстердамского обменного банка в 1609 г. в нидерландских торговых городах были менялы, меняльные лавки, даже обменные банки… Занятие этих менял состояло в том, что они обменивали различные иностранные монеты, привозимые в страну иностранными купцами, на ходячую монету. Мало-помалу круг их деятельности расширялся… они сделались кассирами и банкирами. Но в соединении профессий кассира и менялы власти Амстердама усмотрели опасность, и, чтобы предупредить эту опасность, было решено основать крупное учреждение, которое заменяло бы как менял, так и кассиров и действовало бы открыто, согласно уставу, Таким учреждением и был знаменитый Амстердамский обменный банк 1609 года. Совершенно так же возникли обменные банки в Венеции, Генуе, Стокгольме, Гамбурге вследствие постоянной потребности в обмене денежных знаков. Из всех этих банков существует ещё и теперь один только Гамбургский, так как этот торговый город, где не чеканится собственной монеты, ещё и теперь нуждается в подобном учреждении» и т. д. (S. Vissering. «Handboek van Praktische Staathuishoudkunde». Amsterdam, 1860–1861, I, biz. 247–248).
45
«Институт кассиров, быть может, нигде не сохранил в таком чистом виде своего первоначального, самостоятельного характера, как в нидерландских торговых городах (о происхождении института кассиров в Амстердаме см. E. Luzac. „Holland's rijkdom“. Leyden, 1782, dl. III). Их функции отчасти совпадают с функциями старого Амстердамского обменного банка. Кассир получает от купцов, пользующихся его услугами, известную сумму денег и открывает им на эту сумму „кредит“ в своих книгах; затем они посылают ему свои долговые требования, по которым он получает для них деньги и кредитует их на соответствующую сумму; напротив, он производит платежи по их распоряжениям (kassier briefjes), записывая соответствующую сумму на их текущий счёт. С этих поступлений и уплат он отчисляет себе незначительный процент за комиссию, который образует достаточное вознаграждение за его труд только благодаря значительности оборотов, совершаемых при его посредстве между двумя сторонами… Если требуется покрыть платежи двух купцов, причём обоих обслуживает один и тот же кассир, то такие платежи покрываются чрезвычайно просто благодаря параллельным счетам в книгах, так как кассиры изо дня в день балансируют их взаимные требования. Итак, занятие кассиров заключается собственно в этом опосредствовании платежей; следовательно, оно исключает промышленное предпринимательство, спекуляции и открытие бланко-кредитов; потому что здесь должно оставаться правилом, что кассир за того, кому он открыл счёт в своих книгах, не производит никаких платежей, превышающих размеры его имущества» (Vissering, цит. соч., стр. 244). О кассовых союзах в Венеции: «Вследствие потребности и географического положения Венеции, где перемещение наличных денег затруднительнее, чем в других местах, оптовые торговцы этого города… стали учреждать кассовые союзы при условии надлежащей безопасности, контроля и управления; члены такого союза вносили в него известные суммы, на которые они давали распоряжения своим кредиторам, причём в заведённой для того книге уплаченная сумма списывалась со счёта должника и прибавлялась к сумме, которую имел там же кредитор. Это первые зачатки так называемых жиро-банков. Эти союзы имеют большую давность. Но когда их происхождение относят к XII веку, то их смешивают с основанным в 1171 г. учреждением для государственных займов» (Hüllmann, цит. соч., стр. 453–454).
46
Мудрый Рошер додумался {390}, что если некоторые характеризуют торговлю как «посредничество» между производителями и потребителями, то с таким же успехом «можно» характеризовать самое производство как «посредничество» потребления (между кем?), из чего, конечно, следует, что торговый капитал есть часть производительного капитала подобно земледельческому и промышленному капиталам. Следовательно, если можно сказать, что человек может обеспечивать своё потребление только через производство (а он должен это делать, даже если не получил образования в Лейпциге) или что для присвоения благ природы необходим труд (что можно назвать «посредничеством»), то из этого, конечно, следует, что общественное «посредничество», вытекающее из специфической общественной формы производства, – потому что оно посредничество, – имеет характер столь же абсолютной необходимости, имеет такой же ранг. Слово «посредничество» решает всё. Впрочем, ведь купцы не посредники между производителями и потребителями (потребителей в отличие от производителей, потребителей, которые не производят, мы пока оставляем в стороне), а посредники при обмене продуктов этих производителей между собой, они лишь промежуточные лица при этом обмене, который в тысяче случаев совершается и без них.
47
Г-н В. Киссельбах («Der Gang des Welthandels im Mittelalter», 1860) действительно всё ещё живёт представлениями того мира, в котором купеческий капитал есть форма капитала вообще. О капитале в современном смысле он не имеет ни малейшего представления, как и г-н Моммзен, который в своей «Römische Geschichte» говорит о «капитале» и о господстве капитала. В новейшей английской истории собственно торговое сословие и торговые города также являются политически реакционными и выступают в союзе с земельной и финансовой аристократией против промышленного капитала. Сравните, например, политическую роль Ливерпуля с ролью Манчестера и Бирмингема. Полное господство промышленного капитала признано английским купеческим капиталом и финансовой аристократией (moneyed interest) лишь со времени отмены хлебных пошлин {391} и т. д.
48
«Жители торговых городов вывозили из более богатых стран утончённые товары мануфактурного производства и драгоценные предметы роскоши и таким образом давали пищу тщеславию крупных землевладельцев, которые с жадностью покупали эти товары и оплачивали их огромными количествами сырого продукта своих земель. Таким образом, в это время торговля значительной части Европы состояла главным образом в обмене сырого продукта одной страны на готовые изделия страны, более передовой в промышленном отношении… Когда же употребление этих изделий стало настолько общераспространённым, что вызвало значительный спрос на них, купцы, чтобы сэкономить издержки по перевозке, пытались основать производство подобного рода товаров у себя на родине» (A. Smith. [ «Wealth of Nations». Vol. I, London, 1776] Book III, ch. III [p. 489, 490]).
49
«Теперь купцы очень жалуются на дворян или на разбойников, на то, что им приходится торговать с большой опасностью, и, кроме того, их захватывают, избивают, облагают поборами и грабят. Но если бы купцы претерпевали это ради справедливости, то, конечно, они были бы святыми людьми… Но так как сами купцы творят столь великое беззаконие и противохристианское воровство и разбой но всему миру и даже по отношению друг к другу, то нет ничего удивительного в том, что бог делает так, что столь большое имущество, неправедно приобретённое, снова утрачивается или подвергается разграблению, а их самих вдобавок ещё избивают или захватывают в плен… А князьям подобает надлежащей властью наказывать за столь неправедную торговлю и принимать меры, чтобы купцы не обдирали так бессовестно их подданных. Но так как князья этого не делают, то бог посылает рыцарей и разбойников и через них наказывает купцов за беззаконие, и они должны быть его дьяволами, подобно тому как он мучит дьяволами или губит врагами землю Египетскую и весь мир. Так он бьёт одного злодея другим, давая этим понять, что купцы – не меньшие разбойники, чем рыцари, ибо купцы ежедневно грабят весь мир, тогда как рыцарь в течение года ограбит раз или два, одного или двух». «Исполняется пророчество Исайи: князья твои стали сообщниками воров. Ибо они вешают воров, укравших гульден или полгульдена, и действуют заодно с теми, которые грабят весь мир и воруют с большей безопасностью, чем все другие, как бы для того, чтобы оставалась верной поговорка: крупные воры вешают мелких воров, и, как говорил римский сенатор Катон, мелкие воры сидят в тюрьмах и закованы в цепи, а крупные воры щеголяют в золоте и шелках. Что же в конце концов скажет об этом бог? Он сделает так, как он говорил устами Иезекиили: князей и купцов, одного вора с другим, он сплавит вместе, как свинец и медь, как это бывает, когда сгорел город, чтобы не было больше ни князей, ни купцов» (Martin Luther. «Von Kauffshandlung und Wucher», 1524 {392}).
50
Какое важное значение для развития Голландии, кроме других обстоятельств, имел такой базис, как её рыболовство, мануфактура, и земледелие, это показали уже писатели XVIII столетия. См., например, Масси {393}. В противоположность прежним взглядам, когда размеры и значение азиатской, античной и средневековой
51
Если история какого-либо народа и представляет ряд неудачных и действительно нелепых (на практике гнусных) экономических экспериментов, так это – хозяйничанье англичан в Индии. В Бенгалии они создали карикатуру крупной английской земельной собственности; в Юго-Восточной Индии – карикатуру парцеллярной собственности; на северо-западе они превратили, поскольку это зависело от них, индийскую экономическую общину с общинной земельной собственностью в карикатуру её самой.
52
Эта основа также начинает изменяться с тех пор, как Россия стала предпринимать крайне судорожные усилия, чтобы развить собственное капиталистическое производство, рассчитанное исключительно на внутренний и на соседний азиатский рынки. – Ф. Э.
53
То же самое относится к рейнскому ленточному и тесёмочному производству и к шёлкоткачеству. Близ Крефельда была даже построена особая железная дорога для сношения этих сельских ручных ткачей с городскими «фабрикантами», но впоследствии механическое ткачество обрекло её вместе с ручными ткачами на бездействие. – Ф. Э.
54
С 1865 г. эта система развилась в ещё большем масштабе. Подробности о ней см. «First Report of the Select Committee of the House of Lords on the Sweating System». London, 1888. – Ф. Э.
55
Здесь можно было бы процитировать несколько мест, в которых экономисты так именно и понимают дело. – «Вы» (Английский банк) «являетесь очень крупными торговцами товаром капитал?» – такой вопрос при опросе свидетелей в связи с отчётом по банковскому законодательству (палата общин, 1857) был задан одному из директоров этого Банка. [ «Report on Bank Acts», 1857, р. 104].
56
«То обстоятельство, что человек, берущий деньги взаймы с целью извлечь из них прибыль, должен отдать часть прибыли кредитору, является само собой разумеющимся принципом естественной справедливости» (Gilbart. «The History and Principles of Banking». London, 1834, p. 163).
57
Поэтому, если рассуждать по Прудону, «дом», «деньги» и т. д. ссужаются не как «капитал», а отчуждаются как «товар… по себестоимости» (стр. 43–44). Лютер стоял несколько выше Прудона. Он уже знал, что получение прибыли не зависит от формы ссуды или покупки: «Из торговли тоже делают ростовщичество. Но для одного раза это уже слишком много. Сейчас мы будем говорить только об одном – о ростовщичестве при ссудах. После того как мы с ним разделаемся, мы воздадим по заслугам (в ближайшее время) также и торговому ростовщичеству» (М. Luther. «An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen. Vermanung». Wittemberg, 1540
58
«Правомерность взимания процента зависит не от того, получает ли заёмщик прибыль с занятых им денег или нет, а от того, могут ли эти деньги принести прибыль, если им дать правильное применение». («An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest; wherein the Sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that Head, are considered». London, 1750, p. 49. Автор этого анонимного сочинения – Дж. Масси.)
59
[Там же, стр. 49.] «Богатые люди, вместо того чтобы самим применять свои деньги… ссужают их другим, чтобы те производили с их помощью прибыль и некоторую часть этой прибыли предоставляли владельцам денег» (там же, стр. 23–24)
60
«Выражение стоимость (value) в применении к currency [средствам обращения] имеет три значения… 2) currency actually in hand [средства обращения, фактически находящиеся в руках] в отличие от той же суммы currency, которая должна поступить в один из последующих дней. Кроме того, их стоимость измеряется ставкой процента, а ставка процента определяется отношением между всем капиталом, даваемым в ссуду, и спросом на него» (Полковник R. Torrens. «On the Operation of the Bank Charter Act of 1844 etc.». 2nd ed. [London], 1847 [p. 5, 6]).
61
«Неопределённость термина стоимость денег, или средств обращения, который в одинаковой мере употребляется как с целью обозначения меновой стоимости товаров, так и потребительной стоимости капитала, является постоянным источником путаницы» (Tooke. «Inquiry into the Currency Principle», p. 77). – Но Тук не замечает главной путаницы (лежащей в самом существе дела), заключающейся в том, что стоимость как таковая (процент) становится потребительной стоимостью капитала.
62
«Естественная норма процента определяется прибылью отдельных предприятий» (Massie, цит. соч., стр. 51).
63
В рукописи здесь находится следующая пометка: «В ходе изложения настоящей главы выясняется, что будет всё же лучше, прежде чем исследовать законы распределения прибыли, сначала показать, каким образом количественное деление становится качественным. Чтобы перейти к этому от изложения предыдущей главы, не требуется ничего иного, как представить процент сначала в виде некоторой части прибыли, не определяя этой части точнее». [Ф. Э.]
64
«В первый период, следующий непосредственно после периода угнетения, денег достаточно, спекуляции нет; во второй период денег достаточно, и спекуляция процветает; в третий период спекуляция начинает ослабевать, и люди ищут деньги; в четвёртый период деньги редки, и наступает угнетение» (Gilbart. «A Practical Treatise on Banking». 5nd ed., vol. 1, London, 1849, p. 149).
65
Тук объясняет это «накоплением дополнительного капитала, необходимо сопровождающим недостаток выгодного применения его в прежние годы, высвобождением денежных запасов и возрождением надежд на процветание торговли» («History of Prices from 1839 to 1847». London, 1848, p. 54).
66
«Один банкир отказался дать своему старому клиенту ссуду под залог ценных бумаг стоимостью в 200 000 фунтов стерлингов. Когда этот клиент намеревался уже уйти и заявить о прекращении платежей, банкир сказал ему, что он может этого не делать при том условии, если продаст банкиру свои бумаги за 150 000 фунтов стерлингов» ([H. Roy.] «Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844». London, 1864, р. 80).
67
Так как ставка процента в общем определяется средней нормой прибыли, то очень часто с низкой ставкой процента могут быть связаны чрезвычайные спекулятивные махинации, как, например, железнодорожные спекуляции летом 1844 года. Учётная ставка Английского банка была повышена до 3 % лишь 16 октября 1844 года.
68
Так, например, Дж. Опдайк в работе «A Treatise on Political Economy». New York, 1851 делает в высшем степени неудачную попытку объяснить всеобщность ставки процента в 5 % действием вечных законов. Несравненно наивнее рассуждает Карл Арнд в работе «Die Naturgemasse Volkswirthschaft, gegenüber dem Monopoliengeiste und dem Communismus etc.». Hanau, 1845. Здесь можно прочесть следующее: «В ходе естественного созидания материальных благ наблюдается только одно явление, которое – во вполне цивилизованных странах – до известной степени как бы призвано регулировать ставку процента: это – то отношение, в котором масса древесины европейских лесов увеличивается вследствие ежегодного прироста. Прирост этот происходит совершенно независимо от их меновой стоимости» (сколь комично говорить о деревьях, что они регулируют свой прирост независимо от их меновой стоимости!) «в пропорции от 3 до 4 на сотню. Поэтому» (т. е. потому, что, сколько бы меновая стоимость деревьев ни зависела от их прироста, прирост этот происходит независимо от их меновой стоимости!) «нельзя ожидать падения ставки процента ниже того уровня, на котором она находится ныне в самых богатых деньгами странах» (стр. 124–125). Это заслуживает названия: «ставка процента, вырастающая в лесу», а её изобретатель как «философ собачьего налога» {394} снискал себе благодаря этому произведению новые заслуги перед «нашей наукой».
69
Английский банк повышает и понижает свою учётную ставку, смотря по тому, приливает или отливает золото, хотя, конечно, им всегда принимается во внимание ставка, господствующая на свободном рынке. «Благодаря этому игра на учётную ставку в ожидании её изменений сделалась теперь одним из главных занятий крупных капиталистов денежного центра», – т. е. лондонского денежного рынка ([H. Roy.] «The Theory of the Exchanges etc.», p. 113).
70
«Цена товаров колеблется постоянно; все они предназначены для различного рода потребления; деньги же служат для всякой цели. Товары, даже одного и того же рода, различаются по качеству; наличные деньги обладают всегда одинаковой стоимостью или должны обладать таковой. Отсюда следует, что цена денег, обозначаемая словом „процент“, обладает бо́льшим постоянством и равномерностью, чем цена всякого другого предмета» (J. Steuart. «Recherche des principes de l'économie politique». Paris, 1789, IV, p. 27).
71
«Однако это правило деления прибыли применимо не к каждому отдельному заимодавцу и заёмщику, а только к заимодавцам и заёмщикам вообще… Исключительно большие и исключительно малые прибыли являются соответственно наградой за предприимчивость и расплатой за непредусмотрительность, до которых заимодавцам нет решительно никакого дела; ибо подобно тому как эти последние не несут убытка от указанной непредусмотрительности, так они не должны пользоваться выгодой и от указанной предприимчивости. И то, что здесь сказано об отдельных людях в одной и той же отрасли торговли или промышленности, верно и в применении к отдельным отраслям торговли или промышленности. Если купцы и промышленники, занятые в какой-либо отрасли промышленности, получают при помощи взятого в ссуду капитала больше, чем обычную прибыль, которую производят другие купцы и промышленники в той же самой стране, то экстраординарная прибыль принадлежит им, хотя бы для получения её требовались лишь обычная предприимчивость и предусмотрительность, а не принадлежит заимодавцам, ссудившим деньги… заимодавцы не ссудили бы своих денег какому-нибудь промышленному или торговому предприятию на более льготных условиях, чем обычная норма процента, поэтому они не должны получать больше этого, какова бы ни была прибыль, полученная при помощи их денег» (Massie, цит. соч., стр. 50, 51).