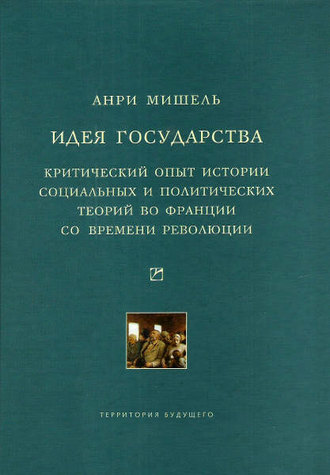
Полная версия
Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции
Политика является простым следствием такой морали. «Общественный договор, законодательство и правительство», в сущности, не имеют иной цели, кроме насаждения добродетели[44], которая состоит в том, чтобы «добиваться личного счастья, основанного на благе ближнего»[45].
Подобно своим друзьям из Энциклопедии, Гольбах считает «народ» источником всякой законной власти[46], но формы правления его не интересуют. Все они «совершенно безразличны», если только хорошие законы одинаково обязательны для правителей и для подданных[47]. Основным благом для всякого является свобода трудиться для своего счастья, и все другие блага недостижимы без него[48]. Но эта свобода не предполагает «пресловутого равенства сограждан». Гольбах с презрением обрушивается на «эту химеру, перед которой благоговеют в демократических государствах»[49]. Общее благо требует, чтобы каждого почитали и вознаграждали пропорционально той пользе, которую он приносит государству. Этим и объясняется выдающаяся роль правителя. Он должен понимать только, что его интересы сливаются с интересами подданных. Задача политики – объединить интересы правителей и народа[50].
Таким образом, равенства не существует: власть должна находиться в руках лиц, «наиболее способных вести общество к счастью»[51]. Государь – «движущая сила»[52], увлекающая государство к намеченной цели. Для этого государь должен пользоваться значительной властью, так как из всех причин, влияющих на намерения людей, «наиболее заметно влияет правительство»[53]. Разве мы не видим, как оно изменяет «и природу, и самый климат»? Впрочем, правительство вдохновляется общественным мнением[54]. Последнее намечает путь, по которому правительство, благодаря присущей ему импульсивности, увлекает потом весь народ.
Общественное мнение, сильное правительство, руководимое им, и, наконец, послушный народ, позволяющий руководить собою, так как он знает, что ему выберут кратчайший путь к счастью, – вот вся политическая система Гольбаха. Философы зажигают светоч, который указывает путь человечеству, правители несут этот светоч перед народами. Работая для нации, они вместе с тем работают на самих себя. Распространяя, например, просвещение, они тем самым обеспечивают себе «деятельных, преданных и рассудительных» подданных[55].
Если мы хотим найти народ счастливый, благодаря учреждениям, в которых политика тесно связана с моралью, народ, государственный строй которого вполне соответствует только что начертанному идеалу и заслуживает подражания европейских правительств, нужно отправиться в Китай[56]. Там мы найдем образец, архетип. Неужели после этого, нельзя еще утверждать, что Гольбах написал кодекс просвещенного деспотизма?
III. ФИЗИОКРАТЫ
В физиократах обыкновенно видят предшественников современных экономистов; и это не совсем ошибочно, потому что главнейшие из них находились в сношениях с Адамом Смитом и пустили в оборот знаменитую формулу: Laissez faire, laissez passer. Но теории физиократов принадлежат политической науке во всяком случае не менее, чем науке экономической. Когда Дюпон де Немур, последний по времени представитель школы, заметит, что Ж.-Б. Сэй ограничивает, даже строже Адама Смита, содержание политической экономии изучением богатства народов, он будет протестовать во имя своих учителей. Политическая экономия, скажет он, «есть наука о естественном праве, в должном приложении его к цивилизованным обществам». Или политическая экономия – «наука о просвещенной справедливости во всех социальных отношениях, как внутренних, так и внешних»[57]. Точно так же понимали эту науку Кене (одно из главных произведений которого – Трактат о естественном праве), Мерсье де ла Ривьер и Бодо.
В то время, как большинство их современников примыкает к Монтескье или Руссо, критикуя вместе с первым деспотизм и восхваляя умеренное правление или отстаивая вместе со вторым, теорию договора и народного верховенства, физиократы нападают и на Руссо и на Монтескье.
Они не желают разделения властей и системы противовесов, потому что в этом сложном способе упорядочения социального строя видят признаки «глухой и непрерывной войны». Вследствие какого-то странного заблуждения Монтескье принял это состояние войны за «жизнь культурных государств»[58]. Они не хотят признавать и прирожденного права каждого на все – права, впоследствии ограниченного договором. Они говорят: эта идея не только бесплодна по своей абстрактности[59] (подобные выражения следует отметить, так как они свидетельствуют о существовании связи между современным позитивизмом и физиократами; мы увидим потом, кто был посредником), но и ошибочна по существу. Общество совсем не ограничивает прав своих членов, чтобы лучше обеспечить осуществление их, а напротив, расширяет сферу этих прав, обеспечивая вместе с тем пользование ими[60]. Это не мимоходом брошенный взгляд, которому не придают важности; напротив, физиократы понимают все его значение[61]. Точно так же они обнаруживают скрытую под оболочкой теории общественного договора гипотезу состояния первобытной войны[62] и отмечают родство Руссо и Гоббса в этом отношении.
Если основательно разобраться в этой критике взглядов Монтескье и Руссо, можно заметить, что она покоится на одном и том же основании. Монтескье, подобно Руссо, предполагал, что на заре общественных отношений господствует война. Своей теорией политической свободы Монтескье продолжает эту войну до бесконечности, хотя в смягченной форме; Руссо полагает ей предел теорией общественного договора. Постулатом физиократов, напротив того, служит существование «естественного социального строя», «порядка, справедливого по существу»[63] – настоящей предустановленной гармонии между интересами всех, великих и малых, правящих и управляемых.
У Монтескье и Руссо, продолжают физиократы, социальное устройство, законодательство, зависит от воли человека[64]. По отношению к Монтескье этот упрек может показаться весьма странным. Однако Дюпон де Немур, отголосок своих учителей, упрекает Монтескье именно за то, что по его теории принципы правления, законы меняются сообразно с обстоятельствами времени и среды. По мнению физиократов, «сущность общественного порядка» «настолько же всеобща, насколько естественна». Она заключает в себе основные законы, которыми держатся все общества, и никакое общество не может уклониться от нее, «не перестав быть обществом»[65]. Точно так же человек не создает законов, «выражающих сущность общественного порядка», он только «вносит» их в общественную среду. Поэтому-то на человеческом языке вносящий законы называется законодателем (législateur), а не законосоздателем (légisfacteur); собрание же внесенных законов – законодательством (législation), а не законосозданием (légisfaction). Заметьте себе эти формулы и эти этимологические аргументы: точно такие же встречаются у теократов, являющихся теми самыми посредниками между физиократами и позитивистами, о которых мы только что упоминали[66].
До сих пор мы отмечали у физиократов только критику взглядов Монтескье и Руссо. Но они не ограничиваются критикой, а догматизируют, и делают это оригинально.
Человеческое общество, на их взгляд, управляется физическими законами, подобными тем, которые мы наблюдаем у муравьев, пчел и бобров[67]. Естественное право, которым так дорожит человек, представляет лишь вид и как бы случайное проявление универсального порядка[68]. Общественные учреждения, которые человек выдает за лучший образчик своего творчества, являются продуктом естественной необходимости, а не человеческого искусства. Эта необходимость требует возникновения сильной власти, которая могла бы обеспечить индивидуумам пользование всеми выгодами, связанными с социальной жизнью. Из этих выгод на первом месте стоит право собственности[69]; затем согласно знаменитой формуле физиократов, которая в данном случае находит свое настоящее место на втором плане, вместо того, чтобы подчинять себе все остальное, идет свобода торговли и обмена, laissez faire, laissez passer. Одним словом, метафизический принцип «сущности общественного порядка» влечет за собой в политике «легальный деспотизм». Гольбах восхвалял Китай, Бодо в пример хорошо управляемых стран равным образом ставит Китай и Древний Египет[70]. На Китай же будет ссылаться Дюпон де Немур, а кроме того, на Россию царствования Екатерины II[71]. Впрочем, пример этому подал Кене[72].
Возможно, что физиократы руководились корыстной мыслью и льстили абсолютизму для того, чтобы добиться осуществления своих реформаторских проектов; во всяком случае, теория «легального деспотизма» представляет кульминационный пункт их доктрины.
«Верховная воля» должна быть «единоличной»[73]. Ей одной принадлежит право «вносить законы»[74]. Но верховная воля не должна быть капризной, и легальный деспотизм не имеет ничего общего с «произволом». Он опирается не на рабство людей, а на их разум, «культуру»[75], он желает повелевать посредством «обращения к очевидности». Таков, например, авторитет Эвклида в математике. «Эвклид – настоящий деспот, и геометрические истины, преподанные им, настоящие деспотические законы. Их легальный деспотизм и личный деспотизм этого законодателя держатся одинаково лишь на силе очевидности»[76].
Распространение просвещения, которого физиократы требуют столь настойчиво[77] и которому они первые придали такое большое значение, является лишь выводом из этого принципа. Действительно, противодействие невежды представляет, быть может, единственный камень преткновения для легального деспотизма. Просвещая умы, последний их завоевывает. Таким образом, наиболее либеральные взгляды физиократов, взгляды на народное просвещение и на свободу обмена, если взять их в целой системе, связаны с апологией абсолютизма. Подобно Гольбаху, энциклопедистам и Вольтеру, физиократы провозглашают такой строй, который считается с гуманностью и ее правами; но, подобно им же, они возлагают заботы о нем на государя.
О политических правах физиократы хлопочут не больше Вольтера или Гольбаха. Положение людей должно улучшиться, хотя огромному большинству придется только давать свое согласие на это улучшение после того, как их глаза откроются для очевидности, и они поймут превосходство этого режима над политической свободой.
IV. АНАЛОГИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ЮМ, ВОЛЬФ
Поток идей, увлекающий физиократов, энциклопедистов и Вольтера, пробегает не только по Франции, но и по всей Европе. Иногда он идет из Франции: это можно сказать относительно итальянцев Беккарии и Филанджери, которые, подобно эхо, только отражают французские идеи; иногда же он возникает самостоятельно – это мы наблюдаем у Лейбница и Вольтера, а также у Юма.
В политических идеях Юм чрезвычайно сходится с Вольтером: тот же скептицизм, то же приноравливание к обстоятельствам, то же благоприятное отношение к развитию абсолютной власти.
Хотя в одном из своих Опытов Юм написал, что политика допускает аксиомы и может сделаться наукой, но это одно из тех мимоходом брошенных указаний, каких у него много. Приводимые им примеры не достаточно убедительны[78]. Политическая система Юма, однако, является более обработанной и более стройной, чем система Вольтера; она берет начало в морали философа, а по своим выводам примыкает к его уже критической психологии.
Справедливость – не что иное, как форма пользы – вот положение, которое связывает политику и мораль Юма. С другой стороны, теория Локка о правительстве имеет тот недостаток, что уничтожает обычаи, практикующиеся повсюду, за исключением одной Англии, не признает мнений, принятых издавна. Какая же после этого вероятность, что она справедлива? Не следует воображать, прибавляет Юм, что можно делать открытия в подобных вопросах. «Только очень поздно додумались основать правительство на договоре, и одно это уже доказывает, что оно на нем не основано»[79]. Вот где связь политики Юма с его психологией. Подобно тому, как последняя выводит идею причинности из умственной привычки, первая ставит обычай единственным прочным фундаментом гражданского строя. Юм полагает, что в политике «древность мнения служит показателем истинности»[80]. Таким образом, форма учреждений сильно зависит от случая. Юм не высказывается по этому поводу с полной определенностью, но везде у него можно заметить, что он отдает предпочтение такому режиму, при котором сильная власть служит великим интересам человечества[81]. И по справедливому заключению одного историка английской мысли XVIII века, его можно назвать «сторонником просвещенного деспотизма на французский лад»[82].
Та же тенденция у Лейбница, идеалом которого, по словам одного немецкого критика, было правление Фридриха II[83], и у Вольфа, который обсуждал эти вопросы методичнее и полнее своего учителя.
Правда, Вольф часто ссылается на естественное право и таким образом как будто протягивает руку Руссо. Но Гольцендорф вполне основательно заметил, что у Вольфа идея естественного права не имеет, как у Руссо, революционного характера. Причина этого кроется в том, что для Вольфа обязанность предшествует праву. Человек должен «пользоваться правами сообразно со своими обязанностями»[84]. В таком виде естественное право меняет свой характер, и неудивительно, что наш автор делает из него опору для власти государя.
Государство имеет целью поддерживать свое существование в настоящем и будущем, заботиться о своем благоденствии; этой цели обязаны своим происхождением те права, которыми оно обладает по отношению к частным лицам[85]. Каким бы образом ни была передана одной династии власть, искони принадлежавшая народу, высшим законом государства служит общественное благо. И в абсолютной монархии, и в монархии ограниченной «народ всегда имел это в виду»[86]. И тот, кому власть передана, «пользуется по той же самой причине всеми правами, без которых нельзя осуществлять ее для достижения общественного блага»[87].
Главы, посвященные способу управления государством, заключают в себе крайне мелочные наставления. Государь должен «заботиться о том, чтобы имелось в изобилии все необходимое для жизни»[88], и о «преуспеянии всего, что может улучшить участь граждан»; он должен следить за тем, чтобы не было праздных и чтобы всякий, желающий работать, находил работу; чтобы «каждый мог своими заботами и трудами приобретать себе, по крайней мере, необходимое». Для этого государство должно назначать нормальную цену труда, изделий и съестных припасов, регулировать число лиц в различных профессиях[89], пещись о здоровье подданных, запрещая продажу вредных пищевых продуктов и напитков, наблюдать за изготовлением лекарств в аптеках и т. д. [90], наконец, оно должно «принимать меры против обременения подданных чрезмерной разрушающей здоровье работой». Государство должно также заботиться о бедных и о религии[91]. Оно определяет все, даже «научные, артистические и другие» призвания[92].
Книгу Вольфа следовало бы назвать уже не кодексом, как книгу барона Гольбаха, а скорее руководством, или vade mecum, просвещенного деспотизма, если бы это название по всей справедливости не принадлежало Политическим учреждениям Бильфельда. Чтобы уяснить себе дух произведения Бильфельда, достаточно будет напомнить, что в перечне благ, пользование которыми, по мнению автора, государь должен обеспечить подданным, свобода печати помещена между параграфом, относящимся к наказанию за самоуправство, и параграфом, относящимся к мерам предосторожности против заразительных эпидемических болезней[93].
V. УСТОЙЧИВОСТЬ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ ИДЕЙ ВПЛОТЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ
Таким образом, теория просвещенного деспотизма, отеческой монархии, или, употребляя техническое немецкое выражение, «полицейского государства»[94], царит в конце XVIII века в Германии и Шотландии, в Италии и Франции. Во Франции она держится вплоть до революции и существует еще поныне, если только мы правы, считая государственный социализм лишь ее подновленной формулой.
Индивидуалистическое движение уже проявилось в полной силе и блеске, а избранные или даже наиболее выдающиеся умы все еще оставались верными идее просвещенного деспотизма. В таком положении, например, находился Тюрго, и меня удивляет, что из него так часто старались сделать чистого либерала[95]. Правда, он протестовал против идеи потребовать у правительства «пуховые чепчики для всех детей, которые могут упасть»[96]; он же написал знаменитое, столь часто цитируемое место Во втором письме о веротерпимости[97]; наконец, он осуществил реформы, проникнутые духом свободы. Но разве можно забывать или не признавать, что творец свободы торговли и промышленности не придавал никакого значения политической свободе[98]? С королем он говорит языком министра Людовика XIV[99]. Подобно физиократам, он противник равновесия властей, теории взаимно сдерживающих друг друга сил. Желая оказать на деле покровительство некоторым правам граждан, он приглашает государя неукоснительно применять «права государства»[100]. Ни один государственный деятель, за исключением Ришелье, не пользовался так часто и с таким удовольствием этим выражением. И не один Тюрго исповедует, вплоть до революции, теорию просвещенного деспотизма. Маркиз Мирабо пишет: «Юстиция, полиция, финансы, торговля, крепости, артиллерия, города, пригороды, села, территория, жители – все принадлежит королю»[101]. И Токвиль, выясняя, что отец знаменитого оратора заимствовал у своего века и современных экономистов, отмечает у него: «полное игнорирование права каждого человека на самоуправление; мысль, что хорошо понятый интерес заставляет государя заниматься бедными и меньшей братией; идею всемогущего правительства, при помощи которого можно было бы преобразовать людей по своему желанию»[102]. Катехизис Сен-Ламбера, написанный значительно позже, проникнут тем же духом: государь должен отдать свое всемогущество на служение общественному благу[103].
Историк, охотно возводящий факты к их первопричине и видящий в них только внешнее выражение известных идей, нарисовал картину Европы накануне революции, где крайне рельефно отмечено сильное влияние теории просвещенного деспотизма[104].
Наказ Екатерины II, данный в 1768 г. комиссии, которой было поручено составить новое уложение, эдикт великого герцога Тосканского (1790 г.), прусский Кодекс (1794 г.) служат ясным доказательством этого влияния. В общих чертах и государство Фридриха II, и государство Иосифа II, и в меньшей мере но все-таки заметно, как прекрасно указал Токвиль[105], старый порядок во Франции накануне революции применяют на практике доктрину, теоретическое выражение которой мы только что нашли у публицистов и философов.
VI. ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Чем же это идейное движение отличается и в чем сходится с движением индивидуалистическим?
На первый взгляд, нас поражают черты сходства: гуманность поставлена очень высоко; некоторые интересы морального и идеального порядка, например, народное просвещение, правильно поняты и с пользою применены, хотя и в подчинении интересам материальным. Но черты различия преобладают, если принять в расчет, что теоретики просвещенного деспотизма, обладая чувством гражданского равенства, не обладали ни пониманием равноценности отдельных личностей, этой основой политического и всякого права, ни равным уважением ко всем формам свободы.
Свобода, которую они провозглашают, и опять-таки для избранных, это свобода в отношении веры, т. е. главным образом в отношении неверия. Они часто произносят слово право, но не выясняют истинной природы последнего, не доходят до его сущности. Метафизическая слабость их системы или скорее их отрицательное отношение к метафизике объясняет нам, почему они не возвысились до индивидуализма, хотя приблизились к нему и в конце концов работали в его пользу. Кузэн отлично видел, чего недоставало этим философам. Он первый высказал это, и высказал очень сильно[106].
Так как теоретики просвещенного деспотизма не чувствовали, не понимали и не провозглашали абсолютного равенства личностей, они принуждены были подкреплять свои премудрые наставления очень немудрыми аргументами. Они побуждали государей быть гуманными, великодушными и справедливыми, но главным образом ради собственной их выгоды, так как любовь подданных уменьшает возможность мятежа. Они побуждали государей просвещать подданных и помогать им материально, но прежде всего для того, чтобы сделать государство могущественнее и богаче. Свои лучшие реформы они провозглашают в конце концов «в интересах государства»[107]. Они еще не отказались вполне от идеи, что государство прежде всего должно заботиться об усилении своего могущества, а на все остальное смотреть как на придаток[108].
Они полагают также, что реформы должны производиться государством. Они не только не ограничивают власти государя, но еще более увеличивают ее влияние на индивидуума. Административная монархия, как ее понимал и проводил в жизнь Людовик XIV, в некоторых отношениях является, быть может, менее всепоглощающей, чем та монархия, о которой мечтал Тюрго, и несомненно менее всепоглощающей, чем государство, которое было по сердцу Вольфу или Бильфельду.
Наконец, теоретики просвещенного деспотизма продолжали верить в благодетельное влияние законодательства; это воззрение так укоренилось во французском уме, что сильно сказалось даже у некоторых родоначальников индивидуализма. По мнению теоретиков просвещенного деспотизма, законодательство всемогуще; оно способно все видоизменить: и нравы, и сердце человека. Боссюе придавал закону небесное происхождение[109]. Теоретики просвещенного деспотизма омирщают, если можно так выразиться, происхождение закона. Место неба занимает у них разум. За исключением этого, у них та же самая вера в верховную силу писаного законодательства.
ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В XVIII ВЕКЕ
Индивидуалистическое движение, представляющее одну из оригинальных черт в истории XVIII века, является реакцией и против теории просвещенного деспотизма и против теории государства, созданной XVII веком. Будучи общеевропейским, подобно теории просвещенного деспотизма, и даже более чем европейским, индивидуалистическое движение, кроме того, многообразно в своих выражениях. Его мы встречаем и в понятии политической свободы, изложенном у Монтескье; и в понятии народного верховенства, изложенном у Руссо и его английских подражателей; и в философии права Руссо и Кондорсе, Канта и Фихте; и в идее экономической свободы у Адама Смита; наконец, у пионеров американской революции, в их требованиях абсолютной свободы совести.
Напомним вкратце эти различные выражения индивидуалистического движения, а затем покажем, как они дополняют друг друга и образуют совокупность идей, появление которых было, действительно, эпохой в жизни человечества.
I
Недавние работы одного ученого юриста[110], специально изучившего вопрос о происхождении и природе конституционных договоров, устанавливают, что идея писаной конституции, вроде декларации прав, возникла не во Франции, как долгое время думали и писали. Это идея американская или, еще точнее, восходя к первоисточнику, идея английская и притом пуританская[111].
Первая декларация прав, первые американские конституции (1776–1777), несомненно, служили, если не образцом, то, по крайней мере, ободряющим примером для Конституанты. Но сами эти американские конституции и эта декларация прав, по-видимому, связаны весьма тесно с народным договором (agreement of the people) войска Кромуеля[112] (1647). Оно привыкло в своих конгрегациях считать себя настоящим источником религиозной власти, видимым и подлинным представителем Христа; привыкло избирать служителей культа и посредством избрания наделять их всеми надлежащими правами, и думало ввести в государстве демократию, верховенство народа, в особенности же понятие индивидуальной автономии.
Народный договор 1647 г. остался в проекте; но основная идея его вновь появляется у пуритан-беглецов, основателей Новой Англии. Эта идея служит базисом всех соглашений, которые они между собою заключали и которым суждено было впоследствии стать конституциями. Подписываясь под ними, они ставят непременным условием верховенство народа и абсолютную свободу совести.
Таким образом, в корне индивидуалистического движения XVIII века лежит религиозная свобода, эмансипация верований. Необходимо было напомнить об этом, но бесполезно было бы входить в подробности, потому что этот элемент индивидуалистической доктрины, при всей своей важности, не играл, так сказать, роли в движении французских идей той эпохи. Пропаганда в пользу религиозной терпимости проистекала у нас из другого источника: из английского свободомыслия и французского скептицизма. Нужно ли удивляться после этого, скажем мимоходом, что свобода совести, провозглашаемая неверующими, не привела у нас к тем сильным моральным верованиям, которые так хорошо вяжутся с исповеданием индивидуализма и служат ему самой прочной опорой?


