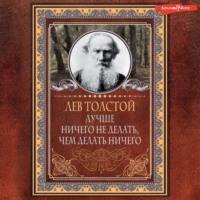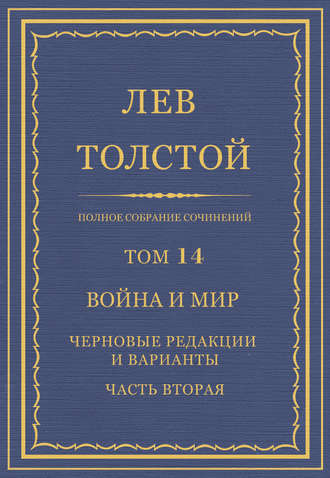 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 14. Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть вторая
Девочка затихла, уже сама держалась ручонками и, как дикий зверок, оглядывалась вокруг себя.
На[2486] прежде пустынном месте на углу Поварской теперь было много народа. Кроме русских семей с вытасканным из домов добром, спасавшихся от пожара на этом незастроенном месте, и в саду огромного дома князя Грузинского, тут же было и большое число французских солдат в различных одеяниях.[2487] Пьер не обратил на них вниманья. Он спешил найти семейство чиновника[2488] с тем, чтобы отдать матери, и итти опять спасать кого-то. Пьеру казалось, что ему что-то еще многое и поскорее нужно сделать.
Но на прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами пошел к тому месту, где было больше народа, к забору сада Грузинского, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил красавицу, молодую женщину, армянку по типу лица и, вероятно, богатую, судя по ее атласному салопу. Она сидела на узлах, несколько позади старухи матери, и неподвижно, большими, черными с длинными ресницами глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее.
Лицо это поразило Пьера, и он в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее.
– Или потерял кого, милый человек? Чей ребенок-то? – окликнула Пьера рябая баба, сидевшая у забора и перебиравшая что-то в мешочке. Пьер[2489] остановился. Фигура Пьера теперь, с ребенком на руках, была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек, русских мужчин и женщин; кто расспрашивал его, кто он такой был – не из благородных ли, и чей этот ребенок, кто рассказывал свое горе про грабеж и про пожары, которые горели не только здесь, но и по всей Москве так, что деваться было некуда.
Старичок дьячок или дьякон подошел к Пьеру и тоже спросил, чей был ребенок.
– Ведь это Анферовы должны быть, – сказал дьякон, обращаясь к рябой бабе. – О, господи! – прибавил он.
– Где Анферовы? – сказала баба. – Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николаевны, либо Ивановы. Куды денешься?[2490]
– Вы знаете их, вы возьмите девочку, отдайте им, а мне некогда, – сказал Пьер, обращаясь к[2491] дьякону.
– О, господи! – сказал дьякон, покачав головой.[2492] – И нам-то куда ж взять его?
– Что ж, посади, посади,[2493] – сказала баба, расстилая подле себя полу своего кафтана.
Пьер посадил девочку,[2494] причем она опять закричала и с трудом можно было оторвать ее ручонки от кафтана Пьера.
– В церковь, куда ж больше денешься, – продолжал говорить дьякон, обращаясь к Пьеру, – должно, и они там-то. А то, что не огнем, то мечом. Всё разграбили.
Пьер стоял, беспокойно оглядываясь, чувствуя потребность еще что-то сделать.
Два французские солдата, оба с мешками через плечи, один в синей шинели, подпоясанный веревкой, другой в каком-то женском капоте и больших рваных ботфортах,[2495] подошли в это время к дьякону и Пьеру. Оглянув робким и вместе наглым взглядом их и бабу и пожитки, которые были около нее, тот, который был без сапог,[2496] подмигнул к себе товарища и прошел мимо.[2497] Этот товарищ был в женском капоте, особенно поразил Пьера своими вылезшими из головы, мутными, серыми глазами и идиотическим выражением лица. Шагах в 10 от дьякона лежало бревно и на бревне сидели: чисто одетый, в новом, крытом полушубке, в новых сапогах, совершенно седой, красивый старик, старуха и два мальчика. За ними стоял сундучок.[2498] Французские солдаты подошли к ним, открыли сундук и вытащили какие-то вещи и положили их себе в мешок. Тот француз, который был в шинели и босиком, подошел к старику и, показав на его сапоги, что-то сказал на непонятном Пьеру языке. Старик неподвижно смотрел на француза. Француз, дотрогиваясь рукой до сапог и показывая свои босые ноги, что-то прокричал, и старик стал разуваться. Его старое, ссохшееся тело не могло согнуться, он не мог стянуть сапога. Француз нагнулся и стал снимать сапоги. Снимая другой сапог, французский солдат неловко потянул и дернул за ногу так сильно, что старик пошатнулся. Француз хлопнул сапог о сапог и приготовился надевать их, как вдруг оба мальчика, увидав деда босым, оба вместе заплакали и старик, как будто потирая лицо руками, закрыл себе глаза. Французский солдат вдруг нахмурился и, швырнув сапоги назад к ногам старика, быстро подошел к своему товарищу, дернул его за руку и направился к армянке, сидевшей почти рядом с стариком.
Красавица армянка сидела всё в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами и как будто не видела французских солдат, подошедших к ней и начавших рыться в мешках, подле которых она сидела. Старуха кричала, но французские солдаты не обращали на нее внимания и[2499] с раздражающим спокойствием вырывали у нее из рук и раскладывали мешки. Вероятно, подозревая, что деньги или самые дорогие вещи были в том[2500] свертке чего-то, на котором сидела молодая армянка, один из них, тот, который был в капоте,[2501] с выпученными бессмысленными глазами подошел к ней и, взяв ее за руки,[2502] стал приподнимать ее. Армянка с тем же неподвижным и неизменяющимся лицом молча упиралась что было у нее силы.[2503] Солдат в капоте дернул ее сильнее, она приподнялась молча, и босой[2504] с радостным криком вытащил из-под нее связку калачей и окорок ветчины.
В это самое время армянка вдруг разразилась отчаянным криком.[2505] Солдат в капоте с неподвижными, выпученными глазами срывал с ее шеи крест или ожерелье.[2506]
Пьер, сначала неподвижно смотревший на всё, что делали эти два[2507] солдата, теперь[2508] сам не зная как, с поднятыми огромными кулаками очутился против пучеглазого мародера.
[Далее от слов: Laissez cette femme!—закричал Пьер, кончая словами: Пьера под строгим караулом поместили отдельно, – близко к печатному тексту. T. III, ч. 3, гл. XXXIV.]
III. ВАРИАНТЫ ИЗ КОРРЕКТУР
* № 243 [T. III, ч. 1, гл. XIX—XX].[2509]
<В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, молитва эта сильно подействовала на нее. Слова о разорении нового Иерусалима, о победах Моисея, Гедеона и Давида, о враге, попирающем святыню, возрождали в ней благоговейный и трепетный ужас перед тем, что угрожало России – всему народу божьему, как казалось Наташе. Она ненавидела этих врагов и злодеев, вступающих в русскую землю,[2510] чувствовала наказанье божье за[2511] грехи всех людей и за ее грехи в этом страшном нашествии, боялась за близких себе и чувствовала себя готовой отрешиться от прежней жизни, прежних сожалений и событий и вражды для того, чтобы ввиду общего несчастия[2512] укрепить себя верою и надеждою, забыв всё прежнее, соединиться всем братскою любовью и ничего не жалеть для того, чтобы противустоять общему бедствию, – Наташа не думала о том, что она несколько минут перед этим с любовью молилась за врагов своих, жалея о том, что их было слишком мало, она теперь всей душой молилась за попрание под ноги врагов России и[2513] слушала торжественно и тихо выговариваемые старичком священником славянские слова молитвы, ни малейшего сомнения или противуречия не представлялось в ее прошении.>
Пьер со времени…[2514]
[Далее со слов: Пьер накануне того воскресения кончая: ждать того, что должно совершиться близко к печатному тексту конца гл. XIX, ч. 1, т. III].
Несмотря, однако, на все эти причины, в тот день после всего того, что он слышал от графа Растопчина, от курьера и от других знакомых о том, как в Москве ходят слухи о том, что император Наполеон обещал до осени быть в обеих русских столицах, о том, как в Москве найдены шпионы Бонапарта, о том, что дела наши в армии идут дурно, о том, что государь будет завтра для личного воодушевления народа, всё это заставляло его сомневаться в том, не следует ли ему поступить в военную службу, и с этими мыслями он поехал к Ростовым.
<Он думал найти их веселыми и довольными вследствие получения письма от сына и награды, полученной им, но, напротив, они были все в горе. Графиня плакала, читая письмо сына, и в особенности была тем огорчена, что он писал о своем назначении в отряд Неверовского, а по сведениям, полученным в Москве, было известно, что отряд этот находился впереди армии и беспрестанно был в стычках с неприятелем. Граф, хотя и обрадован крестом сына, был расстроен тем, что[2515] после [того], как был прочтен приказ о награждении Николая, Петя, теперь бывший 15-летним красивым, здоровым мальчиком, красный, как рак, и со слезами, выступившими ему на блестящие черные глаза, как только он стал говорить, пришел к отцу и объявил ему, что он не может больше учиться и оставаться в Москве, что его товарищ, Федя Оболенский, поступает в гусары и что он умоляет, не только умоляет, но требует от отца, чтобы ему позволено было сделать то же. Граф, в последнее время очень ослабевший, не от болезни и лет, но от скрываемого под его добродушной веселостью горя – совершенного расстройства дел и болезни Наташи, выслушав Петю, заплакал и сквозь слезы только сказал ему, что он просит его подождать, отложить свое намерение и не говорить графинечке, которая и так расстроена. За этим разговором Пьер и застал их. В гостиной он застал Наташу с приказом в руках. Она надеялась, что всё ей будет ясно, но всё запуталось. Она гордилась своими, гордилась Россией и боялась за своих близких… за Петю… Она уж ничего не понимала.
Она показала приказ Пьеру и знала,[2516] [что] он там был.
– Там опаснее или в штабе.
Приехала Марья Дмитриевна, [гов]орить про князя Андрея и про старика.
– Здесь что шелопуты делают.[2517]
За обедом была Марья Дмитревна в трауре, державшаяся так же прямо и утешавшая графиню, несмотря на то, что ее любимый сын был убит 2 недели тому назад и двое были в армии. Она посмеялась Пьеру, и Наташа вопросительно посмотрела на него. Он смутился, но покраснел.
После обеда Наташа стала читать вслух и зарыдала над отечеством.
Петя в восторге приходит. Графиня в ужасе. Марья Дмитриевна утешает. Наташа уходит за ней и выбегает и ругает Петю и говорит, что Безухий не мужчина. Безухий уезжает домой, но все-таки не поддается влиянию Наташи. Ее влияние сильно, но сильнее еще его внутренняя жизнь, которая велит ждать…>[2518]
* № 244 (T. III, ч. 2, гл. XIX).
<Колоча, при движении на Москву, течет влево от дороги. Переправа через Колочу находится за Бородиным в Горках; там и был центр позиции. Эта позиция очевидна будет для всякого, кто посмотрит на Бородинское поле, забыв о том, как произошло сражение.
Сражение произошло совершенно не так, как мы его ожидали, и потому нам рисуют планы и описывают позицию не таковою, какою она была задумана, и такою, в которой произошло сражение; и оттого происходит неясность представления и бесчисленное количество уклонений от истины, выдумок, имеющих целью доказать, что то, что было, было и предвидено.>
* № 245 (T. III, ч. 2, гл. XXXV).
Дряхлый[2519] Кутузов[2520] в этот день 26-го августа сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом на лавке, покрытой ковром, у кургана Горок, и не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.
– Да, да, сделайте это, – отвечал он на различные предложения. – Да, да, съезди, голубчик, посмотри, – говорил он.
Когда ему привезли, оказавшееся ложным, известие, что Мюрат взят в плен, он перекрестился, поздравил окружающих с успехом, послал объявить это войскам и велел везти к себе Мюрата. Когда ему доносили об отбитии флеш и кургана, он опять крестился, громко[2521] и спокойно выражал свою радость[2522]. Когда к нему подъезжали с донесеньями русские адъютанты и начальники частей, большей частью с оживленными и радостными лицами, он при всей толпе своей свиты заставлял их рассказывать; но когда к нему подъезжали с донесеньями немцы, даже когда любимый им Толь подъехал к нему с известием с левого фланга, он встал и подошел к нему один, выслушивая то, что он имел сказать ему.[2523]
Общее выражение лица Кутузова было[2524] сосредоточенное и спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость. Один только раз в конце сражения глаза его засверкали, он нахмурился и закричал почти.
Причиной этого необыкновенного оживления был флигель-адъютант Вольцоген (тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо im Raum verlegen[2525], и которого так[2526] ненавидел Багратион[2527]). Вольцоген приехал от Барклая, которого еще больше ненавидел теперь смертельно раненный Багратион, с донесением о проигрыше на левом фланге сражения.[2528]
Наблюдательный и благоразумный Барклай де Толли,[2529] взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.
Кутузов[2530] с трудом жевал принесенную ему из его избы жареную курицу и потому и не успел остановить Вольцогена вдали от свиты. Вольцоген слез с лошади и, небрежно разминая ноги, с полупрезрительной улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.
Господин Вольцоген обращался с светлейшим с некоторой аффектированной небрежностью, имеющей целью показать, что он флигель-адъютант, во-первых, а во-вторых, как высокообразованный военный, предоставляет русским делать кумира из этого старого бесполезного человека. «Der alte Herr», как называли Кутузова в своем кругу немцы, – «weiss wohl nicht, wo ihm jetzt der Kopf steht»,[2531] подумал Вольцоген и начал[2532] докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай, как он сам видел.
– Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет, они бегут, и нет возможности остановить их, – докладывал он.
Никто из окружающих старого господина не видел в таком оживлении гнева, в которое он пришел при этих словах господина флигель-адъютанта фон-Вольцогена.[2533]
Он остановился жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, выпучил глаза на Вольцогена, потом молча толкнул курицу и тарелку наземь и грозно и величественно, как нельзя было ожидать от него, приподнялся на лавке:
– Как вы… как вы смеете, – делая угрожающие жесты трясущимися руками, закричал[2534] он. – Как смеете вы, милостивый государь, говорить[2535] это мне.
– Неприятель отбит на всех пунктах… Передайте от меня генералу Барклаю,[2536] что его сведения неверны и что настоящий ход сражения известен мне, фельдмаршалу, – он ударил себя[2537] в грудь. Он опять сел на лавку и в молчании, которое воцарилось вокруг него, слышалось его тяжелое дыхание.
– Неприятель отбит, я лучше вас знаю, – повторил он, стараясь успокоиться и искоса взглянув на Вольцогена.
* № 246 (T. III, ч. 2, гл. XXXVII).
Его положили на землю. Доктора, которые отпускали его, ненадежно переглянулись и сказали, что ему надо отдохнуть прежде, чем везти его в Можайск. Один из них с добрым лицом подошел к нему и молча поцеловал его в губы. Доктор этот хотел что-то сказать князю Андрею, но в это время[2538] его окликнули. Подле князя Андрея лежал солдат с[2539] отбитым задом и жалобно стонал, приговаривая: голубчики мои белые. Князь Андрей смотрел на него и оторвался от его жалкого, доброго лица только для того, чтобы взглянуть на нового раненого, которого, как и князя Андрея, шагая через[2540] других (вероятно, чиновного), несли на носилках. Из-за носилок виднелась с одной стороны голова с черными, нежными, вьющимися волосами, с другой – лихорадочными трепетаниями ходившая нога, из-под которой сочилась кровь. Князь Андрей[2541] невольно соболез[нующе] смотрел на этого нового раненого.[2542]
– Клади тут! – крикнул доктор. – Кто такой?
– Адъютант, князь какой-то.
Это был Анатоль Курагин, раненный[2543] ядром в ногу. Кость и жилы были перебиты, нога висела на коже.
Когда его сняли с носилок, князь Андрей слышал, как он плакал, как женщина, и видел мельком его прежде красивое,[2544] теперь безобразное, сморщенное и покрытое слезами лицо.
– Убейте меня! А? О!… о!… о!… Это не может быть! А? О боже.[2545] A? Mon Dieu, mon Dieu! Боже мой! Боже! Боже мой!....[2546] доктор неприятно поморщился на эти[2547] крики, но князь Андрей,[2548] который еще прежде, не зная, кто он, жалел его, узнав его, с какой-то новой восторженной радостью почувствовал в душе своей, в соединении с прежним воспоминанием злобы к нему, нежную жалость именно к этому человеку. Ему жалко было слушать его. Доктора осмотрели его и что-то поговорили. Подбежали два фельдшера и потащили отбивавшегося и до хрипа кричавшего, закатывающегося, как ребенок, Анатоля в палатку. Там послышались увещания, тихие голоса, на минуту всё замолкло,[2549] потом ужасный,[2550] жалобный крик[2551] Анатоля послышался из палатки, но такой крик не мог продолжаться долго, он слабел. Князь Андрей смотрел уставшими глазами на других раненых и слышал, как пилили кость. Наконец силы оставили Анатоля. Он не мог кричать больше, и работа была кончена. Доктора что-то бросили, и фельдшера подняли и понесли Анатоля. Анатоль был бледен и только изредка всхлипывал. Правой ноги его не было. Его положили рядом с князем Андреем.
– Покажите мне ее, – проговорил Анатоль. Ему показали белую[2552] ногу. Он закрыл лицо руками и зарыдал.
Князь Андрей закрыл глаза, и ему еще более хотелось плакать[2553] нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.
«Сострадание, любовь к братьям и к любящим и к ненавидящим нас, да, та любовь, которую проповедывал бог на земле, которой меня учила княжна Марья, – вот оно, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив».
Его осторожно подняли, понесли и положили в лазаретную фуру.
* № 247 (T. III, ч. 3, гл. I).[2554]
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ I[2555]Во всех без исключения письменных и изустных критиках на 4-й том Войны и Мира мне было замечено, что напрасно я излагал свой взгляд на историю, что я очень мило пишу военные сцены, но что рассуждать не мое дело и что всё, что я излагал, как новость, таким догматическим тоном – давно не только всем известно, но даже давно оставлено и ныне уже не в моде, что это мистическая, фаталистическая, боклевская школа истории. К несчастию, несмотря на то, что прежде, чем изложить такие, как мне казалось, странные и противоречащие общему взгляду мысли, я перечитал много, чтобы узнать, насколько я в своем взгляде расхожусь с другими людьми, думавшими о том же, я не нашел нигде этой мистической или какой другой школы, на которую мне указывают. Еще к большему несчастию, ни один из тех критиков, которые говорили мне, что это давно известно, не указали мне на те сочинения, в которых бы я мог найти это давно известное. Так что в начале 5-го тома, излагая опять некоторые мысли касательно истории, я иду на риск повторять давно известное, но не могу воздержаться от этого, потому что чувствую необходимость поделиться тем радостным чувством, которое мне доставили эти мысли, с читателями, которые, может быть, некоторые думают так же, как и я, и так же, как и я, по несчастной случайности не попадали на те сочинения мистической или боклевской школы, в которой всё это давным-давно изложено и вышло уж из моды. Тем более считаю нужным поделиться с публикой этими мыслями, что мысли эти были для меня не одной умственной забавой, но оказались весьма плодотворными в том труде, которым я был занят. Не имея замысла исключительно исторического при сочинении моей книги, мне, не имеющему ни военных познаний, ни богатых новых материалов, удалось[2556] только с помощью этого взгляда на историю осветить под новым и, как кажется, верным углом некоторые исторические события, как[2557] говорят критики.[2558] Я на опыте убедился, что этот взгляд на историю весьма плодотворен для исторических открытий и потому считал нужным изложить его, ежели он[2559] новый, или повторить его, ежели он старый.[2560]
Для человеческого ума[2561] непостижимы абсолютная непрерывность[2562] и[2563] делимость силы. Человек постигает законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольные единицы времени и силы. Раскаленная полоса железа охлаждается. Для того, чтобы найти закон, по которому происходит[2564] движение теплорода, мы должны произвольно разделить раскаленную полосу на вершки и дюймы и время нашего наблюдения на минуту и секунды, и на этих произвольно взятых величинах наблюдаем процесс охлаждения. Чем крупнее периоды или единицы мы будем брать для наблюдения, тем дальше мы будем находиться от истины.[2565] Чем меньше единицы,[2566] тем вернее будут наши выводы. В взятом примере охлаждения полосы железа этот закон отыскивается только тогда, когда мы допустим бесконечно малые единицы объема и времени, то есть когда мы приблизимся к абсолютной непрерывности и к абсолютной делимости, к тем свойствам, при которых происходит явление.
Закон этот находится тогда только, когда мы диференцируем процесс охлаждения. Только посредством теории бесконечно малых мы приближаемся к решению вопроса.
В отыскании законов исторического движения (которое, однако, может быть целью истории) происходит совершенно то же.[2567] Движение человечества совершается непрерывно и вытекает из бесчисленного количества людских произволов.
Для того, чтобы постигнуть[2568] законы непрерывного движения этой суммы всех произволов людей,[2569] ум человеческий допускает произвольные прерывные единицы и периоды в этом движении, и на основании сравнения этих произвольных единиц и периодов стремится постигнуть закон истории. Первый прием истории для объяснения исторических явлений состоит в том, чтобы взять произвольный ряд непрерывных событий и рассматривать его отдельно от других, тогда как нет и не может быть начала никакого события, всегда одно событие непрерывно вытекает из другого.
Второй прием состоит в том, чтобы рассматривать действия одного человека – царя, полководца, как сумму произволов людей, тогда как сумма произволов людских никогда не выражается в деятельности одного исторического лица. Историческая наука в движении своем постоянно принимает всё меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем приближается к истине. Но, как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение начала какого-нибудь явления и[2570] допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица[2571] – ложно само по себе. С трудом и усердием работает ум человеческий для построения этих периодов, этих прерывных единиц в движении человеческом, только в этом искусственном построении видя возможность объяснения явлений истории, и с таким же трудом и усердием работает тот же ум человеческий для разрушения этих искусственных прерывных единиц, только в непрерывности движения видя возможность постигновения законов истории.
Всякий вывод истории без малейшего усилия со стороны критики распадается, как прах, ничего не оставляя за собой, только вследствие того, что критика берет за наблюдения большую или меньшую прерывную единицу, на что она всегда имеет право, так как взятая историческая единица всегда произвольна.
Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения – диференциал истории и достигнув искусства интегрировать: брать суммы бесконечно малых, мы можем надеяться на постигновение законов истории.[2572]
[Далее автограф от слов: Первые 15 лет 19-го столетия кончая: положение стрелки есть причина движения колоколов близко к печатному тексту. Т. III, ч. 3, гл. I.]
№ 248 (T. III, ч. 3, гл. II).[2573]
<Бородинское сражение представлялось победой всем его участникам. Как о победе доносил о нем фельдмаршал и как несомненная победа, подобная Полтавской, осталось оно в сознании русского народа.
Всякий русский мальчик, учащийся читать, знает, что Бородинское сражение есть слава русского оружия и что оно – выиграно. Но тот же мальчик, возрастая и начиная читать научные военные сочинения, узнает, что сражение, после которого отступило войско, проиграно; вслед за Бородинским сражением войска отступили, и Москва отдана неприятелю. Кто из русских людей, воспитанных на убеждении, что Бородинское сражение есть лучшая слава русского оружия, есть победа —. не приходил в тяжелое и грустное недоумение, читая эти научные, иностранные и, что еще убедительнее, русские, писанные под иждивением правительства, описания этой войны? После Бородина русские отступили и французы заняли Москву, следовательно, говорят историки, русские проиграли сражение. Но сознание народа, которое основывается не на историях, а на своих страданиях и радостях, торжествует[2574] Бородинское сражение, как лучшую свою победу. Народное сознание не спрашивает себя, что такое есть выигранное или невыигранное сражение, что такое стратегия и тактика. Что намерен был сделать Кутузов или Наполеон? Народное сознание ощущает события во всей их непрерывности. Для народного сознания от Немана в июле до Немана в ноябре представляется непрерывный ряд военных событий.>