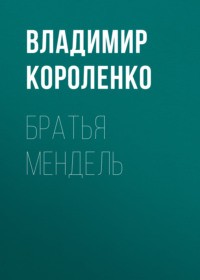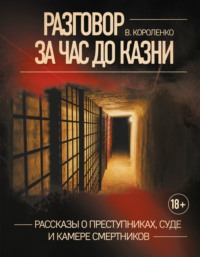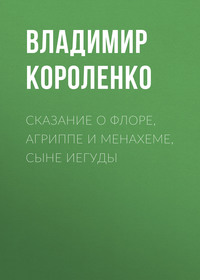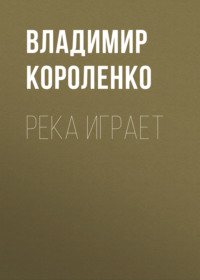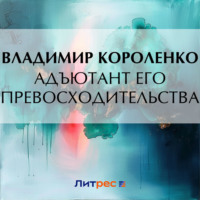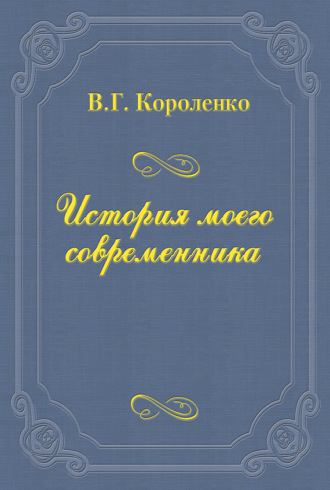 полная версия
полная версияПолная версия
История моего современника
Мэр опять поднял голову:
– Мосье Мишель… Магазин белья на такой-то улице?
– Да.
Мэр засуетился:
– Стул господину Мишелю… Покорно прошу садиться. Очень польщен…
Этот маленький эпизод, который я передаю по памяти, довольно верно рисует пределы самой громкой «всемирной известности». Известность – это значит, что имя человека распространяется по свету известными тропками. Знают там, где читают, – это в лучшем случае. А читают вообще на этом свете мало. Читающее человечество – это приблизительно поверхность рек по отношению ко всему пространству материков. Капитан, плавающий по данной части реки, весьма известен в этой части. Но стоит ему отъехать на несколько верст в сторону от берета… Там другой мир: широкие долины, леса, разбросанные по ним деревни… Над всем этим проносятся с шумом ветры и грозы, идет своя жизнь, и ни разу еще к обычным звукам этой жизни не примешалась фамилия нашего капитана или «всемирно известного» писателя.
Зато в своей среде, на своей линии – брат стал, действительно, известен.
С ним считалось «правительство», его знало «образованное общество», чиновники, торговцы – евреи – народ, питающий большое уважение к интеллекту.
В погожие сумерки «весь город» выходил на улицу, и вся его жизнь в эти часы переливалась пестрыми волнами между тюрьмой – на одной стороне и почтовой станцией – на другой. Обыватели степенно прохаживались, меся ногами пыль, встречались, здоровались, делились редкими новостями. Порой среди примелькавшихся лиц появлялся заезжий магнат, граф Плятер, кн. Вишневецкий или «столичный чиновник», едущий на таинственную «ревизию». И все взгляды обращались за ними, а толпа около них густела. Порой показывался директор гимназии, судья, помощник исправника, казначей… Все это составляло своего рода аристократию. Но были известности неофициальные. Чиновник Михаловский, недавно приехавший из столицы, носил пестрые пиджаки и галстуки и необыкновенно узкие брюки. О нем говорили, что по утрам он вскакивает в них со стола, как принц дАртуа по рассказу Карлейля[146], а по вечерам дюжий лакей вытряхивает его прямо на кровать. Все это было смешно, но… инициалы его совпадали с именем и отчеством известного в то время поэта – переводчика[147], и потому, когда в дымке золотистой пыли, подымаемой ногами гуляющих, появлялась пестрая вертлявая фигурка, то за ней оглядывались и шептали друг другу:
– Господин Михаловский… Поэт. Знаете?.. В «Деле»…[148]
– Как же, как же… читал…
И только когда недоразумение разъяснилось, – престиж приезжего упал. Остались лишь пестрые брюки и смешные анекдоты.
Однажды на таком гулянии появился молодой человек, одетый щеголем, худощавый, подвижной и веселый. Он пожимал руки направо и налево, перекидываясь шутками. И за ним говорили:
– Арепа, Арепа. Сотрудник «Искры»[149]. Свалил губернатора Бессе…
Арепа окончил нашу гимназию и служил в Житомире, кажется, письмоводителем стряпчего. Однажды в «Искре» появился фельетон, озаглавленный: «Разговор Чемодана Ивановича с Самоваром Никифоровичем». В Чемодане Ивановиче узнавали губернатора, а в Самоваре Никифоровиче – купца Журавлева. Разговор касался взятки при сдаче почтовой гоньбы. Пошли толки. Положение губернатора пошатнулось. Однажды в клубе он увидел в биллиардной Арепу и, вероятно, желая вырвать у него покаянное отречение, сразу подошел к нему и сказал:
– Вы, молодой человек… Я слышал… Распустили грязную сплетню.
Арепа вытянулся и, прикидываясь испуганным, дрожа и заикаясь, сказал:
– Смею спросить, ваше – ство… что именно?
Генерал ободрился. При разговоре присутствовали посетители, чиновники, виднелся даже синий жандармский мундир…
– Ну, там… – продолжал губернатор с величавым пренебрежением, – будто с Журавлева… каких-то там пять тысяч…
– Клевета – с, ваше – ство, – говорил Арепа, и его фигура изображала самое жалкое раболепие… – Враги, ваше – ство… хотят меня погубить в ваших глазах…
И вдруг, выпрямившись, он прибавил:
– Десять тысяч, ваше – ство… Я говорил: десять тысяч…
Губернатора чуть не хватил удар, и вскоре он «по домашним обстоятельствам» подал в отставку…
Так рассказывали эту историю обыватели. Факт состоял в том, что губернатор после корреспонденции ушел, а обличитель остался жив, и теперь, приехав на время к отцу, наслаждался в родном городе своей славой…
Он промелькнул метеором и исчез, оставив по себе великое почтение к званию корреспондента. Свалить губернатора – это не шутка. Брат мой был тоже корреспондент. И хотя ни одного губернатора еще не свалил, но все знали, что это именно его перо сотрясает время от времени наш мирок, волнуя то чиновников, то ночную стражу, то офицерство. На него обращали внимание. Его приглашали на вечера, солидные обыватели брали его под руку и, уведя в сторонку, рассыпались в похвалах его «таланту» и просили продернуть того или другого…[150]
Мудрено ли, что некоторое время брат мой плавал в атмосфере этой «известности», не замечая, что вращается в пустом пространстве и что его потрясающие корреспонденции производят бесплодное волнение, ничего никуда не подвигающее…
Во мне эти «литературные успехи» брата оставили особый след. Они как будто перекинули живой мостик между литературой и будничной жизнью: при мне слова были брошены на бумагу и вернулись из столицы напечатанными.
Уже раньше, прочитав книгу, я сравнивал порой прочитанную книгу с впечатлениями самой жизни, и меня занимал вопрос: почему в книге всегда как будто «иначе». У брата было тоже иначе. Когда первое преклонение перед печатной строкой прошло, я опять чувствовал это как недостаток, и мне стало интересно искать таких слов, которые бы всего ближе подходили к явлениям жизни. Все, что меня поражало, я старался перелить в слова, которые бы схватывали внутренний характер явления. На главной нашей улице стояла маленькая избушка, нижние венцы которой подгнили и осели. Стены ее стали ниже человеческого роста… Проходя мимо нее, я говорил себе: она нахмуренная… нахлобученная… прижмурившаяся…. обиженная… печальная… И когда из нее нагнувшись выходил пьяненький чиновник Красуский, я искал слов для чиновника.
Это входило у меня в привычку. Когда же после Тургенева и других русских писателей я прочел Диккенса и «Историю одного города» Щедрина, – мне показалось, что юмористическая манера должна как раз охватить и внешние явления окружающей жизни, и их внутренний характер. Чиновников, учителей, Степана Яковлевича, Дидонуса я стал переживать то в диккенсовских, то в щедринских персонажах.
Выходило все-таки «не то»… И странно: порой, когда я не делал намеренных усилий, в уме пробегали стихи и рифмы, мелькали какие-то периоды, плавные и красивые… Но они пробегала непроизвольно и не захватывали ничего из жизни… Форма как будто рождалась особо от содержания и упархивала, когда я старался охватить ею что-нибудь определенное.
Только во сне я читал иной раз собственные стихи или рассказы. Они были уже напечатаны, и в них было все, что мне было нужно: наш городок, застава, улицы, лавки, чиновники, учителя, торговцы, вечерние гуляния. Все было живое, и над всем было что-то еще, уже не от этой действительности, что освещало будничные картины не будничным светом. Я с восхищением перечитывал страницу за страницей.
Но… когда просыпался, – все улетало, как стая птиц, испуганных приближением охотника. А те концы, которые мне удавалось порой задержать в памяти, оказывались совершенно плохи: в стихах не было размера, в прозе часто недоставало даже грамматического смысла, а слова стояли с не своим, чуждым значением…
Это опять было брожение в пустоте без откликов… Толчок ему дал Авдиев и отчасти корреспонденции брата. Авдиев уехал. Вкус корреспонденции притуплялся.
Запрещение гимназистам посещать клуб было, кажется, их единственным практическим результатом. Впрочем, однажды, в самом центре города, у моста, починали фонарь. Несколько раз в темные вечера в честь гласности горел огонек… Это было все-таки торжество. Каждый, кто проходил мимо этого фонаря глухою ночью, думал: «А! пробрал их трубниковский корреспондент».
Но скоро и этот одинокий огонек погас…
XXX
Дух времени в Гарном Луге
Изолированные факты отдельной жизни сами по себе далеко не определяют и не уясняют душевного роста. То, что разлито кругом, что проникает одним общим тоном многоголосый хор жизни, невольно, незаметно просачивается в каждую душу и заливает ее, подхватывает, уносит своим потоком. Оглядываясь назад, можно отметить вехами только начало наводнения… Потом это уже сплошное, ровное течение, в котором давно исчезли первые отдельные ручьи.
Настроение, или, как тогда говорили, «дух времени», просачиваясь во все уголки жизни, заглянул и в Гарный Луг.
В одно время здесь собралась группа молодежи. Тут был, во – первых, сын капитана, молодой артиллерийский офицер. Мы помнили его еще кадетом, потом юнкером артиллерийского училища. Года два он не приезжал, а потом явился новоиспеченным поручиком, в свежем с иголочки мундире, в блестящих эполетах и сам весь свежий, радостно сияющий новизной своего положения, какими-то обещаниями и ожиданиями на пороге новой жизни.
Затем мой брат, еще недавно плохо учившийся гимназист, теперь явился в качестве «писателя». Капитан не то в шутку, не то по незнанию литературных отношений называл его «редактором» и так, не без гордости, рекомендовал соседям.
Но еще большее почтение питал он к киевскому студенту Брониславу Янковскому[151]. Отец его недавно поселился в Гарном Луге, арендуя соседние земли. Это был человек старого закала, отличный хозяин, очень авторитетный в семье. Студент с ним не особенно ладил и больше тяготел к семье капитана. Каждый день чуть не с утра, в очках, с книгой и зонтиком подмышкой, он приходил к нам и оставался до вечера, серьезный, сосредоточенный, молчаливый. Оживлялся он только во время споров.
Эта маленькая группа молодежи сразу заняла в усадьбе центральное положение. Когда теперь я оглядываюсь на тогдашние впечатления, то мне кажется, будто эти молодые люди, еще недавно казавшиеся совершенно заурядными, теперь вдруг засияли и заблистали, точно эта года покрыли их блестящим лаком.
Двоюродный брат был еще недавно веселым мальчиком в кургузом и некрасивом юнкерском мундире. Теперь он артиллерийский офицер, говорит об ученых книгах и умных людях, которых называет «личностями», и имеет собственного денщика, с которым собирается установить особые, не «рутинно – начальственные» отношения.
Янковский был, правда, первым учеником в нашей гимназии, но… мы никогда не преклонялись перед первыми учениками и медалистами. Теперь он студент, «подающий блестящие надежды». «Голова, – говорил о нем капитан почтительно. – Будущий Пирогов, по меньшей мере».
У капитана были три дочери[152], две из них уже невесты. Старшая – веселая, недурная собой хохотушка, хорошо играла на фортепиано и любила танцы. Средняя – смуглая, некрасивая, с большими задумчивыми и печальными глазами. Женских гимназий тогда почти не было, и девушки учились у гувернанток чему-нибудь и как-нибудь. Теперь молодежь принялась их «развивать». Со старшей дело шло не особенно успешно; средняя жадно накинулась на новые книги, которые, впрочем, бедняжка без подготовки понимала с трудом. Студент обратил на нее особенное внимание. Нередко их можно было видеть вдвоем. Студент поучал, девушка слушала. Иногда студент шагал вокруг клумбы перед домом и, держа в руках свежесорванный цветок, объяснял его устройство с важным спокойствием молодого профессора. Если бы это сделал кто-нибудь другой, – капитан поднял бы целую бурю. Студент безжалостно вытаскивал с корнями лучшие цветы, и капитан только провожал их невольными вздохами. Однажды на деревне пришлось сделать перевязку запущенной раны на руке жницы. Студент промывал и перевязывал, девушка благоговейно подавала бинты и корпии. Когда то же самое делал фельдшер, – и, вероятно, делал лучше, – это выходило далеко не так интересно. У студента было интересно. Походило даже на священнодействие.
У капитана была давняя слабость к «науке» и «литературе». Теперь он гордился, что под соломенной крышей его усадьбы есть и «литература» (мой брат), и «наука» (студент), и вообще – умная новая молодежь. Его огорчало только, что умная молодежь как будто не признает его и жизнь ее идет особой струей, к которой ему трудно примкнуть.
Правда, его рассказы о гарнолужском панстве пользовались успехом и вызывали комментарии об «отжившем сословии». Но вот однажды после анекдотов о панах последовал веселый рассказ о мужике.
Относился он ко времени «эмансипации». Крестьян только что освободили. Был праздник. Мужики нарядными толпами шли из церкви и с базара; много было пьяных. Капитан с женой и детьми в коляске возвращался из костела. Вдруг лошади стали… Что такое? Оказалось, что на дороге, раскинувшись поперек в самой беспечной позе, лежал один из новых «свободных граждан». Кучер кричит: «Пошел с дороги, такой – сякой! Паны едут». Свободный гражданин приподнимает пьяную голову и отвечает, что теперь воля, что он хочет вот так себе лежать на дороге, а на панов ему… И он выразился самым дерзким и неприличным образом…
Капитана это, разумеется, взорвало, но вдруг его мысли приняли юмористическое направление. A! Дорога для всех! Теперь воля! Хорошо! Пусть так. Он приказал жене и дочерям отвернуться и, став над пьяным, проделал то, что некогда Гулливер[153] проделал над лилипутами. «Панская шутка» вызвала веселье среди празднично настроенного народа, собравшегося вокруг этой сценки и ожидавшего, как-то пан выйдет из щекотливого положения. «Свободный гражданин», озадаченный и огорченный, только поворачивал лицо, сплевывал и говорил с укоризной заплетающимся языком:
– Э! Пане, пане! Не робить бо кепства…[24]
И затем, вдруг собравшись с силами, быстро пополз под общий хохот с дороги в канаву.
Этот рассказ мы слышали много раз, и каждый раз он казался нам очень смешным. Теперь, еще не досказав до конца, капитан почувствовал, что не попадает в настроение. Закончил он уже, видимо, не в ударе. Все молчали. Сын, весь покраснев и виновато глядя на студента, сказал:
– Папа… Ведь это… поругание личности.
– Д – да, – прибавил «редактор», – унижение человеческого достоинства.
Студент, молча, с обычным серьезным видом и сжатыми губами, глядевший в синие очки, не сказал ни слова, но… встал и вышел из комнаты.
Это было внушительнее всякого осуждения.
В комнате водворилось неловкое, тягостное молчание. Жена капитана смотрела на него испуганным взглядом. Дочери сидели, потупясь и ожидая грозы. Капитан тоже встал, хлопнул дверью, и через минуту со двора донесся его звонкий голос: он неистово ругал первого попавшего на глаза работника.
Скоро, однако, умный и лукавый старик нашел средство примириться с «новым направлением». Начались религиозные споры, и в капитанской усадьбе резко обозначились два настроения. Женщины – моя мать и жена капитана – были на одной стороне, мой старший брат, офицер и студент – на другой.
Я решительно примкнул к женщинам; младшие братья и сестры составляли публику.
Особенно памятен мне один такой спор. Речь коснулась знаменитой в свое время полемики между Пуше и Пастером[154]. Первый отстаивал самозарождение микроорганизмов, второй критиковал и опровергал его опыты. Писарев со своим молодым задором накинулся на Пастера. Самозарождение было нужно: оно кидало мост между миром организмов и мертвой природой, расширяло пределы эволюционной теории и, как тогда казалось, доставляло победу материализму[155].
Писарева я тогда еще не читал, о Дарвине у меня почти только и было воспоминание из разговоров отца: старый чудак, которому почему-то хочется доказать, что человек произошел от обезьяны. И оба теперь стучались в дверь, которую я еще в детстве запер наглухо своим обетом: никогда не отступать от «веры». Спор велся шумно и страстно. Ну, хорошо: микроорганизмы зародились в воде или, по Геккелю[156], на неизмеримой глубине океана. А вода, а океан откуда? Из облаков? А облака? Из водорода и кислорода. А водород и кислород?
В середине спора со двора вошел капитан. Некоторое время он молча слушал, затем… неожиданно для обеих сторон примкнул к «материалистам».
– Га! – сказал он решительно. – Я давно говорю, что пора бросить эти бабьи сказки. Философия и наука что-нибудь значат… А священное писание? Его писали люди, не имевшие понятия о науке. Вот, например, Иисус Навин… «Стой, солнце, и не движись, луна»…
Я вдруг вспомнил далекий день моего детства. Капитан опять стоял среди комнаты, высокий, седой, красивый в своем одушевлении, и развивал те же соображения о мирах, солнцах, планетах, «круговращении естества» и пылинке, Навине, который, не зная астрономии, останавливает все мироздание… Я вспомнил также отца с его уверенностью и смехом…
Молодежь радостно встретила нового союзника. Артиллерист прибавил, что ядро, остановленное в своем полете, развивает огромную теплоту. При остановке земли даже алмазы мгновенно обратились бы в пары… Мир с треском распылился бы в междупланетном пространстве… И все из-за слова одного человека в незаметном уголке мира…
Вечер закончился торжеством «материализма». Капитан затронул воображение. Сбитые с позиции, мы молчали, а старик, довольный тем, что его приняла философия и наука, изощрялся в сарказмах и анекдотах…
Было поздно, когда студент стал прощаться. Молодежь с девицами его провожала. Они удалились веселой гурьбой по переулку, смеясь, перебивая друг друга, делясь новыми аргументами, радостно упраздняя бога и бессмертие. И долго этот шумливый комок двигался, удаляясь по спящей улице, сопровождаемый лаем деревенских собак.
Я не пошел с ними. Мое самолюбие было оскорблено: меня третировали, как мальчика. Кроме того, я был взволнован и задет самой сущностью спора и теперь, расхаживая вокруг клумбы, на которой чуть светились цветы ранней осени, вспоминал аргументы отца и придумывал новые.
Ночь была тихая, звездная. Из-за старого «магазина» еще не поднялась луна, но очертания остроконечной крыши и силуэты тополей, казалось, плавали в загорающемся сиянии. Младший брат и Саня уже спали на сеновале. Я прошел туда же, нашел в темноте лестницу и поднялся к ним, стараясь потише шуршать душистым сеном. Было темно, только в одном месте свет вливался через прореху в соломенной крыше. Я улегся под ней, уставившись в клок ночного неба, усеянного звездами. Одна из них, самая большая, пока я думал, передвинулась с одной стороны прорехи к другой, точно проплыла по синему пруду. И я ясно представил себе огромный свод, тоже тихо совершающий свое вращательное движение… Вернее, это движется земля… Одну землю остановить легче, чем весь этот свод… Но… все-таки трудно. Правда, бог всемогущ. Он мог остановить землю и приказать, чтобы не было от этого дурных последствий. И даже еще иначе. Солнце зашло, а в вышине все еще играют его лучи… Если светлое облако, как экран, отразило эти лучи на землю, Иисусу Навину было светло еще час – другой… И, значит, цель его молитвы достигнута…
А в прорехе появлялись новые звезды и опять проплывали, точно по синему пруду… Я вспомнил звездную ночь, когда я просил себе крыльев… Вспомнил также спокойную веру отца… Мой мир в этот вечер все-таки остался на своих устоях, но теперешнее мое звездное небо было уже не то, что в тот вечер. Воображение охватывало его теперь иначе. А воображение и творит, и подтачивает веру часто гораздо сильнее, чем логика…
Тем не менее на следующий день я кинулся в полемику уже с космографическими соображениями, и споры закипели с новой силой…
Так шло дело до конца каникул. Капитан оставался верным союзником «материалистов», и порой его кощунственные шутки заходили довольно далеко. Однако, по мере того как вечера становились дольше и темнее, его задор несколько остывал.
Однажды засиделись поздно. Снаружи в открытые окна глядела темная мглистая ночь, в которой шелестела листва, и чувствовалось на небе бесформенное движение облаков. В комнате тревожно и часто звонит невидимый сверчок.
В этот вечер капитан несколько перехватил в своем острословии. Жена была им недовольна; кажется, и он был недоволен собою. Лицо его как-то увяло, усы опустились книзу.
– Ну, будет, – сказала тетка. – Пора спать.
Капитан тяжело поднялся с места и, окинув взглядом своих союзников, сказал неожиданно:
– Э! Так-то оно так. И наука и все такое… А все-таки, знаете, стану ложиться в постель, – перекрещусь на всякий случай. Как-то спокойнее… Что нет там ничего – это верно… Ну, а вдруг оно есть…
Под конец он спохватился и придал голосу полуюмористическую нотку. Но жена простодушно пояснила:
– Эх, старый! Кощунствует целый вечер, а потом крестится, вздыхает, боится темноты и будит меня, чтобы я его перекрестила…
– Ну, ну! – остановил ее недовольный муж.
Этот маленький эпизод доставил мне минуту иронического торжества, восстановив воспоминание о вере отца и легкомысленном отрицании капитана. Но все же основы моего мировоззрения вздрагивали. И не столько от прямой полемики, сколько под косвенным влиянием какого-то особенного веяния от нового миросозерцания.
Я все еще не знал ни Писарева, ни Дарвина, ни физиологии и ловил только отрывки, вылетавшие, как искры, из рассуждений и споров старшей молодежи. Борьба за свободу ирландцев против англичан не имела успеха потому, что ирландцы питаются картофелем, а англичане – ростбифами… Это из Бокля. Между тем мешок картофеля прибавляет меньше крови, чем один фунт мяса. Это, кажется, из Бюхнера[157]. Тэн[158] объясняет сильные страсти шекспировских героев, их пламенные монологи и неистово грубые ругательства тем, что предки Шекспира – англо – саксы – набивали животы сырыми ростбифами и пивом… «Мысль, – говорит Фохт[159], – есть выделение мозга, как желчь есть выделение печени». «Материя» и «сила», простейший атом и его механические свойства, слагаясь, дают все, что мы чувствуем как душевные процессы. Разложите на составные части вдохновенный порыв, – останется такое-то количество атомов с их тяготением и ничего больше… Человек – машина и химический препарат вместе. Так его и следует изучать. «Дана нервная дама», – говорит Сеченов в одном этюде, – и рассматривает ее как простой препарат…
Все это на меня производило впечатление блестящих холодных снежинок, падающих на голое тело. Я чувствовал, что эти отдельные блестки, разрозненные, случайно вырывавшиеся в жару случайных споров, светятся каким-то особенным светом, резким, холодным, но идущим из общего источника…
XXXI
Потерянный аргумент
Мы вернулись в Ровно; в гимназии давно шли уроки, но гимназическая жизнь отступила для меня на второй план. На первом было два мотива. Я был влюблен и отстаивал свою веру. Ложась спать, в те промежуточные часы перед сном, которые прежде я отдавал буйному полету фантазии в страны рыцарей и казачества, теперь я вспоминал милые черты или продолжал гарнолужские споры, подыскивая аргументы в пользу бессмертия души. Иисус Навит и формальная сторона религии незаметно теряли для меня прежнее значение…
Юная особа, пленившая впервые мое сердце, каждый день ездила с сестрой и братом в маленькой таратайке на уроки. Я отлично изучил время их проезда, стук колес по шоссе и звякание бубенцов. К тому времени, когда им предстояло возвращаться, я, будто случайно, выходил к своим воротам или на мост. Когда мне удавалось увидеть розовое личико с каштановым локоном, выбивающимся из-под шляпки, уловить взгляд, поклон, благосклонную улыбку, это разливало радостное сияние на весь мой остальной день.
Однажды бубенчики прогремели в необычное время. Таратайка промелькнула мимо наших ворот так быстро, что я не разглядел издали фигуры сидевших, но по знакомому сладкому замиранию сердца был убежден, что это проехала она. Вскоре тележка вернулась пустая. Это значило, что сестры остались где-нибудь на вечере и будут возвращаться обратно часов в десять.
После девяти часов я вышел из дому и стал прохаживаться. Была поздняя осень. Вода в прудах отяжелела и потемнела, точно в ожидании морозов. Ночь была ясная, свежая, прохладный воздух звонок и чуток. Я был весь охвачен своим чувством и своими мыслями. Чувство летело навстречу знакомой маленькой тележке, а мысль искала доказательств бытия божия и бессмертия души.
Время шло; сказывалась усталость. Последние лавки были заперты, уличное движение стихало. Таратайка с долговязым кучером давно проехала по направлению к предместью Воле, но назад еще не возвращалась. Я ходил вдоль речки, не удаляясь от моста, по которому она должна была проехать. Потом остановился и стал глядеть на темную речку. По ней тихо проплывали какие-то белые птицы – не то гуси, не то молодые лебеди, – обмениваясь осторожным, невнятным клекотанием, и мои мысли шли, как эти темные струи с белыми птицами… Казалось, вот – вот я найду то, что мне нужно…
Вдруг до моего сознания долетел чуть внятный звук, будто где-то далеко ударили ложечкой по стакану. Я знал его: это – отголосок бубенчиков. Она уже выехала, но еще далеко: таратайка, пробирается сетью узеньких переулков в предместий. Я успею дойти до моста, перейти его и стать в тени угловой лавки. А пока… еще немного додумать.