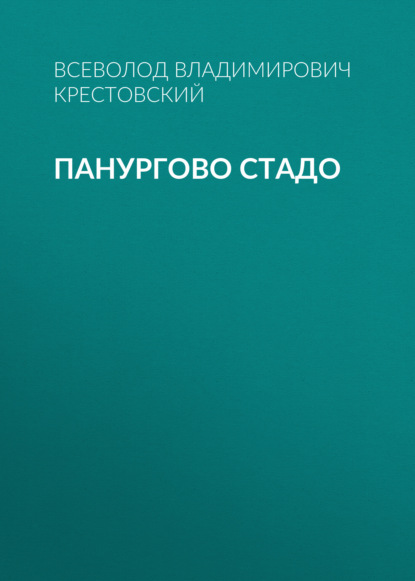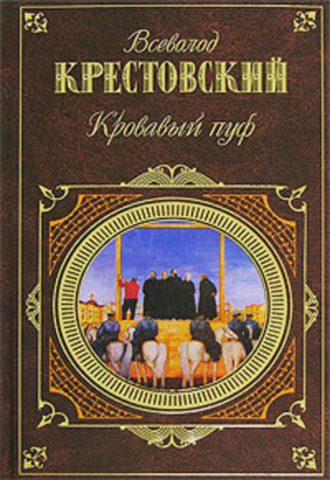 полная версия
полная версияПолная версия
Панургово стадо
И вот теперь, в критическую минуту жизни, сидит Ардальон над своею рукописью и в рассеянной задумчивости перебирает поблеклые листы ее, прочитывая кое-какие места и переносясь мыслью в прошедшее.
Вдруг его словно бы что-то кольнуло.
Быстро восклонясь от стола, он приложил палец к губам и серьезно задумался.
Затем на лице его отразилось некоторое колебание, мелькнула тень сомнения; затем скользнул яркий луч надежды, и наконец все оно самодовольно оживилось лучезарною и радостною улыбкою.
– Эврика!.. эврика, по-гречески значит: нашел! – воскликнул он, целиком повторяя знаменитую фразу Михайлы Васильевича Кречинского.
Через полчаса после этого Ардальон уже сидел за перепискою рукописи, в то же время значительно исправляя, сокращая и уснащая ее перцем и солью.
XXX
Игра в половинки
Через день вся эта работа была уже готова. Полояров отправился к Верхохлебову и приказал доложить о себе по весьма важному «для самого барина» и безотлагательно-нужному делу.
Либерал и патриот поморщился при имени Ардальона Полоярова, однако же, имея в соображении какую-то неведомую важность и безотлагательность, приказал впустить его.
Ардальон по мягкому ковру вступил в кабинет патриота, причем сопровождавший лакей не без презрительной злобы покосился на его смазные сапожищи.
Славнобубенский откупщик жил на широкую ногу. Кабинет его, как и весь дом, носил яркую печать аляповатой, но спесивой роскоши. Тут все блистало бархатом и позолотой: точеный орех и резной дуб, ковры и бронза, и серебро в шкафах за стеклом, словно бы на выставке, и призовые ковши и кубки (он был страстный любитель рысистых лошадей), дорогое и редкое оружие, хотя сам он никогда не употреблял его и даже не умел им владеть, но держал затем единственно, что «пущай, мол, будет; потому зачем ему не быть, коли это мы можем, и пущай всяк видит и знает, что мы все можем, хоша собственно нам на все наплевать!». По стенам, в роскошных золоченых рамах, висели разные картины весьма сомнительного достоинства, но тем не менее на дощечках при них красовались имена Кукука, Калама, Берне, Делароша и прочих. Все эти произведения искусства сбыл ему в Петербурге, за очень выгодный куш, некий аферист, и Верхохлебов необыкновенно был доволен покупкой, «по крайности, стены не будут голые и все же дому украшение». И в зале, и в гостиной, и в кабинете, – словом, повсюду, где только мог, либерал и патриот поразвешивал масляные и фотографические изображения собственной персоны, и не иначе как во всех своих медалях и регалиях «за пожертвования». Особенно в этом отношении отличались зало и кабинет, где висели портреты его во весь рост «в самой государственной позитуре», как говорил он. Слабость к регалиям доходила в нем до того, что он даже сделал какое-то пожертвование самому шаху персидскому, за что и получил большую звезду Льва и Солнца, которую неукоснительно возлагал на себя во всех важных и экстренных случаях жизни.
– Что скажете-с? – вполоборота и почти через плечо обратился он к Полоярову, встретя легким кивком его поклон.
– Скажу очень многое! – с многозначительной усмешкой ответил гость, нимало не изменяя своему обычному, так сказать, полояровскому достоинству. – У вас есть на час свободного времени?
– Это смотря как: иное дело и на два и на три есть, а иное – и на полсекунды нету.
– Ну, для моего, я надеюсь, найдется! – с полною уверенностью заметил Ардальон. – Дело, говорю вам, очень важное, и вы будете мне даже весьма благодарны за то, что я не пошел с ним помимо вас.
– Да в чем дело-то? Вы мне толкуйте прямо, а не с походцем, – сказал Верхохлебов, показывая знаки нетерпения.
– Своевременно узнаете, – спокойно возразил Полояров. – Нам нужно будет поговорить ладком, по-божьи, чтобы толком кончить. Прикажите-ка никого не принимать, пока я здесь.
– Да зачем же это? – с неудовольствием замялся откупщик.
– А затем, что присутствие лишнего человека будет для вас самих обременительно – вот увидите!
Верхохлебов позвонил и отдал требуемое распоряжение.
– Вот это так! Это хорошо! – одобрил нецеремонный гость. – Теперь уж не взыщите – я присяду и вам посоветую сделать то же, потому, знаете, стоя-то неловко.
И усевшись в малиновое бархатное кресло, он вынул из бокового кармана рукопись.
– Что это? Никак статья какая? – прищурился Верхо-хлебов. – У меня, сударь мой, времени нет. Это уж оставьте!
Но Полояров, раз уже добившись такого свиданья, решительно не желал и не мог даже оставить дело и уйти из этого кабинета без какого-либо положительного результата.
– Эй, Калистрат Стратилактович, смотрите, чтоб не пришлось потом горько покаяться, – предостерег он весьма полновесно и внушительно; – знаете пословицу: и близок локоть, да не укусишь; так кусайте-ка, пока еще можно! Говорю, сами благодарить будете! Вы ведь еще по прежним отношениям знаете, что я малый не дурак и притом человек предприимчивый, а нынче вот не без успеха литературой занимаюсь. Полноте! что артачиться! А вы лучше присядьте, да выслушайте: это недолго будет.
– Проектец, что ли, какой? – недоверчиво спросил Калистрат Стратилактович.
– Н-да, пожалуй, в некотором роде, есть и проектец. Вот погляжу, как вы найдете… одобрите ли его. Прошу прослушать!
И комфортно рассевшись в глубоком кресле да заложив нoгy на ногу, Ардальон Михайлович, не без внутреннего удовольствия, принялся за чтение и читал, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой, наблюдая время от времени из-под своих очков, какое действие производит его статья на Калистрата Стратилактовича. Но вначале не было заметно никакого действия. Верхохлебов даже пренебрежительно перебил его:
– Что это? Никак повестулка какая-то?.. Это к нам не подходящее!
– Постойте, не торопитесь, – остановил Полояров. – Оно только вначале так кажется; «но подождем конца!» – сказал дурак какой-то. Вот и вы, батюшка, подождите: своевременно все выяснится, все-с обнажится!
И чтение продолжалось. И по мере того, как продолжалось оно, оказывалось и достодолжное воздействие его на либерала и патриота славнобубенского. Брови его супились, лицо хмурилось, губы подергивало нервическою гримаскою. Он то бледнел, то наливался пунцовым пионом и дышал тяжело, с каким-то сопеньем; на лбу проступали капли крупного поту, а в глазах выражение злобы и негодования сменялось порою выражением ужаса и боязни.
До этой минуты либерал и патриот славнобубенский ни разу еще в жизни своей не испытывал на собственной шкуре канчуков и плетей той «благодетельной гласности», за которую он столь часто и столь горячо распинался.
Полояров очень хорошо подмечал все, что с ним делалось, и это обстоятельство придавало ему еще более прыти. Он, не смущаясь нимало, читал еще с бóльшим чувством, толком и расстановкой.
Опубликование подобной статьи, во всяком случае, было в высшей степени неблагоприятно, невыгодно для Калистрата Стратилактовича. Она, из тьмы винных подвалов и из-под спуда собственной его совести, выводила на свет Божий множество таких делишек, которые либерал и патриот считал безвозвратно канувшими в пучину забвения. А тут вдруг, нежданно-негаданно, всплывают они напоказ почтеннейшей и благосклонной публике, во всей своей неприкосновенности, во всем блистании своей подпольной красоты. Особенно некстати было все это именно в настоящее время, когда патриот только что сделал новое «пожертвование» и, чрез ходатайство фон-Саксена и иных сильных людей в Петербурге, ожидал получения святой Анны на шею.
Святая Анна! Боже мой!.. Он так давно и так сердечно мечтал о ней, так томился, ждал и надеялся, совершенно основательно полагая ее гораздо выше Льва и Солнца, «хоша Лев будет и не в пример показистее», – он уж даже призвал к себе живописца и заранее заказал ему перемалевать на портретах свои регалии, чтобы выше всех прочих начертить сердечно-приятную Анну, и теперь, когда Анна готова уже украсить собою его шею – вдруг, словно с неба, свалился – на-ко тебе! – эдакой позорный скандалище! «И хоть бы имя-то как-нибудь замаскировал, злодей, а то так-таки и катает прозрачным псевдонимом: вместо Верхохлебова, да вдруг Низкохлебов – ну, кто же не узнает? И для кого еще останется хотя малейшее сомнение? Но главное тут – Анна, святая Анна, которая столь привлекательно улыбается ему в недалекой перспективе, а после этой мерзости – того и гляди – придется навеки сказать ей нежное прости! И весь капитал, значит, пошел ни к черту! Верхохлебов уразумел теперь ясно, что по всем вероятиям придется ему теперь делать новое „пожертвование“, только уж не в пользу казны, – и в тайнике сердца своего решил, что сделать его необходимо.
«Десяти тысяч не пожалею, – думал он, – а уж этой пакости не допущу!.. Потому имя марает… Лишь бы более не запросил, каналья… В случае надобности можно и поторговаться. А как упрется?.. Вот она штука-то!.. Коли упрется, пожалуй, что и уступишь… Эка напасть, помилуй Господи!..»
Полояров кончил.
Патриот отдувался, словно кузнецкие мехи, и вытирал платком обильный пот со своей пунцовой физиономии.
– Как вы находите это, почтеннейший Калистрат Стратилактович? – не без гордой иронии отнесся к нему Ардальон Михайлович.
– То есть! что же-с? – пробормотал тот невнятно; – пашквиль какой-то… Значит, пашквилями заниматься изволите… Что ж, это похвально!
– Да не в том сила-с! Каждый занимается чем может: кто от откупов наживается, плоть и кровь народную высасывает, а кто литературным трудом добывает; дело это, значит, от талантов и от способностей. А вы скажите-ка мне лучше, узнаете ли вы кого-нибудь в господине Низкохлебове?
– Почем же мне знать-с?.. Что вы там напишете, – я знать этого не могу… Откуда ж мне!..
– Э, полноте, батюшка! Чего тут политику-то эту!.. Давайте лучше дело начистоту: эта рукопись приготовлена мною для печати и отсылается завтра же в Питер, в самых верных и надежных руках. Вы знаете, что ведь меня все журналы печатают, а за эту штуку обеими руками ухватятся! Одна «Искра»-то чего стоит, а уж о других нечего и говорить!.. Впрочем, я в «Искру» дам одно только извлеченьице, а всю эту штуку помещу в «Современнике». Скажите же откровенно: угодно вам, чтобы это все было целиком, как есть, пропечатано?
– Да мне-то что же-с!.. Конечно… я-то, собственно, не желал бы. Потому что ж это… марать отечественную литературу такими пашквилями. Дело зазорное-с!
Полояров нагло расхохотался.
– Да полноте вам, почтеннейший, вилять-то!.. Ведь мы отлично понимаем друг друга! Не бойтесь, один другого не проведет! Скажите напрямик: я, мол, не желаю, чтобы это было напечатано! Тогда у нас и разговор пойдет настоящий, значит, по-Божьи!..
– Да ведь за это можно и к суду потянуть… Это ведь дело персональное-с, – погрозился патриот.
– Ге-ге! Куда хватили! – ухмыльнулся обличитель. – А позвольте спросить, за что же вы это к суду потянете? Что же вы на суде говорить-то станете? – что вот, меня, мол, господин Полояров изобразил в своем сочинении? Это, что ли? А суд вас спросит: стало быть, вы признали самого себя? Ну, с чем вас и поздравляю! Ведь нынче, батюшка, не те времена-с; нынче гласность! газеты! – втемную, значит, нельзя сыграть! Почему вы тут признаете себя? Разве Низкохлебов то же самое, что Верхохлебов.
– Не то же, да похоже, – возразил сбитый с пункта Калистрат Стратилактович.
– Похоже да не с рожи, хоша к делу и гоже – знаете, как говорится это по-простому! – подхватил Ардальон.
– Но я… я могу сказать, как дело было-с, как вы у меня в кабинете все это читали, как торговались…
– Можете! – согласился Полояров. – А где, позвольте узнать, – где у вас на все на это свидетели найдутся? Дело-то ведь у нас с глазу на глаз идет, а я – мало ль зачем мог приходить к вам! Кто видел? кто слышал? Нет-с, почтеннейший, ни хера вы на этом не возьмете! И мы ведь тоже не лыком шиты! А вы лучше, советую вам, эдак душевно, по-Божьи! Ну-с, так что же-с? – вопросительно прибавил он в заключение, – говорите просто: желаете аль нет?
– Не желаю, – тихо и как бы стыдливо сказал, наконец, Верхохлебов, упорно глядя на ковер сильно потупленными глазами. В эту минуту у него просто дух захватило, «а ну, как хватит, каналья, сейчас такую цифрищу, от которой семь кругов огненных в глазах заколесятся?!»
– Не желаете? – прищурился Ардальон. – Ну, так покупайте за тысячу рублей!
Верхохлебов чуть с места не вскочил, чуть в глаза не расхохотался своему мучителю, чуть дураком его не назвал. Но ярославская сметка молнией озарила его голову. Он тотчас же быстро сообразил положение противника, сравнительно со своим собственным, и солидно сдержал себя от всяких сильных и неуместных проявлений своих чувств и мыслей.
«Эге! – подумал он. – Малый-то, как видно, голяк, щелкопер… Ну, друг любезный, для тебя и тысячи, значит, уж больно много. Не к рылу тебе деньги такие… Не умеешь ты ими пользоваться!»
– Хе, хе, хе! – тихо засмеялся он в бороду, с чисто великорусским шильническим лукавством истого кулака. – Тысячу!.. За что же-с тут тысячу?.. Как это вы легко такие крупные суммы валяете!.. У меня ведь не самодельная, чтобы на ветер, зря, по тысяче кидать!.. А вы не заламывайте – вы по душе скажите!
– Н-н… нет, менее тысячи нельзя, – запнувшись, сказал Полояров, и в голосе его явно дрогнуло внутреннее сомнение.
– Чего тут нельзя!.. Вам нельзя взять, а мне нельзя дать – у каждого, значит, свои расчеты. А вы возьмите половинку? пятьсот? ась? Пятьсот рубликов? Что вы на это скажете?
– Н-нет, пятьсот слишком мало… Пятьсот невозможно!..
– Эх, любезнейший! Ну, что вы мне говорите! Ведь напечатать-то, так вам за нее сущую пустяковину дадут! Знаем мы тоже, что вашему брату платят-то! Ну, что ж это такое? – говорил Верхохлебов, взяв рукопись и перелистывая ее да прикидывая на вес по руке. – Так себе, жиденькая тетрадочка… Ну, сколько тут листиков-то этих? Сущая безделица! Поди-ка, и всей-то бумаги на четверть фунта не будет, а вы вдруг – тысячу! Берите-ка лучше по чести пятьсот! Деньги хорошие! Ведь экие куши на панели не валяются… берите, что ль, а то я неравно рассержусь!
– Нет, пятьсот мало… Ей-Богу, нельзя, никак нельзя мне! – полусдавался колеблющийся обличитель.
– Ну, так печатайте! Мне все равно!.. Мне это равно что наплевать, коли вы чести не понимаете! – решительно махнул рукой Верхохлебов. – Прощайте! Извольте уходить отсюда!.. Извольте!.. Мне некогда тут с вами!.. Поважнее вашего дела есть. Ступайте, любезнейший, ступайте!
И он его выпроводил за двери.
«Что же, коли напечатать ее? – грустно раздумывал Полояров, очутясь уже вне кабинета, – ведь тут не более как два с половиной листа печатных, а дадут за них… ну, много-много, коли по пятидесяти с листа… И то уж красная плата! Значит, за все сто двадцать пять, а гляди, и того меньше будет… Что ж, пятьсот рублей цена хорошая, ведь это выходит по двести с листа. Да такой благодати вовек не дождешься! Ну его к черту, помирюсь и на этом!»
И он направился обратно к кабинету.
А в это самое время Верхохлебова одолевали мысли и сомнения другого рода.
«А ну, как напечатает! – волновался он в нерешимости. – Ведь скандал-то какой! Скандалище!.. А тут Анна… а тут срам, позор… да и следствие, пожалуй!.. Вернуть его нешто? Уж куда ни шла тысяча! Дам ему!»
И он тоже направился вдогонку за Полояровым.
Столкнулись они в самых дверях.
– А, вы еще здесь!.. Чего вам? – окинул его патриот притворно-удивленным взглядом, сразу смекнув, что фонды его не совсем еще плохи.
– Я, Калистрат Стратилактович, согласен, – угрюмо проговорил обличитель.
– То есть насчет чего-с это? – прищурился тот с обычным шильничеством.
– Да насчет пятисот… Уж так и быть! Для вас только!
– Ах, насчет пятисот!.. Да-с; ну, так что же?
– Вот вам рукопись, и позвольте деньги.
– Да-с… Рукопись? Очень хорошо-с. Так вы теперь согласны?.. Так-с, так-с… Да я-то вот, видите ли, не согласен уже: я раздумал.
– Как же это так, право! – почти жалобно простонал Полояров.
– А так, что надо было не привередничать, а сразу брать тогда, когда давал. Вот оно что-с, любезнейший!
– Да нет, это вы шутите!.. Давайте пятьсот и покончим!
– Нет-с, сударь мой, теперича уж я вам не дам пятисот, а не угодно ли помириться на половинке? – игриво предложил Верхохлебов.
«Да что ж это, дневной грабеж просто!» – в отчаянии помыслил Ардальон, почувствовав себя в некотором роде к стене припертым.
– Нет, перестаньте, Калистрат Стратилактович! – уговаривал он уже чуть не просительным тоном. – Ей-Богу, клянусь вам, меньше пятисот никак невозможно!
– Не, не! Полно, любезнейший, полно! Что баловать-то! – отрицательно замахал откупщик. – Бери двести пятьдесят, а то через минуту и половины-то не дам!
Ардальон живо смекнул, что половина двухсот пятидесяти будет как раз сто двадцать пять, то есть maximum журнальной платы.
– Ну, нечего делать! Получайте рукопись! – с глубоко скорбным и досадливым вздохом сказал он. – Только не думал же я, Калистрат Стратилактович, чтобы вы были такой… Эх, право!
– Ну, а ты напредки думай! Это, значит, наука!
– Да уж что с вами!.. Вот вам тетрадка, давайте деньги.
Верхохлебов принял с рук на руки полояровский пасквиль и внимательно поглядел на рукопись.
– Да ведь это беляк? – спросил он.
– Беляк, Калистрат Стратилактович.
– Ну, то-то, я вижу, что беляк. А вы мне, батюшка, чернячок пожалуйте, а без того нельзя. Мне и чернячок тоже нужен. Доставьте прежде чернячок, тогда и деньги получите.
– Да на что же вам черняк-то? Не все ли равно это?
– Нет, уж все-таки для спокойствия… Так-то поблагонадежнее будет.
Полоярова покоробило. Он понял, что этого гуся никак не проведешь.
– Хорошо-с, я вам доставлю завтра утром, – попытался вильнуть он в последнее.
– Э, нет, милейший, завтра уж будет поздно! – отрицательно развел руками патриот. – А вы мне его сейчас же доставьте, не медля ни секундочки, тогда и деньги с рук на руки.
Ардальон согласился и на извозчике полетел домой за черновою рукописью. Его душила злость и досада, но в тщетном бессилии злобы он только награждал себя названиями осла и дурака, а Верхохлебову посылал эпитеты подлеца и мерзавца. «Двести пятьдесят рублей – шутка сказать! – так-таки ни за что из-под носа вот прахом развеялись!.. Экой мерзавец! Чуть три половины не отнял! Три половины! Тьфу, подлец какой!»
Через четверть часа он опять уже стоял в откупщичьем кабинете.
– Ну что, милейший, привезли?
– Привез, Калистрат Стратилактович! Извольте получить.
Верхохлебов взял черняк и тщательно проверил его с беловою.
– Да уж не беспокойтесь, верно! Не надую, поверьте слову! – убеждал его Ардальон Михайлович. – Вы мне деньги-то поскорее давайте!
– Позвольте, батюшка!!. Деньги!.. Так дела не делаются. Своевременно и деньги получите; не задержу-с, не бойтесь! А вы сперва вот что, – солидно предложил он с видом вполне довольного, резонного человека. – Извольте-ка мне прежде выдать такую подписку, что вы обязуетесь ни на меня, ни на мое семейство никаких более пашквилей не писать во всю вашу жизнь, и что все написанное вами в переданных ныне статьях есть ложь и пашквиль, одна только ваша чистая выдумка, от которой вы, по совести, отказываетесь и нигде более ни письменно, ни устно повторять этой лжи не станете. Вот, как вы мне дадите такую подписку, я вам и деньги вручу-с. Понимаете?
Полояров увидел, что тут, как ни вертись, а ровно ничего не поделаешь, и потому присел к столу и под диктовку Верхохлебова настрочил требуемую подписку.
Калистрат Стратилактович внимательно перечел ее, аккуратно сложил пополам и вместе с двумя рукописями запер в свой массивный несгораемый шкаф, ключ от которого неизменно носил в кармане. Оттуда же, из одной полновесной пачки (Ардальон очень хорошо заметил эту полновесность быстрым и горящим взором) отсчитал он две новенькие радужные бумажки да одну серую и с полупоклоном подал их Полоярову.
– Таперича, значит, дело между нами чисто, – сказал он с облегченно-сияющей физиономией.
– Послушайте, Калистрат Стратилактович, – в минорном тоне заговорил Ардальон, кисло и жалостно пожимаясь, – ведь вы у меня, ей-Богу, за бесценок приобрели, сами понимаете!.. Ведь только одна крайность моя… Вы бы что-нибудь прибавили… право! Ей-Богу, не грех бы вам! Ведь не разоритесь!
– Ну, ну! не скрипи, не скрипи! Уж так и быть, куда ни шло, одну красненькую накину! – пренебрежительно утешил его патриот, выбрасывая на стол десятирублевую ассигнацию.
И вдруг захотелось ему, жестоко захотелось, до какого-то дьявольского зуда во всей воле и во всем помышлении, во всем сердце своем, беспощадно поддразнить Ардальона Полоярова.
Он выждал, пока тот положил деньги в карман и стал откланиваться.
– Постой-ка, милый, постой малость самую! – остановил он его. – Слово тебе хочу сказать еще одно.
И самодовольно растопырив ноги и фертом заложа в карманы панталон мясистые руки свои, с серьезным лицом, но нагло издевающимися глазами стал он глядеть в полояровскую физиономию.
– Что вам угодно? – угрюмо повернулся обличитель.
– А мне угодно сказать тебе, что ты дура! Как есть дура-баба несуразая! Ведь пойми, голова, что я тебе за этот самый твой пашквиль не то что тысячу, а десяти, пятнадцати тысяч не пожалел бы!.. Да чего тут пятнадцать! И все бы двадцать пять отдал! И за тем не постоял бы, кабы дело вкрутую пошло! Вот лопни глаза мои, чтоб и с места с этого не сойти, когда лгу… А потому что как есть ты дура, не умел пользоваться, так будет с тебя и двух с половиною сотенек. Вот ты и упустил всю фортуну свою! Упусти-ил!
И он весело и самодовольно расхохотался прямо ему в лицо своим широким, размашистым и неудержимым смехом. Полояров побледнел и даже зашатался от этого нежданного удара. Лицо его перекосила злостная судорога.
– У меня… все ж таки остались факты! – проговорил он с трудом и чуть не задыхаясь.
– Факты! – шильнически прищурился Верхохлебов. – Нет, брат, врешь! Вон они где, факты-то, у меня в шкапчике!.. И только, значит, пикни ты мне, так ничего не пожалею, а уж засужу! За бугры спровожу!.. И всю подписку твою целиком пропечатаю! Ну, да теперь уже кончено! Что с возу упало, то пропало! – благодушно-плутовски махнул он рукою. – Пошел, пошел отсюда! Проваливай, сударь! Недосуг мне с тобою!.. Ишь, сапожищами-то по ковру наследил как! У меня, брат, ковры дорогие, один, поди чай, стоит дороже тебя самого и со всеми-то потрохами твоими. Ну, убирайся же, с Богом, убирайся! Христос с тобою!
И он, без церемонии, деликатными, легонькими толчками выпроводил его из комнаты.
XXXI
Прощаюсь, ангел мой, с тобою
Как представить всю великую степень досады и злобы, которыми воспылал Ардальон Полояров по выходе от Верхохлебова. Он действительно почувствовал, что лишился всей фортуны своей и, кроме того, еще дозволил насмеяться и надругаться над собою «какому-нибудь» Калистрату Верхохлебову, тогда как час тому назад он из этого самого Калистрата веревки мог вить, и Калистрат не пикнул бы. Хуже всего то, что сам Ардальон чувствовал и сознавал, как разыграл он жалкого дурака и упустил из рук своих львиную силу. «Как Исав… как Исав, за чечевичную похлебку!» – думал он; «да и тот-то поступил умнее, потому продал какое-то там фиктивное первенство, а я капитал… капитал!.. двадцать пять тысяч серебром продал за двести пятьдесят рублишек!» И на глаза его чуть слезы не проступали от боли всей злобы его.
После такого пассажа и тем паче невозможно было оставаться в Славнобубенске; Ардальону казалось (впрочем, совершенно неосновательно), будто здесь каждая собака, каждый камень на улице будет знать, какого дурака разыграл он и как надругался над ним – шутка сказать, над ним, над Ардальоном Полояровым! – какой-нибудь кабатчик… Самолюбие вопияло. Надо было удирать поскорее. Он поехал на пристани узнать, когда отходят вверх пароходы. Оказалось, что Самолетский пойдет завтра в двенадцать часов дня, – «стало быть, с ним и поедем».
Вернувшись домой, Ардальон наказал хозяйке, что кто бы его ни спрашивал, а особенно Затц и Лубянская, говорить всем «дома нет и когда будет – неизвестно и комната его заперта, и ключ унес с собою». После таковой меры предосторожности он спешно упаковался, уложил в чемодан все свои пожитки да бумаги и принялся за письмо к невесте.
«Лубянская! Вас, конечно, удивит это послание, – писал он, – но удивляться тут в, сущности, нечему. Я получил извещение, которое немедленно призывает меня к делу. Надеюсь, вы поймете, что дело для нас прежде всего. Я бы позволил каждому назвать себя презренным эгоистом и подлецом, если бы ради моего личного комфорта и счастия, ради моих личных выгод решился пожертвовать счастием миллионов и делом, которое составляет высшие стремления людей нашего закала. Мой разум, моя совесть наконец решительно воспрещают мне думать исключительно о себе там, где надо бескорыстно служить делу. Думать и желать иначе было бы малодушно. Я люблю вас и, сколь ни горестно это, вижу тем не менее, что нам необходимо расстаться. Надолго ли? Это покажет будущее. Если со временем ваше чувство ко мне не остынет, можете приехать в Петербург, где я, вероятно, и останусь. Тогда от нас будет зависеть, продолжать ли наши отношения или нет; тогда же, глядя по обстоятельствам, быть может, успеем и сочетаться законным браком. Если же вам понравится кто-либо другой, можете спокойно назвать его своим супругом и быть уверенною, что я ни на минуту не позволю себе стеснять какими бы ни было обязательствами вашу судьбу. Во всяком случае, надеюсь, мы расстаемся друзьями. Пожелайте мне успеха в наших честных начинаниях, в нашем общем великом деле. Если все семена, брошенные мною на вашу почву, не пропали бесследно, то я с полным моим уважением буду считать вас женщиной дела, а как женщина дела, вы не имеете даже права выставлять на первый план ваши личные, эгоистические желания и чувства и охотно покоритесь необходимости. Постарайтесь легко перенести нашу разлуку, быть может, только временную. Со временем, если обстоятельства позволят, повторяю вам, вы можете приехать. Вас ожидает тогда новая жизнь с неизменно преданным вам