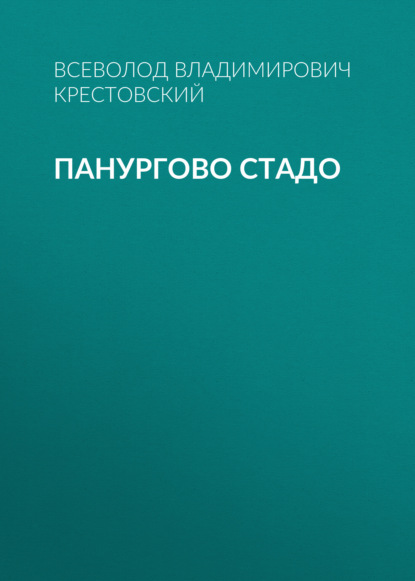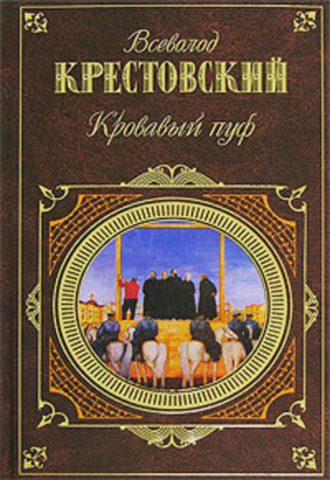 полная версия
полная версияПанургово стадо
– Да от кого же, однако? – закричал вдогонку ему Шишкин, взволнованно выбежав на двор, но чья-то тень без ответа мелькнула в калитке и скрылась на улице.
Экс-гимназист постоял в несколько тревожном раздумье и вернулся в горницу.
«Что ж бы это значило?.. И что за странная таинственность!» – думал он, ощупывая конверт. – «Прочесть его; да как прочтешь-то?.. Хозяева не дадут ведь свечки».
Но недаром говорится, что голь хитра на выдумки. Вспомнил он, что под кроватью валяется какая-то старая дощечка – дерево, стало быть, сухое. Он нашарил ее рукой и наколол лучины. Спички, слава Богу, тоже нашлись, и Иван Шишкин устроил себе освещение.
Посмотрел он на конверт – нет никакой надписи; недоверчиво сорвал печать, развернул письмо: из бумажки выпала двадцатипятирублевая ассигнация.
«Господи!.. да что ж это?.. благодетель какой-то неведомый!» – вскрикнул он в радостном восторге, и веря, и не веря глазам своим. Ощупал поднятую бумажку, внимательно осмотрел ее перед огнем: так, действительно двадцать пять рублей, и эта цифра не подлежит уже ни малейшему сомнению. Что ж это значит?
Взглянул на почерк; рука была совсем незнакомая. Он жадно стал читать письмо:
«Ваш смелый поступок на литературно-музыкальном вечере доказал, что вы обладаете в достаточной мере гражданским мужеством. Ваше последующее благородное поведение побуждает нас верить, что вы человек честный, который действовал сознательно, из служения своему принципу. Хотите ли стать в ряды тех деятелей, которые несут с собою новое социальное устройство свободного общества? Хотите ли приносить пользу честному делу? Если да, то дайте ответ. Вам дается сроку два дня на то, чтобы подумать и решиться. Ответ вы можете дать следующим образом: завтра, или послезавтра, ровно в четыре часа пополудни, в городском саду, на повороте из главной аллеи в поперечную среднюю, против второй скамейки, начертите тростью на песке дорожки крест, так чтоб его можно было удобно заметить. Зная ваши временно стесненные обстоятельства, покорнейше просим не отказаться от общественного пособия из того фонда, который существует в нашем обществе для вспоможения его членов в их полезных предприятиях. Во всяком случае, – угодно ли вам будет принять наше предложение, или нет – вы должны прежде всего хранить самое строгое молчание, под страхом неминуемой ответственности пред трибуналом общества».
Волнение от всей этой внезапности; радость при нежданных и весьма значительных для него деньгах; страх пред странным тоном письма и особенно пред заключительной и весьма-таки полновесною угрозой; заманчивость этой загадочно-таинственной неизвестности, за которою скрывается какая-то неведомая, но, должно быть, грозная и могучая сила, (так по крайней мере думал Шишкин) и наконец это лестно-приятное щекотание по тем самым стрункам самолюбия, которые пробуждают в молодом человеке самодовольно-гордое сознание собственного достоинства и значительности, что вот, мол, стало быть, и я что-нибудь да значу, если меня ищут «такие люди». Вот мысли, чувства и ощущения, которые овладели восемнадцатилетним юношей по прочтении письма, неведомо кем поданного. Все это так странно, так неожиданно, внезапно, в такую пору, в такую минуту – кто же, и что же это такое? У Шишкина просто голова закружилась. Он отчасти испытывал ощущения человека, стоящего на самом краю площадки очень высокой башни. «А ну, как поймают, как все это раскроется, обнаружится? тогда что?.. Страшно, черт возьми!.. Страшно, но заманчиво. Служить честному, великому делу, быть членом… самому быть членом….Меня зовут… меня ищут… они первые обратили на меня внимание, они, а не я… значит, я стою того, если меня избирают!»
И он снова перечитал письмо и старался вчитываться в отдельные, наиболее льстящие самолюбию фразы, повторяя их про себя по два и по три раза и словно бы любуясь этими фразами, их смыслом, значением, их красивою сверткою.
Им овладело какое-то щекотно-щемящее, захватывающее, жуткое чувство. Самолюбие разыгрывалось все более. Он уже так живо стал воображать себя деятелем… чего? – это ему самому не было еще вполне ясно, – деятелем чего-то, но чего-то высокого, честного, благородного, деятелем, окруженным таинственностью грозной силы. «Новое социальное устройство свободного общества», кажется, так сказано в этом письме? – Да, так точно! Он воображал себя устраивающим нечто большое, пред чем все преклоняются, дивятся ему и завидуют… Он известен, он знаменит, имя его гремит во всех русских и европейских газетах и журналах, о нем говорят, им интересуются, ему удивляются… Его везде и повсюду встречают почет, и любовь, и слава народная… Он говорит с народом, дает ему новые свободные права, народ избирает его своим диктатором… Наполеон… Ведь мог же Наполеон добиться всего этого! Простой артиллерийский поручик!.. Директор и инспектор гимназии приходят к нему и униженно вымаливают пощады, потому что на площади эшафот стоит… Он отсылает их на эшафот, но там, в самую роковую минуту, дарит им пощаду и жизнь, в виду восторженного народа, и даже награждает весьма значительными деньгами… хорошенькая племянница директора вне себя от радости, кидается ему на шею. Да что племянница! тут уж не племянница, а княгини и графини… Но нет! Он не унизится до брака с княгиней… Его жена (если уж жениться!) должна быть гражданкой, демократкой… А вдруг жандармы? вдруг Пшецыньский является?.. Обыск, арест, казематы… Его вывозят на площадь, читают приговор… Он гордо и смело всходит на эшафот… «Я умираю за вас!» – говорит он народу… На ногах его кандалы, на руках кандалы, на плечах каторжная сермяга с бубновым тузом… Длинная, бесконечно длинная снежная пустыня… кандалы – звяк, звяк… песня долгая поется во всю широкую грудь… Тобольск прошли… Томск прошли… Иркутск прошли… Нерчинск. Так ведь, кажется? «Тобольск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Чита – главный город Забайкальской области», Бог знает, по какому сцеплению мыслей и почти машинально вспоминает Шишкин старый, давно уже наизусть заученный урок из географии. И он идет бодро и гордо… Он страдает, но не падает духом… «Я за вас страдаю», говорит он кому-то; «вы не признали, вы отвергли меня!.. Я гибну… Что ж? Ничего!.. Пусть гибну я, но я гибну за честное дело! за свободу!.. за свободу миллионов братий моих!»…
Так мечтал юноша. Мысль его перелетала от знаменитости и диктатуры к кандалам и Нерчинску; но одно его прельщало, другое же не пугало нисколько: в обоих случаях он чувствовал и мечтал себя героем… И все это казалось ему так просто, так легко и возможно – и яркое восемнадцатилетнее, золотое воображение заносилось все дальше и дальше, все выше, все привлекательней… Он почувствовал себя как-то жутко, болезненно-счастливым. Двадцатипятирублевая ассигнация лежала перед ним; он взял ее, и с тем особенным наслаждением, которое хорошо знакомо людям, очень редко имеющим в руках своих деньги, пощупал и пошурстел ею между кончиками пальцев. Он воображал себя почти богатым. «Теперь деньги будут!» – говорит он себе с непоколебимою уверенностью. «Теперь-то уж наверное будут!.. И много будет… У них вон фонд какой-то есть… для членов… значит, будут!.. Матушке надо рублей десять снести… То-то обрадуется!.. Скажу: заработал!.. „Молчать под страхом неминуемой ответственности“… Ну, еще бы тебе болтать! что я, мальчишка, что ли!.. Хорошо бы кумачовую рубаху завести, как у Ардальона Михайлыча… А ведь он верно тоже тово?.. Впрочем, нет, – где ему?! Только надо бы еще и поддевку… плисовую… Если когда случится то, так непременно такой указ надо издать, чтобы фраки и мундиры долой, а одне бы только поддевки»…
Но мечтая таким образом и быстро перебегая от одной мысли к другой, Шишкин вспомнил, что он сегодня очень плохо обедал, то есть, лучше сказать, совсем не обедал, а съел одну только трехкопеечную булку, которую купил на бурлацкой пристани. Желудок, при этом воспоминании, не преминул заявить о себе довольно чувствительным голодом. Юноша запрятал письмо в комод, отыскал шапку и весело отправился в трактир, аппетитно разрешая вопрос: чего бы лучше заказать себе, поросенка под хреном или московскую селянку на сковородке?
Вернувшись домой уже сытый и притом с фунтом стеариновых свечей под мышкой, да с пачкой папирос в кармане, Шишкин почувствовал себя еще более довольным и счастливым. На сытый желудок, при ровном свете свечи и в струйках табачного дыму, лежа на постели, мечталось еще лучше. Он часто и так доверчиво улыбался широкою, мечтательною улыбкою на свои увлекательные фантазии, поминутно ворочался с боку на бок и очень долго не мог заснуть. Порою нечто острое и жуткое возвращало его из мира поэзии в мир действительности, и вставал пред ним серьезный и словно бы какой-то лотерейный вопрос: что же делать? Как быть? Ведь завтра или послезавтра!
«Ну, конечно, крест! Есть тут долго думать о чем!..» – беззаветно порешил он себе.
«…Против второй скамейки, на повороте из большой в среднюю поперечную… Однако же, как подумаешь, Господи, как страшно все это!»
Наконец-то Шишкин заснул, и снились ему все те же грезы, – снилась широкая, снежная пустыня… снилось дарование новых прав и диктатура над Русскою землею, и уничтоженный инспектор, и директорская племянница, и плисовая поддевка… Это были золотые, счастливые, героические сны и грезы.
XXV
Крест начерчен
Шишкин с нетерпением ждал назначенного часа. На нынешнее утро раздумье почти уже не приходило ему в голову. Он решился: «была не была!» Утром сходил в больницу к матери и снес ей десять рублей, сказав, что получил два новых и очень выгодных урока по рублю за час. Старуха, действительно, и удивилась, и обрадовалась несказанно, да и сын-то был доволен, что успел доставить ей эту надежную радость.
– Теперь, маменька, вы только выздоравливайте! – утешал он ее, – а денег у нас с вами будет вдоволь! Вот погодите: заживем припеваючи.
Та слушала, и старое сердце ее дрожало любовью и слезами…
«А как же, если Сибирь… как же она-то ?» – мелькнула ему неприятная, укорливая мысль, и он сам себе удивился, что до этих пор во всех его мечтах и предположениях, при всем их калейдоскопическом разнообразии, мысль о матери ни разу не пришла ему в голову.
«Как же мать-то?.. Что она тогда?» – думал он и тотчас же утешил себя самым успокоительным заверением, что Сибирь – вздор! «Сибири не будет; надо только уметь молчать хорошо… Ведь уж они-то, при их силах, при их средствах, знают же, что делают».
Кто были эти они – Шишкин не знал, и как ни бился со вчерашнего вечера, все-таки никак не мог определить себе их даже приблизительно; но при этом в нем почему-то поселилось твердое убеждение, что они сила, ворочающая очень большими и могучими средствами.
Он ждал не дождался, когда-то, наконец, придут эти желанные четыре часа, и время сегодня казалось ему каким-то бесконечным. Уйдя от матери, он долго без цели бродил по городу, наконец, в два часа пообедал в трактире и прямо оттуда отправился в городской сад. Вот и условный перекресток, вот и вторая скамейка… на этой самой дорожке будет начерчен крест… Кто же заметит его? Кто прочтет этот ответ? Кто такой это будет? Теперь уже Шишкина завлекло лихорадочное любопытство разгадать поскорей, кто такие эти таинственные, неведомые они, которым он уже весь принадлежит и душою, и телом, на жизнь и на смерть (так ему думалось).
День был прекрасный. В саду пестрело много гуляющих. Юноша пытливо и притом с особенною выразительностью вглядывался во многие лица, стараясь разгадать: не один ли из них это идет мимо него.
Но вот, наконец, на соборной колокольне пробило четыре.
«Что ж, чертить или нет?..» «Или пан, или пропал!.. Все равно теперь!» Он торопливо, но внимательно огляделся во все стороны: кажется, никто не обращает на него особенного внимания. Встав со скамейки и приняв равнодушно-рассеянный вид, нервно-дрожащею рукою резко начертил он на песке крест и, посвистывая да поглядывая вверх на ветки и прутья, с независимым видом и как ни в чем не бывало, пошел себе вдоль по дорожке.
А между тем лицо его было несколько бледно, и сердце билось шибко-шибко и немного болезненно.
«Ну, теперь уж кончено!.. Баста навеки!.. Теперь уж нет возврата», – думал он себе – и было ему, по-вчерашнему, так жутко и так радостно, только ощущения эти сказывались теперь еще ярче и сильнее.
Он прошел несколько раз по аллее, все ожидая, что вот-вот кто-нибудь сейчас подойдет к нему, дотронется легонько до плеча, шепнет какое-то условное, таинственное слово и поведет за собою, и приведет куда-то, и там будут они, и он всех их увидит, и начнут они сейчас «дело делать»…
Но тщетно прохаживался и ждал увлекающийся юноша, тщетно заглядывал в лицо чуть не каждому прохожему, – к нему никто не прикасался и не шептал таинственного слова.
Он прошатался по саду до позднего вечера, да так и не дождался, и ушел с досадой и почти что с полным разочарованием в сердце. Мечтам его на сей день не суждено было сбыться.
XXVI
Из тех или нет?
На другой день, навестив нарочно пораньше свою мать, Шишкин отправился по-вчерашнему бродить по саду. Но все ожидания его точно так же были тщетны. Думая, что крест его либо не был замечен, хотя он очень хорошо видел две резкие черты, – либо никто из них не пришел вчера, вероятно, ожидая на сегодня крайнего назначенного срока, – он, едва лишь пробило четыре часа, начертил новый крест на том же самом месте, со всеми вчерашними предосторожностями, и отправился гулять по главной аллее. Предположив, что его прогулка мимо креста, выказывая известную степень ненужного любопытства, быть может, послужила причиной, что никто не подошел к нему из понятной предосторожности, он на нынешний раз, сделав должное, нарочно стал прохаживаться по другим дорожкам.
Но опять-таки и на сегодня, до самого позднего вечера были тщетны все его ожидания. Озадаченный и еще более раздосадованный, он решился на завтра целый день не выходить из сада, и точно: привел это решение к самому аккуратному исполнению, но результат оказался все так же безуспешен.
Тем не менее ретивый юноша решился продолжать ежедневно свои прогулки, до тех пор, пока не добьется чего-нибудь положительного.
«Ведь не может же быть, чтобы мистификация! Да и с какой же стати?» – рассуждал он сам с собою. – «Какой же дурак, ради одной шутки, станет посылать такие деньги? А если кто-нибудь и решился оказать мне помощь, так тот, конечно, не стал бы шутить и издеваться надо мною. Это было бы несообразно».
Заключения Шишкина были вполне рассудительны. Он гулял по саду, почти уже потеряв всякую надежду на осуществление нетерпеливой мечты своей, но все-таки ходил, почти из одного упрямства. Странная обстановка всего этого приключения положительно сбила его с толку. Он ломал себе голову над разрешением мудреной загадки и все-таки ни до чего не добился. Думал было в третий раз начертить условный знак, так как прежний был уже стерт ступнями гуляющего люда, но поостерегся, чтобы не подать этим кому-либо излишних подозрений. Уже четвертый день сряду проводил он в городском саду.
Был третий час в начале.
День стоял прекрасный. Теплое и весенне-яркое солнце высоко горело среди чистого весенне-синего неба. Молодая нежная поросль быстро прорезывалась из почек и мягко-желтоватою зеленью запушила сочно налитые, упругие ветви, в которых свистали, заливались и перекликивались весенние птицы.
Иван Шишкин, уставши наконец шататься по дорожкам, сел в тени старого вяза на скамейку, помещавшуюся у площадки пред павильоном, куда на летний сезон переселился некий предприниматель и открывал там кафе-ресторан и кондитерскую. По краям площадки, перед скамейками стояли зеленые столики – признак того, что предприниматель уже открыл свою летнюю деятельность к услаждению славнобубенской гуляющей публики. Экс-гимназист снял фуражку, обтер со лба пот, взъерошил немножко волосы и закурил папироску.
Вскоре на той же площадке появился какой-то молодой человек, довольно привлекательной наружности, лет двадцати пяти, в костюме совершенно безвыразительном, обыденно-сероватом, но вполне приличном, который, ничем особенным не кидаясь в глаза, точно так же ничем не отличался от тысячи городских костюмов, встречаемых на каждом шагу.
Шишкин сначала не обратил на него ни малейшего внимания.
Этот неизвестный господин присел на другой конец той же скамейки и стал отдуваться, как обыкновенно отдувается человек, утомленный ходьбою под солнечным жаром. Затем неторопливо скрутил он себе папироску, вставил ее в простой мундштучок и два раза искоса взглянул на своего соседа.
– Позвольте у вас попросить огоньку! – вежливо обратился он к Шишкину, подвигаясь ближе чем на полскамейки. Тот молча подал ему папироску, с обычною в таких случаях готовностью.
– Очень вам благодарен. Фу, батюшки, какая жара сегодня!.. Это, кажись, еще первый день такой.
– Да, тепловато, – проговорил Шишкин, чувствуя как бы некоторую необходимость ответить на фразу, которая в данную минуту ни к кому, кроме него, не могла относиться.
– Даже и чересчур, я нахожу. Эй, человек! – закричал неизвестный сосед лакею, торчавшему на террасе павильона, – подай-ка мне сюда пива бутылку, да только холодного!.. Смерть пить хочется! – как бы в скобках заметил он, обращаясь вполвзгляда к Шишкину.
Тот ничего не ответил на это, кроме какого-то безотносительного «мг!», сопровождаемого легким кивком, и продолжал курить свою папиросу.
Прошла минута молчания. Незнакомец искоса поглядывал порою на соседа и раза два откашлялся.
– Извините… Если не ошибаюсь, вы, кажется, господин Шишкин? – вежливо и немного застенчиво спросил он.
– Так точно-с.
Гимназист оторопел и смутился.
«Вот оно!.. Это из них! из них наверно!.. Наконец-то!» – думал он, силясь поскорей отделаться от своего неуместного смущения.
– Имел удовольствие слышать вас на публичном чтении, – продолжал незнакомый с легким, но приятным поклоном. – Ваше дарование… это, знаете, ведь надо особое искусство уметь читать… Вы им вполне обладаете.
Теперь уже Шишкин, в свою очередь, сделал легкий, но приятный поклон.
«Из них или нет?.. Из них или нет? – прыгал в уме его неотвязный вопрос. – Как бы это разрешить себе поскорее! Как бы вызнать его?»
– Позвольте узнать, с кем имею удовольствие говорить? – полусклонясь, приподнял он свою фуражку.
– Василий Свитка, из хохлов, – как бы шутя, отрекомендовался незнакомый. – Бывший казанский студент… теперь, в некотором роде, торговыми предприятиями занимаемся. Я еще недавно здесь, в Славнобубенске, – говорил он совершенно просто и добродушно; – по делам зятя моего.
– А ваш зять чтó такое? – бесцеремонно спросил юноша.
– А лесопромышленник… На Каме большая дача у него… Жду вот теперь плотов, по первому половодью погнали… Лес сплавляем до Астрахани, так надо вот встретить, проверку сделать… Да тут еще с купцом с одним заподрядиться надо… Вот и сижу пока.
«Нет, это не из тех, должно быть», – сомневался юноша, пытливо рассматривая соседа и слушая его болтовню, простую и, по-видимому, вполне искреннюю, вполне лишенную всяких задних мыслей. «Нет, не из тех!.. Это просто так себе, добрый малый какой-то и только!» – решил он и успокоился.
Лакей принес на подносе бутылку.
– Не хотите ли? – предложил Свитка; – по жаре хорошо это, холодненького.
– Нет, благодарю вас, – замявшись, нерешительно отказался Шишкин.
– Пожалуйста, не церемоньтесь!.. Мне очень приятно… Эй, человек! Тащи еще стакан, да скорее!
– Для первого знакомства! – кивнул головой Свитка, дотронувшись краем своего стакана до налитого стакана Шишкина. – Мне очень приятно… Я здесь, знаете ли, совершенно один и никого почти не знаю, ни с кем не знаком… Должно быть, у вас тут в Славнобубенске скука ужасная?.. То ли дело, бывало, у нас, в Казани!.. Дивный город, я вам скажу! Вы не бывали?
– В Казани? Нет!
– А жаль. Вам бы понравилось. Вы, конечно, в университет намерены?
– Право, не знаю еще… как случится.
– Если поступать, так поступайте в Казанский, я вам советую.
– Да мне это довольно трудно… ведь я… – замялся немного Шишкин, глядя в землю, – ведь я за это самое чтение исключен из гимназии.
– Как исключены!.. Быть не может! – сорвался с места неожиданно изумленный Свитка, – да за что же-с?
– А вот, за «Орла».
– Ну, что за мерзости!.. И за что же исключать-то тут? Ах ты, господи Боже мой!.. А я и не знал этого!
«Нет, это не из тех! совсем не из тех!» – окончательно убеждал себя в душе Иван Шишкин.
– Что ж вы намерены делать теперь? – с участием спросил Свитка.
– А право, не знаю… Я не решил еще.
Свитка призадумался.
– Гм!.. Это не хорошо. Мой совет все-таки в университет.
– Экзамен-то? Нисколько! Я экзамена не боюсь. Но… средства… Как добраться-то? У меня средств нет.
– А пешочком? – пояснил Свитка, искоса взглядывая пытливо на соседа, – и пешочком можно! Не вы первый, не вы и последний. По крайности, прогуляетесь, время теперь хорошее, с народом познакомитесь, а это ведь никогда не лишнее.
– Н-нет… Мне это неудобно, – отклонился экс-гимназист, вспомня о своей прикосновенности к какому-то «делу».
– Почему так? – с живостью спросил Свитка.
– Так… Я уж лучше тут как-нибудь устроюсь. А разве потом как-нибудь…
Тот как-то особенно и чуть заметно улыбнулся про себя и опять заговорил с прежним участием:
– Если хотите поступать, я могу объяснить вам все дело, как и что, одним словом, весь ход, всю процедуру… Научу, как устроиться, заочно с профессорами познакомлю, то есть дам их характеристики… Ну, а кроме того, есть там у меня товарищи кое-какие, могу познакомить, дам письма, это все ведь на первое время необходимо в чужом городе.
– Благодарю вас… я подумаю.
– Подумайте, подумайте!.. Вообще, господин Шишкин, – прибавил он, радушно и любезно протягивая руку, – мне бы очень приятно было познакомиться с вами поближе… Извините, может быть, вы примете это за навязчивость с моей стороны, но… я здесь один, просто слова не с кем перемолвить.
Экс-гимназист охотно принял предложение этого знакомства.
– Я стою здесь в нумерах Щепкова, – пояснил Свитка. – Милости просим ко мне когда-нибудь, очень рад буду! Да самое лучшее вот что: вы ничего не делаете нынче вечером?
– Особенного ничего.
– Так приходите-ка ко мне!.. Поболтаем, закусим, а?
Шишкин согласился. Юноши этого возраста вообще очень легко и скоро сходятся с людьми.
Часу в восьмом вечера он уже сидел в гостях у нового своего знакомца. Тот рассказывал ему о Казанском университете, о жизни в Казани… Потолковали и о современном положении дел вообще, и о России в особенности. В речах Василия Свитки было очень много симпатий к Польше. Шишкин тоже вполне разделял это чувство.
– Я думаю, что и наша матушка Русь тоже тово… накануне какой-нибудь большой революции, – заметил хозяин, бросая пристальный взгляд на гостя.
– Да вот уж в Высоких Снежках поднимались, там уже началось, авось и другие подхватят, – подтвердил ему Шишкин.
– Да, да; вообще в воздухе, кажись, сильно попахивает чем-то, – согласился Свитка; – но все-таки, мне кажется, что все эти бунты не приведут ни к чему большому без последовательной агитации… В этом деле, как и во всех других, нужна система, план; а без него будут одни только отдельные вспышки. Если бы тут какая-нибудь организация была, ну тогда другое дело.
– А может быть, и есть уже организация, – задорливо возразил Шишкин.
Свитка быстро вскинул на него глаза и, не сводя с его лица своего внимательно наблюдающего взора, спросил:
– Организация?.. А почему вы думаете, что есть?
Юноша спохватился, что чуть было не сказал лишнего.
«Под страхом неминуемой ответственности пред трибуналом общества», – отчеканилась в его сознании знакомая фраза.
– То есть, я… конечно, ни на чем, собственно, не основываю этого, – пояснил он, – но… так, одно предположение… Почему ж и не быть ей? Если Италия, например… отчего ж бы и нам тоже?
– Нет-с, батюшка, мы, русские, слишком еще дураки для этого, – авторитетно возразил Свитка с каким-то презрением; – вы говорите: Италия! Так ведь в Италии, батюшка, карбонарии-с, Италия вся покрыта сетью революционных кружков, тайных обществ, в Италии был Буонаротти, там есть – шутка сказать! – голова делу, Мадзини, есть, наконец, сердце и руки, Джузеппе Гарибальди-с! А у нас-то что.
– А Герцен? а Огарев? – горячо вступился Шишкин, юное самолюбие которого особенно задели за живое эти презрительные отзывы о дураках русских.
– Ну что же!.. Конечно, Герцен-то есть, да ведь одна ласточка весны еще не делает!.. Ну, положим, что есть у нас и Герцен, и Огарев, и еще кто-нибудь кто их там знает! Да где же наши кружки? где наша организация? Я нигде и ни в чем не вижу ее пока! Ну, вот сойдемся, например, мы с вами и потолкуем по душе, и оба, кажись, одушевлены одними стремлениями, одними симпатиями, а что из этого выходит? Пуф! Словоизвержение одно, а чего-нибудь действующего мы все-таки никогда не составим, и эта недеятельность, эта апатия лежит в нашей национальной глупости, потому что мы, русские, – рабы по натуре своей и лучшего ничего не желаем! И организации у нас нет и никогда не будет!