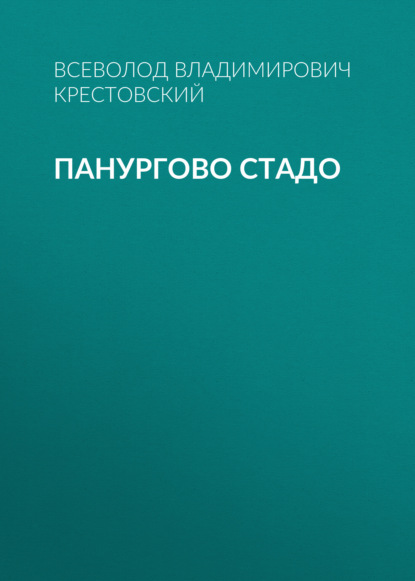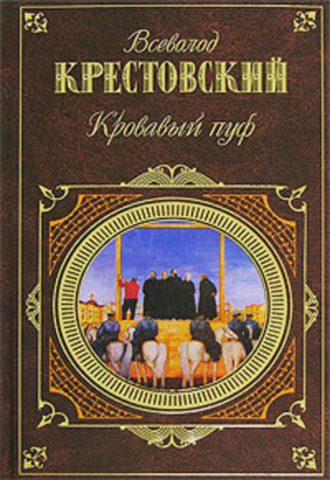 полная версия
полная версияПанургово стадо
Шишкина так и подмывало схватиться с места и сказать ему: «Ан, нет, мол, есть же! есть!» и показать в подтверждение полученное им письмо и деньги и для окончательной убедительности признаться, что сам он член тайного общества и что, стало быть, русские не совсем уж круглые дураки и презренные рабы, какими изволит изображать их господин Свитка. Однако же попридержал на время свою прыть «под страхом неминуемой ответственности».
– Н-ну, как знать чего не знаешь! – процедил он сквозь зубы не без некоторой многозначительности в тоне.
Хозяин исподлобья оглядел его своим изучающим взглядом и улыбнулся про себя, как прежде, чуть заметною, странною усмешкою.
Этот взгляд и усмешка были замечены Шишкиным.
«Неужели из тех!» – быстро мелькнуло в его соображении; но все предшествовавшие обстоятельства их знакомства противоречили такому предположению. «Зачем же он так пытливо взглянул на меня? Чему он так улыбнулся?» – думал экс-гимназист. – «Боже мой! уж не шпион ли это какой-нибудь?.. Может, заодно с Пшецыньским… Может, он хочет выпытать меня?»
И Шишкин вдруг побледнел и тревожно забегал глазами по комнате.
– Однако прощайте… мне пора, – поднялся он с места, неловко и несколько смущенно протягивая хозяину руку.
– Куда же вы? – изумился тот. – А я думал, мы целый вечер проведем вместе, чаю напьемся, закусим… Останьтесь-ко, полноте!
– Нет, ей-Богу, пора!.. Не могу я больше… Прощайте-с.
– Ну, как знаете! До свиданья.
«И чего я так испугался?» – думал Шишкин, подходя уже к своей квартире. «Ведь я сам чуть не похвастался, что как знать чего не знаешь. Может, он оттого-то только и поглядел на меня эдак… а он ужинать приглашал!.. Дурак, право, дурак я! И с чего он вообразился мне то вдруг из тех, то вдруг шпионом, а он, кажись, просто так себе, добрый малый и очень не глупый… А я, как дурак, струсил!»
И на будущее время Шишкин решился уже не трусить более нового знакомца.
XXVII
В западне
На следующий день, около четырех часов пополудни, прохаживаясь по главной аллее городского сада, Шишкин, все еще не терявший надежды, что ожидания его увенчаются каким-нибудь успехом, вдруг завидел идущего навстречу Василия Свитку, который еще издали кивал ему головой и махал руками.
– Здравствуйте, батюшка, – сказал он, подходя к Шишкину. – А вы, кажись, частенько тут прогуливаетесь?
Тот немного смутился.
– Нет, я так только… от нечего делать.
Свитка подхватил его под руку и, дойдя до поворота в среднюю поперечную аллею, повернул туда как бы неумышленным и совсем машинальным образом.
– Фу? как устал я!.. Все время на пристанях шатался… Ходил плоты встречать. Присядьте-ко малость!
И он опустился как раз на вторую скамейку.
Шишкин опять слегка смутился. Некоторое сомнение закралось ему в голову: случайно все это или нет? Из тех, или шпионит? Но, взглянув внимательно на лицо своего знакомца и прочтя на нем полнейшее и открытое простодушие, он снова решил, что Свитка ни то, ни другое.
– Послушайте, Шишкин, – начал тот, усаживая подле себя экс-гимназиста; – простите мою нескромность, но я все думал об вас, как вы ушли от меня, и знаете ли, что пришло мне в голову?
– Что такое?
– Ведь вы тут ровно ничего не делаете, ничем особенно не занимаетесь?
– Уроки кой-какие имею.
– Н-да, конечно, это немаловажно… А я хотел было вам предложить прокатиться вместе со мной до Астрахани, сплавились бы на плотах, а там у меня есть знакомые из компанейских, так что назад на пароходе ничего бы не стоило. Отличное бы дело, ей-Богу? а? Прямо бы в Казань и предоставил, как раз к началу курса.
Шишкин задумался. Предложение имело свою заманчивую сторону, но… как же те-то? Как же отказаться от блестящей перспективы быть заправским, серьезным деятелем «такого дела» или, по крайней мере, хоть узнать бы прежде что-нибудь положительное: есть ли тут что или одна только мистификация.
– А скоро поедете вы? – спросил он.
– А право, не знаю еще!.. Думаю, скоро, на днях.
– Н-нет, на днях-то мне неудобно.
– Отчего неудобно? – с живостью спросил Свитка.
– Да так!.. Не могу я.
– Отчего не можете?
– Да мало ли?.. Ну, уроки… ну, матушка у меня… нездоровая, – замялся Шишкин; – да и вообще, просто не могу.
Оба примолкли.
– А я знаю, почему вы не можете! – веско и медленно начал наконец Свитка, смотря ему в глаза пристально и нагло.
Сердце юноши екнуло тревогой страха и ожидания.
– Почему? – едва мог проговорить он.
Тот, вместо ответа, взял от него трость и резко начертил ею крест на песке дорожки.
Шишкин побледнел. Чувство внезапности, удивление, испуг и страх, и радость разом отразились на его физиономии, на которую неотводно продолжал глядеть Свитка своим наглым взглядом.
– Дайте вашу руку!.. Вы человек годящийся! – похвалил он с видом покровительства.
Юноша не успел еще прийти в себя.
– Но зачем же вы только теперь?!. Зачем не сразу… не тогда, как я крест поставил?
Тот усмехнулся будто на ребяческое слово.
– Гм… Сразу ничто, мой друг, не делается. Надо было прежде дать вам срок, чтобы поглядеть, насколько серьезна ваша решимость, потом попытать вашу скромность, удостовериться, умеете ли вы держать язык на привязи, – ну, экзамен оказался удачен, значит, теперь можно поздравить.
– Я ваш – и душой и телом! – восторженно воскликнул юноша. – Делайте со мной что хотите!.. Когда вы меня представите?
– Как это представите? куда? кому! – серьезно поморщился Свитка.
– Ну, понятно: членам нашего общества, – пояснил Шишкин.
– Членам? Да вы уже представлены: вас знают там. Разве без этого решились бы выбрать вас?
Этот ответ польстил самолюбию экс-гимназиста.
– Но когда же я увижу их? – оживленно спросил он.
– Кого это «их»?
– Ну, разумеется, членов!
– Полагаю, что совсем не увидите. Да это и не нужно. Вы знаете меня, и больше никого, и по всем делам будете сноситься только со мною.
– Стало быть, общества нет никакого?
– Напротив, есть, и весьма сильное, весьма многочисленное; но знать всех членов – это совершенно излишне и даже вредно; да наконец, и нет возможности: их слишком много, они рассеяны повсюду.
– Что же я обязан делать? – пожав плечами, спросил юноша. Дело выходило совсем не так, как мечтал он, и в мечтах оно казалось ему лучше, красивее как-то.
– Делать? а вот что делать, – пояснил Свитка. – Вы будете строго и неуклонно исполнять то, что вам укажут. Впоследствии, с моего разрешения, вы можете избрать себе двух помощников из надежных и лично вам известных людей, но кроме вас, они точно так же не должны ничего и никого знать, я и сам точно так же никого не знаю. Понимаете? И вот все, что вам предоставляется. Средства на ведение дела вы будете получать от меня, а за измену делу, предваряю вас, последует неминуемая кара.
– То есть как же это? – оторопело спросил Шишкин.
– А так, что в один прекрасный день можно отправиться ad patres, – очень серьезно ответил Свитка. – Поэтому будьте осторожны и прежде всего – язык за зубами. Назад уже, конечно, отступления нет; вы понимаете…
– Но… отправиться ad patres… Это легко сказать…
– Легко сказать, и не трудно исполнить, какая-нибудь маленькая доза стрихнину, укол отравленною булавкой, да и, Боже мой! Мало ли есть средств для этого?
Свитка на первых же порах нарочно старался побольше запугать неопытного юношу, чтобы тем легче забрать его в руки и сделать ему невозможным поворот назад. Шишкин призадумался и даже приуныл немного. Он вдруг почувствовал себя в положении мышонка, попавшегося в мышеловку на кусочек свиного сальца.
– Ну, друг любезный! чур, головы не вешать! – хлопнув по плечу, весело подбодрил его Свитка. – Знаете, говорят, это вообще дурная примета, если конь перед боем весит голову. Смелее! Будьте достойны той чести, которую сделал вам выбор общества, будьте же порядочным человеком! Надо помнить то святое дело, за которое вы теперь взялись своею охотой!
– О, Боже мой, да я готов!.. Я готов! Неужели вы можете сомневаться? – воскликнул Шишкин. – Но в чем же дело? И только давайте поскорее!
– Дело в том, что дня через два-три мы отправимся с вами по Поволжью: где пешочком, где на лодочке, а где и конно, как случится; ну, и станем мужичкам православным золотые грамоты казать. Понимаете-с? – прищурился Свитка. – Нынче вечером будьте у меня: я покажу вам экземплярчик, и вообще потолкуем, условимся, а пока прощайте, да помните же хорошенько все, чтó сказал я вам.
И, пожав ему руку, Свитка быстро пошел из сада.
* * *Перед вечером он постучался у двери ксендза-пробоща. Зося, отворив ему, объявила, что его мостци нет дома. Свитка вырвал листок из записной книжки и, написав на нем несколько слов, тщательно свернул и отдал женщине для передачи по принадлежности, а вечером, возвратясь домой, ксендз Кунцевич не без труда разобрал на этом листочке следующее:
«Дело с гимназистом кончено наиуспешнейше, послезавтра, в ночь отправляемся».
«Фр. Пожондковский ».
Через сутки, действительно, Шишкин исчез из города. На прощанье он вручил матери еще десять рублей и уверил ее, что едет на вакацию к одному помещику приготовлять к гимназии его сына.
XXVIII
Жених
Ардальон Полояров, совсем неожиданно для самого себя, очутился в положении жениха. Он был, в некотором роде, жертва собственного великодушия. Зато Лубянская все время оставалась вполне довольна своею судьбою, в качестве будущей супруги Ардальона Михайловича. Но о самом майоре далеко нельзя сказать того же. В странных каких-то отношениях вдруг очутились между собою эти три лица, с той минуты, как слово великодушия нежданно-негаданно было произнесено Полояровым. Старик не перечил, но и не радовался; напротив, теперь чаще, чем когда-либо, он, из своего уголочка, подолгу стал засматриваться на дочку с молчаливою, но глубокою и тоскливою грустью. Хоть он и молчал, но по всему было видно, что сердце его и не чает для дочери ничего хорошего в будущем, и не ждет никакого счастья в этом браке. С Полояровым отношения его были суховато-вежливы: в них проглядывало такое чувство, как будто, подавая руку Ардальону или говоря с ним, старик боялся быть укушенным какой-нибудь гадиной или чем-нибудь запачкаться, – чувство, давно не испытанное его простым, отзывчиво откровенным сердцем. Он как-то все не верил в чистоту полояровского великодушия, и порою казалось ему, будто брака этого никогда не будет, что, впрочем, нисколько его и не печалило, лишь бы только быть уверенным, что она, чистая голубка его, осталась такою же, как и прежде; но… этой-то уверенности и не хватало ему. Сам Полояров нимало впрочем не смущался подобным отношением к собственной особе; он, говоря его словами, «игнорировал глупого старца» и, как ни в чем не бывало, в качестве жениха почти ежедневно ходил к нему то обедать, то чай пить, то ужинать. Только в отношении Нюточки тон его сделался еще резче и нахальнее. Когда же майор заметил ему это однажды, то Ардальон отвечал, что «как мы с нею теперь женихи, то особенно церемониться нечего, потому не с тоном жить, а с человеком».
Одна только Нюточка, по-видимому, казалась довольна и счастлива. Вера ее в Полоярова была безгранична: уж если он сказал, уже если он что сделал, значит, это так и должно, значит, иначе и быть ничего не может, и все, что ни сделает он, все это хорошо, потому что Полояров не может сделать ничего дурного, потому что это человек иного закала, иного развития, иного ума, даже просто, наконец, иной, совсем новой породы, тем более, что и сам он называл себя «новым человеком». Девушка привязалась к нему еще больше с той минуты, как он, ради нее, ради любви к ней, поступился даже самыми коренными из своих убеждений, предложив ей «формальным образом окрутиться вокруг аналоя». Она видела в этом величайшую, с его стороны, жертву, и жертва его льстила ее самолюбию.
С каким удовольствием бегала она в ряды, в гостиный двор, накупать то себе, то ему разные принадлежности к своему приданому. Каждая вещица, каждая наволочка, полотенце, каждая дюжина чулок или платков носовых, купленная на скромные деньжишки, прикопленные для нее майором, приводила ее в восторг. С какою радостью припасала она все это к устройству будущего своего хозяйства! Сколь светло мечтала о том, как это у них все так хорошо, так просто и мило будет устроено! С каким живым наслаждением показывала жениху все эти покупки и приготовления, сама любуясь и на них, и на него своими влюбленными глазами!
Но Полояров все эти радости и восторги встречал совершенно холодно: больно уж не по нутру они ему были. И именно в те самые минуты, когда она показывала ему новые свои покупки, рассказывая намерения и планы будущего житья-бытья, он глядел совсем равнодушно, как на нечто постороннее, и слушал вполне безучастно, а иногда с видимым даже раздражением и неудовольствием.
Все это искренно огорчало любящую девушку.
– Ардальон! да что это с тобой! – высказала она ему однажды с полудосадливым и полунежным упреком. – Я хлопочу, я бегаю, стараюсь, прошу твоего совета, одобрения, а ты глядишь на все это, словно бы совсем чужой, словно бы даже тебе неприятно это!.. Ей-Богу, хоть бы маленькое участие!.. Неужели же тебя это нисколько не занимает?
– Да чему тут особенно занимать-то?.. Есть на что радоваться! – фыркнул он, скосив губы; – ну, нравится тебе это; – ну и занимайся! Я не мешаю… Мне-то что!
Нюта поглядела на него пристально, решительным взглядом.
– Послушай, – начала она после некоторого молчания, – мне кажется, ты раскаиваешься в своем намерении… Пожалуйста, не стесняй себя; скажи мне прямо – ведь еще есть время…
Ардальон молчал и хмурился.
– Ну, вот видишь, ты молчишь, ты сердишься!.. Зачем все это! Не лучше ли прямо?.. —На ресницах ее задрожали слезы. – Милый ты мой!.. Ты знаешь, что мне лично, пожалуй, и не нужно этого пустого обряда: я и без того люблю тебя – ведь уж я доказала!.. Мне ничего, ничего не нужно, но отец… ведь это ради отца… Я ведь понимаю, что и ты-то ради него только решился. Милый мой! я тебя еще больше полюбила за эту жертву.
– Хм!.. Полюбить-то, пожалуй, и больше полюбила, – согласился он, по обыкновению медленно и туго потирая между колен свои руки и глядя мимо очков в какое-то пространство пред собою. – Насчет любви – не знаю, может, и так, а может, и нет; но уважать-то уж, конечно, менее стала.
– Как!.. Почему это? – отклонилась девушка, широко раскрыв на него изумленные взоры.
– А потому, что за такие пассажики нельзя никого уважать, да и не за что!.. Разве ты можешь уважать человека, изменяющего своим принципам, идущего против убеждения? Ну, стало быть, и меня не уважаешь!
– Но, милый мой, это совсем другое…
– Э, матушка! одно и то же! – перебил Ардальон, с гримасой махнув рукою.
– Так не женись на мне! Кто ж тебя принуждает! – открыто и просто предложила она.
Полояров скорчил новую, досадно-нетерпеливую гримасу и несколько времени не отвечал ни слова, только по-прежнему тер себе ладони. Нюточка тихо заплакала.
– Ну, уж что сказано раз… так уж нечего говорить, – пробурчал наконец Ардальон сквозь зубы, в каком-то раздумье. – Да, пожалуйста, слезы-то в сторону! – прибавил он, заметив, что невеста вытерла платком свои глаза; – терпеть не могу, когда женщины плачут: у них тогда такое глупое лицо – не то на моченую репу, не то на каучуковую куклу похоже… Чего куксишь-то? Полно!.. Садись-ка лучше ко мне на колени – это я, по крайности, люблю хоть; а слезы – к черту!
Нюта исполнила его желание, но с этой минуты отлетели от нее все счастливые мечты и планы. Она уже без удовольствия стала ходить в ряды и даже неохотно готовила себе приданое, никогда более не заставляя жениха любоваться на свои покупки. В душу ее закралось тяжелое и темное раздумье о своем сомнительном будущем…
Майор молчал и курил свою трубочку, но сердце его чуяло, и родной глаз очень хорошо замечал все, что делается с девочкой.
Однажды она пошла в ряды и, сделав какую-то покупку, забежала «по пути» к жениху, хотя, собственно говоря, это было вовсе не по пути ей.
Полояров спал на диване. Нюта осторожно подкралась к нему и разбудила своим любящим поцелуем.
– Здравствуй, милый! Что я тебе скажу… – начала она весело и вместе с тем как-то таинственно и отчасти смущенно.
– Ну, ладно!.. После, после!.. Теперь я спать хочу… Убирайся, пожалуйста!.. Не мешай мне, или – коли хочешь – посиди, пожалуй, пока высплюсь, – пробормотал Ардальон, и калачом отвернувшись к спинке дивана, в ту же минуту сонно засопел с носовым присвистом.
Девушка постояла, посмотрела ему в спину, повернулась и ушла. С больным чувством обиды возвратилась она домой, уселась на полу, на маленькую скамеечку, за каким-то коленкором, который в тот день кроила, и, положив на колени подпертую ладонями голову, заплакала тихо, беззвучно, но горько.
Майор, запахнув халатик, подкрался на цыпочках к двери и осторожно заглянул на дочь из своей комнаты. Тревога отеческой любви и вместе с тем негодующая досада на кого-то чем-то трепетным отразились на лице его. Нервно сжимая в зубах чубучок своей носогрейки, пришел он в зальце, где сидела Нюта, не замечавшая среди горя его присутствия, и зашагал он от одного угла до другого, искоса взглядывая иногда на плачущую дочку.
– Ну его к черту! – нервно дрогнул голос старика. – Брось, Нюта!.. брось!.. Не стоит!.. Не думай ты о нем больше!.. Право!.. Весь-то он, как есть, одной твоей слезинки не стоит!.. Ну его!.. Ей-Богу, говорю, – брось ты все это!
И он еще крепче защемил между зубами свой чубучок, потому что и у самого-то уже навертывались на глаза жгучие слезы обиды, боли и досады. Но Нюта, не подымая головы, только медленно и отрицательно покачала ею, и в этом движении было так много чего-то кручинного, безнадежного, беспомощного…
Она теперь уже ощущала внутри себя нечто новое, в чем ни за что не призналась бы старому майору.
XXIX
«Эврика» по-гречески значит: нашел
Ардальона разбудили вторично. Но на этот раз перед ним уже стояла не улыбающаяся Нюточка, а почтальон, принесший ему с почты письмо. На конверте значился петербургский штемпель. Заспанный Полояров, однако же, почти сразу догадался, от кого было это послание.
«Все готово. Предприятие наше прочно поставлено на ноги, – говорилось в письме, – открываем типографию, швейную, переплетную, читальню и много еще другого. Если можешь, приезжай поскорее, ты был бы теперь здесь очень кстати…
До свидания!
Весь твой Лукашка».
«Не многоглаголиво, но ясно!» – улыбнулся про себя Полояров. Письмо это заставило его призадуматься.
«Как же тут быть? Неужели и в самом деле жениться? Черта с два?.. Добро бы еще выгода какая», – мыслил он сам с собою, а то вдруг ни с того, ни с сего, – на́ тебе! Фю!.. взял да и окрутился! Честь имеем поздравить! Будущий отец семейства и славнобубенский домовладелец с улицы Перекопки, – приятная перспектива! очень приятная! Нет, брат, Ардальон Михайлович! – широко вздохнул он с чувством гиганта, – тебя ждет дело посерьезнее и почестнее, так тут нечего бабиться! Женщина или дело – тут для порядочного человека выбор один. Ради удовольствия добродетельного папеньки так вот взять да и пожертвовать принципами? Да что же я за дрянь-то после этого!.. Что же я за свинья-то!.. Любить… ну и любить!» – продолжал он свои думы, вспомня о Нюточке. «Я-то что же?.. Сама ведь шла, доброй волей; не пыткой принуждали же! Так чего тут? Коли ты, матушка, не дрянь, а женщина, так ты поймешь, что для людей нашего закала – дело прежде всего, а потом уж любовь и прочее… Любишь, так и так любить будешь!.. Можешь как-нибудь приехать потом; а нет – значит, дрянь, значит, замуж только хочется выскочить!.. Ну, и ищи себе подходящего субъекта, а я… пожалуй, и я не прочь любить, и все такое… да только не в такое время!.. Так и сказать ей это – небойсь, поймет барышня! Одним словом, так или иначе, а этой канители, значит, шабаш!» – окончательно решил Полояров.
Но вслед за тем пред ним вставали другие, гораздо важнейшие вопросы:
«Ехать… Конечно, надо ехать! – размышлял он, – об этом нечего и говорить, и чем скорее, тем лучше, а то еще гляди, пожалуй, окрутят как-нибудь… заставят… Начальство, власти и прочее… Ведь добродетельный папенька, пожалуй, и на это способен!.. Но как тут, черт возьми, уедешь!.. Занять бы у кого, что ли?.. Хм… Как же! поди займи в этом подлом обществе! Дадут черта с два! Дожидайся! Разве как-нибудь у Затц да у Нюточки прихватить?.. Сотнягу бы, что ли, – тогда хватит… Да беда, капиталы-то ведь у добродетельного папахена в шкатулке! Кабы у самой, так и говорить бы не о чем, а тут вот и ломай себе голову!»
И действительно, Ардальон Полояров упорно ломал голову над разрешением трудной задачи. При дальнейших размышлениях выходило, что и у Нюточки не совсем-то ловко взять деньги: станет подозревать, догадается, пойдут слезы, драмы и прочее, а лучше махнуть так, чтоб она узнала об этом только по письму, уже после отъезда; тогда дело короче будет. Оставалась одна только Лидинька Затц; но и тут встречалось некоторое сомнение: Лидинька и без того уже зла на него за Лубянскую, за его предполагаемую женитьбу. Но, положим, что на этот счет можно бы легко разубедить ее; для этого потребуется только немного нежности да бойкий разговорец в том духе и в тех принципах, которым поклоняется с некоторого времени Лидинька, и сердце ее умягчится, и прикажет она своему благоверному добыть ей, как бы то ни было, денег, и благоверный в этом случае не будет ослушником обожаемой супруги, только с получателя документец возьмет на всякий случай. Но главное сомненье не в этом. «А как дернет ее нелегкая, – думал Полояров, – бросить благоверного? Да как ко мне на шею накачается: бери, мол, с собою! тогда что?.. Куда мне с нею?.. А это весьма легко может случиться!»
Возиться с Лидинькой Затц никак не входило в дальнейшие расчеты и планы Ардальона Михайловича, и потому он еще бродил в лабиринте своих сомнений и предположений, не останавливаясь ни на чем решительном относительно путей добычи.
Как часто бывает с человеком, который в критическую минуту полнейшего отсутствия каких бы то ни было денег начинает вдруг шарить по всем карманам старого своего платья, в чаянии авось-либо обретется где какой-нибудь забытый, завалящий двугривенник, хотя сам в то же время почти вполне убежден, что двугривенника в жилетках нет и быть не может, – так точно и Ардальон Полояров, ходючи по комнате, присел к столу и почти безотчетно стал рыться в ящиках, перебирая старые бумаги, словно бы они могли вдруг подать ему какой-нибудь дельный, практический совет.
Принялся он за это занятие рассеянно, почти и сам не определяя и даже не зная цели, зачем и для чего это делает, и вот, перебирая машинально бумагу за бумагой, целый ворох писем и записок, адресов, рецептов, гостиничных и иных счетов, начатых и неоконченных статей, выписок, заметок, наткнулся он вдруг на одну свою старую и позабытую рукопись. Листы ее были залиты кофе и частью закапаны салом, но рукопись эта напомнила Ардальону то крутое время, когда откупщик Верхохлебов, после самоличной ревизии, прогнал вдруг его с очень вкусной и питательной должности. Она напомнила ему время, когда он только что стал мечтать о литературном поприще и принимался уже кое-что пописывать. Эта рукопись была даже чуть ли не первой его попыткой. Фигурировал в ней откупщик Верхохлебов – в те дни либерал и патриот сольгородский, как ныне все такой же либерал и патриот славнобубенский. Фигурировал он в этой рукописи своей собственной персоной, купно с сожительницей законной и незаконной, со чады и домочадцы, и со всеми делами и помышлениями своими, со всем домашним обиходом, и явными, и тайными грехами и провинностями, по части откупных и иных не совсем-то светлых операций, которые сильно попахивали уголовщиной. Писал тогда Полояров эту рукопись под впечатлением свежих ран, причиненных ему лишением питательного места, под наплывом яростной злости и личного раздражения против либерала и патриота сольгородского, и следы сей злобы явно сказывались на всем произведении его, которое было преисполнено обличительного жара и блистало молниями благородного негодования и пафосом гражданских чувств, то есть носило в себе все те новые новинки, которые познала земля Русская с 1857 года, – время, к коему относилась и самая рукопись. Но так как в те поры Ардальон Полояров был еще писатель юный и начинающий, а известно, что юным и начинающим писателям весьма свойственен бывает пересол увлечения, то поэтому и он чересчур пересолил в своем произведении все благородные и гражданские чувства. Но в то время все это казалось ему безусловно прекрасным и возвышенным. Он гордился своим произведением и, желая полною неожиданностью поразить сердце Верхохлебова, переписал начисто и втихомолку отправил свое создание в одну из редакций. Долго ждал он после этого появления его в печати и даже писал письма в редакцию, но неизвестно почему редакция не воспользовалась созданием Ардальона Полоярова, которое так и погибло в ее непригодном хламе. Следующее произведение Ардальона, не касавшееся патриота с его сожительницами и домашним обиходом, было счастливее первого; а затем вскоре получил он место станового пристава и, среди новых впечатлений и занятий, позабыл про свою рукопись. Так она с тех пор и лежала черняком в его столе, изредка попадаясь случайно на глаза, при переборке бумаг, но уже не возбуждая собою никаких особых соображений. Впоследствии даже сам автор сознал в своем детище некоторые недостатки, и это сознание немало способствовало полному забвению, тем более, что и самые раны, нанесенные автору патриотом, от времени успели затянуться.