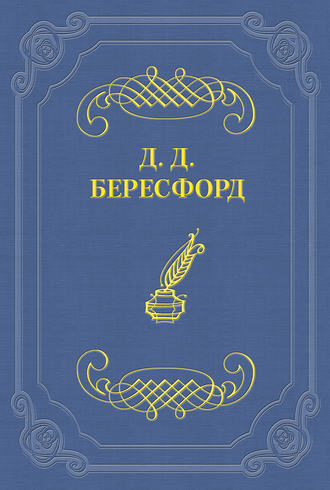 полная версия
полная версияПолная версия
Только женщины
И вот, в чудесный, ясный майский день Гослинги пустились в путь. Глава семьи, больше всего на свете боявшийся умереть от жажды, обошел конюшни своего покойного компаньона и среди массы дохлых лошадей нашел одну живую. Ее наполовину оживили водой из соседней бочки, и на день впрягли ее в телегу из-под угля, нагрузив телегу пожитками семьи. Лошадь издохла, не дойдя полмили до места назначения, но Гослингам, соединенными силами все же удалось докатить телегу вниз к реке.
На набережной они без труда нашли пустой дом и провели пренеприятных полчаса, удаляя останки одного из его прежних обитателей. Гослинг надеялся, что он умер не от чумы. Так как это был труп женщины, и притом страшно истощенной, было основание предположить, что она умерла от голода.
Все это время Гослинг ходил, как ошалелый. Когда женщины натаскали ведрами воды из реки, обшарили, обнюхали, как кошки, и раскритиковали сверху донизу свое новое жилище, глава семьи уселся с сигарой в кресло и стал раздумывать о своем трудном положении.
Прежде всего он подивился, почему Бусты не съели своих лошадей вместо того, чтобы дать им подохнуть с голоду. Затем, задал себе вопрос: почему они не встретили ни одного мужчины на всем долгом пути из Брондсбери в Путней? И постепенно дошел до невероятного объяснения: мужчин и не осталось в городе. Он вспомнил, как странно вглядывались в него те немногие отощавшие и обтрепанные женщины, которые встречались ему: теперь ему казалось, что в их взглядах было изумление. Гослинг почесывал себе щеки, за десять дней обросшие щетиной, и задумчиво курил. Он почти жалел теперь, что давеча так грозно и свирепо смотрел на женщин, попадавшихся навстречу – от них можно было бы получить какие-нибудь сведения о том, что творится в городе. Но страх все время гнал вперед Гослингов: они оберегали свой запас провизии и жизнь свою; люди теперь до того одичали, что при малейшем поводе готовы были кидаться друг на друга.
– Мужчин в городе не осталось, – повторил Гослинг, но не мог поверить. Вывод был слишком грозен – если так, значит, настанет и его черед. А он никак не мог отделаться от мысли, что через несколько недель он опять вернется в Сити – и еще вчера спрашивал себя: как же это пойдет на службу небритый?
Но сегодня перемена места, разрыв со всеми старыми навыками и порядками раскрыли ему глаза и расширили его горизонт. Возможно, что ему и никогда уж больше не придется идти на службу, так как и службы никакой не будет. Если он уцелеет, – а он крепко надеялся выжить – он будет чуть ли не единственным мужчиной в Лондоне; да может, и в целой Англии – даже в Европе – мужчин останется всего каких-нибудь несколько тысяч… Да, но кто же тогда будет работать? И какую работу?..
– Добывать себе пищу, – шептал Гослинг, смутно дивясь, где же и как же можно будет добывать ее, когда не будет ни лавок, ни складов, ни иностранных агентов. Он главным образом думал о мясе, т. к. их фирма вела торговлю мясными консервами.
– Чего доброго, придется разводить коров и овец, – думал Гослинг. И, немного погодя, мысленно добавил: – И выращивать пшеницу.
И тяжело вздохнул, вспомнив, что он не имеет понятия о том, как сеять хлеб и разводить рогатый скот. Консервы ему давно уже надоели, так хотелось бы перейти к обычной пище – молоку, яйцам и свежим овощам. Одна из его ног распухла и болела, и он справедливо приписывал это нездоровой диете.
* * *Просидев двое суток в своей новой резиденции, Гослинг набрался (храбрости и рискнул выйти на улицу. Он начинал верить в свое счастье и думать, что чума пронеслась над Лондоном, не тронув его.
С каждым днем он уходил все дальше, в поисках молока, яиц и овощей, но нашел только заросли молодой крапивы, нарвал ее и принес домой. Гослинги все с удовольствием съели суп из молодой крапивы, сваренный на плите, растопленной досками, и сразу почувствовали себя лучше. Иногда, во время таких экскурсий он сталкивался с женщинами и расспрашивал их. Все рассказывали одно и то же – мужья их умерли от чумы, а сами они умирают с голоду.
Однажды, в начале июня, он дошел до Питерсгэма и здесь, в дверях фермы увидел красивую, высокую женщину. Она была так непохожа на женщин, обыкновенно попадавшихся ему навстречу, что он невольно остановился и с любопытством воззрился на нее.
– Вам чего? – подозрительно спросила молодая женщина.
– Нет ли у вас молока, или масла, или яиц для продажи?
– Для продажи? – презрительно повторила женщина. – А что вы можете дать нам в обмен, такое, что бы стоило пищи?
– Как что? Деньги.
– Деньги? На что мне деньги, когда на них ни чего нельзя купить? Я не продам вам яиц и по фунту стерлингов за штуку.
Гослинг почесал в бороде – теперь у него уже успела отрасти порядочная борода.
– Пустовато здесь, а? – спросил он, улыбаясь.
Молодая женщина оглядела его с ног до головы, и тоже улыбнулась.
– Да. Вы первый мужчина, которого я вижу с тех пор, как умер мой отец, месяц тому назад.
– С кем же вы живете? – спросил Гослинг, указывая на дом.
– С матерью и с сестрой. Только.
– И кормитесь своим трудом, так, что ли?
– Да. Мы привыкли. На ферме всякую работу справить можем. Вся беда в том, чтобы не пускать сюда других женщин.
– А? – задумчиво сделал Гослинг. И оба посмотрели друг на друга.
– Вы голодны? – спросила девушка.
– Не то, чтоб голоден. Но очень уж консервы опротивели – я уж пять недель Ими питаюсь – хотелось бы поесть чего-нибудь другого.
– Зайдите. Так и быть, одно яичко вам сварю.
– Спасибо, – сказал Гослинг. – Я с удовольствием зайду.
Они дружески разговорились. Девушка угостила его даже двумя яйцами всмятку и стаканом молока. Он ел яйца с маслом – хлеба не было. Мать и сестра девушки работали на ферме; они все три работали по очереди, но которая-нибудь всегда оставалась стеречь дом.
Они вели речь о том, как все переменилось в Англии, и спрашивали себя, чем все это кончится. Еще немного, и в бледно-голубых глазах Гослинга появилось новое выражение.
– Да, все изменилось, – говорил он. – И, по-видимому, никогда уже больше не будет по-старому.
– Ни соседей, ни сплетен, ни толков о том, кто что делает и все такое…
Девушка задумчиво смотрела на него. – И чего нам недостает, так это мужчины, который бы поберег дом. Нас страшно грабят.
Гослинг мысленно не заходил так далеко. Он не прочь был пофлиртовать, развлечься, благо, соседей теперь нет и сплетничать некому, но бросить совсем свою семью – ему не приходило в голову.
– Да, – согласился он. – В такое время мужчину в доме не мешает иметь.
– Вы когда-нибудь работали на ферме? – спросила девушка.
Гослинг покачал головой.
– Ну, ничего. Этому недолго научиться.
– Надо подумать, – сказал Гослинг. – Вы будете здесь завтра?
– Одна из нас будет дома.
– Да, но вы-то будете?
– Почему именно я?
– Потому, что вы мне нравитесь.
– Очень мило с вашей стороны, – сказала девушка, и засмеялась.
На прощанье Гослинг поцеловал ее.
* * *На другой день он опять пришел и помогал косить траву и рвать петушьи гребешки, а потом смотрел, как Молодая девушка доит коров. Пока возились с уборкой, уже стемнело, и Гослинга убедили остаться ночевать.
В Путнее три женщины понять не могли, куда девался «папочка». В течение нескольких дней они очень тревожились и даже делали слабые попытки разыскать его. Но к концу недели пришли к убеждению, что он тоже умер от чумы.
Больше они его не видели.
Исход
В Вест Гэмпстэде богатая еврейка, когда-то с холеным, пышным телом, грустно смотрела из окна богатого, красивого дома. На ней был небрежно накинут шелковый легкий пеньюар. Лицо было грязное, давно немытое, но местами, там, где слезы смыли грязь, проглядывала бледная, вялая кожа. Тело ее было всё в синяках и ссадинах, ибо при недавнем набеге на дом, где рассчитывали найти провизию, другие женщины жестоко избили ее. Она сделала промах – вышла из дому слишком нарядно одетой, вообразив, будто хорошее платье внушает почтение…
Она смотрела в окно и плакала, оплакивая свое горе. С детства она росла любимой и балованной. С ранней юности ее учили, что назначение девушки – в том, чтоб выйти замуж, и она продала себя за весьма солидную цену, и, с полного одобрения семьи, вышла замуж за человека, который мог надежнее других обеспечить ей все те роскоши, которые она считала принадлежащими ей по праву рождения.
Два дня тому назад она изжарила и съела, стоившую бешеных денег, крохотную собачку, на которую она изливала всю свою любовь. Обгладывала косточки и все время обливалась слезами; и тут только в первый раз, пожалела, что ее любимица была так мала.
Голод и жажда выгнали ее из дому, которым она так гордилась. В окно ей ничего не было видно, кроме бесконечных улиц и домов из кирпича, камня и асфальта; но ведь за этой каменной пустыней поля – она видела их мельком, когда ездила на автомобиле в Брайтон. Первобытные потребности разбудили в ней и первобытные инстинкты, до тех пор дремавшие. Никогда раньше со словом «поле» в ее уме не соединялось представление о пище. Она привыкла думать, что пищу покупают в лавках, притом стараются купить самое лучшее и как можно дешевле. И, несмотря на то, что она была богата и гордилась своим богатством, она всегда подолгу торговалась с продавцами. И теперь, когда ее муж, эгоистически покинув ее, умер от чумы и слуги разбежались, она пошла в лавки, властно предъявляя свои права и требования. И на опыте убедилась, что прав ее теперь никто не признает.
Она оделась в самое простое платье, напудрилась, чтоб хоть немного прикрыть грязь – воды в доме не было, да ей и не хотелось мыться – уложила все свои деньги и лучшие из своих драгоценностей в небольшую кожаную сумочку и отправилась на поиски такого места, где пища растет прямо из земли.
Инстинкт толкнул ее на север. Она пошла по направлению к Гендону.
* * *К осени Лондон опустел. И не только из Лондона, но и из всех больших городов Европы женщины бежали в деревни. В парках и на улицах предместий ветер взметал и кружил осыпавшиеся сухие листья, а дождь прибивал их к земле, и они гнили в грязи. И так шла своей обычной чередой смена смерти и рождения.
Когда опять пришла весна, природа сильными и нежными руками начала отбирать назад свое. Сотни лет ее гнали из этого большого каменного города, подрывали в корне все ее попытки и усилия; стоило выглянуть хоть одному стебельку травы, как его тотчас же растаптывали безжалостные ноги. И тем не менее, Природа неустанно отстаивала свои права. Только человек не доглядит – смотришь, даже в самом центре города в трещинах камня появляются травы и цветы: одуванчик, полевая горчица, крестовник и прочие, так называемые, сорные травы.
Теперь же, когда некому было мешать, Природа медленно и терпеливо прикрывала следы опустошения. Ветер всюду заносил пыль, дожди разрыхляли ее, подготовляя к принятию семян, которые приносили на крылышках птицы и насекомые во все тихие уголки, где они надеялись воскресить жизнь; и, умирая, проросшие семена прибавляли плодородия матери-земле, взрастившей их.
На помощь Природе явились бури, молнии и метели. Они срывали черепицы с кровель, ломали фронтоны, валили наземь крепкие стены. Лишаи разъедали камень, прорастающие семена деревьев пробивались сквозь трещины.
Еще несколько сотен лет такой терпеливой, неустанной работы, – и Лондон снова превратится в сад, и соловьи будут петь на Оксфорд-стрит, а дети новой расы играть и рвать цветы на развалинах. Государственного Банка…
* * *Дух жизни отлетел от Лондона, и тело города медленно гнило и рассыпалось. Было время, когда он слыл первым в мире городом. Люди говорили и писали о нем, как о чем-то живом и цельном, любили его, как друга. Не население его, не многоязычную толпу, наводнявшую его улицы и площади, а самый город, со всей его странной смесью богатства и нищеты, со всей красотой и упованием жизни, в нем кипевшей.
А теперь он был мертв. И пороки его, и добродетели стерлись с лица земли, и огромный труп раскинулся на холмах, во всей своей безобразной наготе, в ожидании погребения, которое с томительной медлительностью готовила ему Природа.
Все эти дивные здания, дворцы, музеи, картинные галереи, товарные склады, хранившие богатства без числа, многоэтажные отели, Парламент, театры, церкви и соборы – все стало символами, утратившими значение. В былое время они говорили о неутомимой работе человека, о его ненасытном честолюбии, а ныне человек бежал в деревню, в поисках пищи, бросив позади себя утратившие цену признаки богатства, которыми он столько веков дорожил.
Золото и серебро тускнели в несгораемых шкафах, которые никому не приходило в голову взламывать: бумажные деньги плесневели; стены музеев и картинных галереи покрывались сыростью и плесенью, и по всей Великобритании некому было пожалеть об этом. Все оставшиеся в живых мужчины и женщины вернулись к труду отцов своих, снова молясь Церере и Деметре и с согбенной спиной, в поте лица своего добывая свой хлеб.
И каждому надлежало трудиться так, пока снова не создастся излишек, не наполнятся житницы, и сильный не одолеет слабого, требуя от него труда, взамен отнятого орудия труда, – пока цивилизация не расцветет вновь пышным цветом.
А пока, Лондон был не городом мертвых, но мертвым городом.
Странствия Гослингов
Город Безмолвия
Пришел июль с умеренной жарой и перепадающими проливными дождями – идеальная погода для зерновых хлебов, которым надо было созреть, прежде, чем утолить голод страны. Внезапное прекращение ввоза и бегство городского населения в деревню наглядно показало скудость ресурсов Англии по части прокормления страны – жаль только, что не осталось в живых экономистов, которые бы сумели использовать этот ценный факт. Англия обособилась от всего остального мира и стала независимой единицей. И внутри себя с поразительной быстротой распадалась на отдельные части. Отсутствие организации давало себя знать на каждом шагу. Отдельные усилия не достигали цели. Женщины, переходившие от одной фермы к другой, умирали от истощения в пути.
В своем новом доме в Путнее, миссис Гослинг и ее дочери со дня на день ждали, когда у них выйдет запас провизии. Мать была типичная лондонская жительница, выросшая на всем готовом, без выдумки, без инициативы. А дочери, в особенности, Милли, были настолько под влиянием мамаши, что тоже не обнаруживали никакого умения приспособиться к изменившимся условиям жизни.
Правда, у них был еще изрядный запас консервов, которые миссис Гослинг аккуратно сложила все в одной комнате второго этажа и расходовала экономно. Но все же, вопрос: что будет с ними, когда консервы выйдут? тревожил ее душу. И однажды, в десятых числах июля, сосчитав свои запасы, миссис Гослинг решила, что надо что-то предпринять. Чумы они уже почти перестали бояться, но страх, что другие женщины ворвутся к ним и отнимут их жестянки, не выпускал их из дому. В этом доме они заперлись, как в крепости.
– Послушайте, девочки, – сказала миссис Гослинг. – Надо что-нибудь предпринимать.
Бланш задумчиво подняла на нее глаза. Ее ум уже начал работать над великой проблемой их общего будущего. Милли, ленивая и равнодушная, только пожала плечами и ответила: – Все это очень хорошо, но что же мы можем сделать, мама?
– А может, и не везде так плохо как у нас здесь. Денег у нас достаточно. Пойти бы которой-нибудь из нас, или вдвоем, побродить по Лондону, посмотреть, что там творится. А одна может остаться присмотреть за домом. Бояться словно бы и нечего. За последние две недели мы не видали здесь живой души.
В сердце Бланш проснулась надежда. – Кто знает, может быть, в центре Лондона уже опять все по старому, и магазины открыты; и люди работают? Может быть, и ей удастся там найти работу? За эти два тяжких месяца, проведенных взаперти, она так стосковалась по жизни и движению.
– Я пойду! – радостно откликнулась она. – Мы с Милли пойдем, мамочка; мы сильные, и ноги у нас покрепче. А ты запри за нами дверь и никому не открывай. Пойдем, Миль, – а?
– Надо сперва хоть немного привести себя в приличный вид, – сказала Милли, поглядев на себя в зеркало, висевшее на камином.
– Ну, разумеется. Ведь мы же привезли с собой корзину с платьем.
– В крайнем случае, можно будет сходить в Вистерия-Гров и там кой-что захватить. Я уверена, что там все лежит, как мы оставили.
При упоминании о Вистерия-Гров миссис Гослинг тяжело вздохнула. Она не могла привыкнуть к этому жалкому домишку в Путнее, и ей все казалось, что там, в Кильберне, есть и вода, и газ, как всегда были.
– Да, сходили бы вы, девочки, как-нибудь туда. Может, там уже все наладилось.
Меньше, чем через час Бланш и Милли привели себя в приличный вид. Они немного оживились. Гнетущая атмосфера страха перед эпидемией, висевшая над городом, парализуя всякую человеческую деятельность, начинала проясняться. Словно веяние смерти, пронесшееся над столицей, снова скрылось в неведомых глубинах.
– А приятно, все-таки, снова приодеться, – сказала Бланш, выпрямляясь и откидывая назад плечи.
Милли охорашивалась перед зеркалом.
– Да, вы у меня, когда приоденетесь, обе премиленькие, – сказала мать, с гордостью глядя на дочек и думая про себя: – Славные они у меня девочки! Хоть последнее время и пофыркивали. Но, ведь, и то сказать – разве сдержишься, когда кругом такие ужасы? Страшное время мы пережили!
* * *Июльское солнце ярко светило двум молодым девушкам, принарядившимся и шедшим купить себе в мертвом городе какой-нибудь еды.
Воздух был изумительно чист и прозрачен. Каждая мелкая деталь на улице выделялась так отчетливо и веселила взор. Какая-то особенная бодрость чувствовалась во всем теле: кровь быстрей бежала по жилам.
– Как чисто – а? – сказала Бланш.
– Да. Курьезно, Словно на фотографиях иностранных городов.
Под ногами у них были кучи сухой, колючей пыли, с частицами камня, асфальта и стали. По углам ветер намел ее целые бугры, и торчавшие оттуда обрывки бумаги, объявлений и разорванных флагов придавали всей улице неряшливый вид. На открытых местах посредине улицы пыль лежала волнистыми, почти параллельными линиями, словно песок на морском берегу.
Некоторое время, в силу привычки, сестры шли по тротуару.
– Слушай, Миль, тебе не кажется, что это рискованное приключение?
Но у Милли вид был разочарованный. – Здесь, так пустынно, Би.
– У меня еще никогда не было такого чувства. Как будто весь Лондон принадлежит мне одной.
Близ Гаммерсмит-Бродвей они увидали на рельсах вагон трамвая. Тонкие щупальца его еще цеплялись за верхнюю проволоку, словно терпеливо выжидая возобновления животворного тока.
Почти бессознательно девушки ускорили шаги. Может быть; там, дальше жизнь…
– Ой! – вскрикнула вдруг Милли и отскочила назад. – Бланш, не подходи. Какой ужас!
Бланш тоже закрылась рукой, но все же сделала еще несколько шагов и заглянула в окно. В прозрачном ящике из стали и стекла она увидала в углу словно пугало для воробьев, из которого торчало что-то белое, круглое и блестящее.
Словно откликаясь на ее слабый вскрик, из-под скамейки вылезла грязная, лохматая собачонка, жиденьким голоском тявкнула и подошла к двери вагона. Постояла немного, словно извиняясь, повиляла обрубком хвоста, потом опять протестующе тявкнула и сконфуженно забилась снова под скамью, вернувшись к своей незаконной трапезе.
Обе девушки, затыкая носы платками и не глядя в ту сторону почти бегом бросились дальше. За Гаммерсмит-Бродвей появились первые признаки человеческой жизни. Два изможденных женских лица смотрели на них из окна верхнего этажа. Бланш замахала им рукой, но женщины с пугливым изумлением поглядели на этих нарядно одетых девушек, и покачав головами отошли от окна. Без сомнения, в доме у них был спрятан запас провизии, и они боялись, как бы у них не стали просить милостыни.
– Ну, слава Богу! – сказала Бланш. – По крайней мере, мы не одни на свете!
– Чего они испугались? – спросила Милли.
– Должно быть, думали, что мы начнем клянчить у них еды.
– Подлянки!
– Ну. Ведь и мы не очень-то были бы рады гостям, – напомнила Бланш.
– Но, ведь, мы не нуждаемся в их пакостной еде!
В гаммерсмитских лавках не было ничего интересного. Одни были наглухо забиты железными ставнями; в витринах других были товары, никакого соблазна не представлявшие, как, например, железные гвозди и болты; но большая часть была уже разграблена еще в первые дни паники.
Перед рядом мануфактурных магазинов девушки остановились:
– Пожалуй, и не стоит идти в Вистерия-Гров за платьями, – сказала Бланш.
– Но как же войти? – смутилась Милли.
– О, войти не так уж трудно.
– Но, ведь, это будет кража.
– Мертвого нельзя обокрасть. Притом же, если мы не возьмем, все равно, пропадет.
– Да, пожалуй, – согласилась Милли. – Но, ведь, тогда уж лучше взять в Вест-Энде. Идем скорей.
Они опять ускорили шаги.
На кенсингтонской Хай-стрит они встретили женщину в роскошном шелковом платье, всю увешанную драгоценностями. Она шла медленной, кичливой поступью, и все время жестикулировала и говорила на ходу. От времени до времени она останавливалась, с большим достоинством выпрямлялась, поправляла ожерелья на груди и как-то особенно разводила руками.
– Сумасшедшая, – шепнула Бланш, и обе девушки поспешили спрятаться в большой квадратной пещере, полной всяких гниющих отбросов, которая была когда-то лавкой зеленщика.
Женщина прошла мимо, по-видимому, не заметив их, и остановилась как раз напротив входной двери. «Царица всей земли!» донеслось до них. – «Царица и Императрица!». Сумасшедшая подняла руку и дотронулась до какого-то странного сооружения на своей голове из диадем и брошек, сверкавших ярче солнечных лучей. Одна плохо застегнутая брошка свалилась, и женщина оттолкнула ее ногой. – «Вы понимаете? – повторила она высоким, вздрагивающим голосом: – вы понимаете? Царица и Императрица! Царица всей Земли!»
И еще долго до них доносился ее высокий, скрипучий голос.
* * *Чем ближе к центру Лондона, тем больше было на улицах признаков замершей жизни. Возле памятника Альберта лежал опрокинутый автобус врезавшийся в ограду парка; а подальше еще два таких же: один на повороте, другой – посредине улицы, заграждая путь. У обоих колеса были наполовину засыпаны пылью, и из пыли уже торчали стебельки травы. Попадались и другие экипажи; кэбы, фургоны, телеги, очевидно, брошенные возчиками, почувствовавшими первые приступы мучительной боли в затылке. Человеческих скелетов встречалось мало: промежуток между первыми приступами болезни и окончательным параличом был достаточно велик, чтобы человек мог укрыться в дом, повинуясь древнему инстинкту, не изглаженному цивилизацией и требовавшему, чтоб он умирал не под открытым небом. И почти везде Природа сама позаботилась о том, чтобы прикрыть или скрасить зрелище смерти и распада. Но в двух местах появление девушек спугнуло целые тучи синих мух, разлетевшихся в разные стороны с таким сердитым жужжаньем, что сестры взвизгнули и бросились бежать; а мухи, разумеется, вернулись к своей оставленной добыче. Даже из домов теперь почти уже не пахло тлением.
За Найтсбриджем Милли и Бланш наткнулись на магазин, на время всецело приковавший их внимание. На окнах все почти скатные тяжелые ставни были опущены и прикреплены болтами, но на одном ставня была спущена только до половины, а внизу зеркальное стекло было открыто. Очевидно, и здесь одна из множества трагедий помешала докончить начатое. Человек с воображением задумался бы над тайной этой полуспущенной ставни; сестры Гослинг остановились, залюбовавшись чудесами, находившимися за окном, на время позабыв обо всем прочем.
За витриной был ряд манекенов, одетых в роскошные платья, какие сестрам и во сне не снилось носить. Блеск атласа, бархата и шелка уже успел потускнеть под тонким налетом белой пыли, но для Бланш и Милли эти роскошные наряды были чудом красоты.
Вначале они говорили шепотом, обсуждая и критикуя, невольно подавляемые окружающим безмолвием, но потом увлеклись и забыли всякий страх. Потом смущенно посмотрели друг на друга.
– Посмотрим, заперта ли дверь? – ведь тут худого нет, – сказала Бланш.
Милли оглянулась через плечо. На улицах ничего живого. Даже воробьи куда-то скрылись. Ничего не ответив, она двинулась к входной двери.
Дверь оказалась не запертой, и сестры, крадучись, вошли.
Они переходили из комнаты в комнату, разглядывая платья и щупая добротность материй. Но в нижнем этаже почти все комнаты были темные, от закрытых ставен, а выключатели только щелкали, не давая света. И девушки рискнули подняться во второй этаж, где было совсем светло, и даже почувствовали себя в безопасности так высоко над улицей.
Здесь они осмелели. Теперь они уже, снимали модели с манекенов, стряхивали пыль, прикладывали пышные наряды к своим простеньким платьям, сшитым дома, и любовались собой и сестрой в несчетных, до полу огромных зеркалах.



