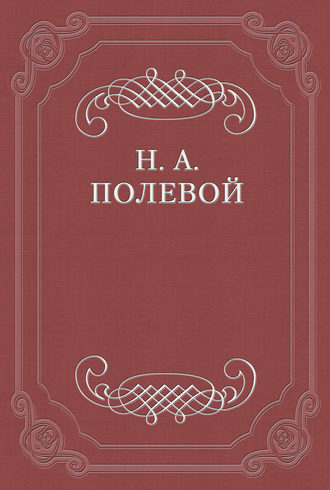 полная версия
полная версияКлятва при гробе Господнем
Я и забыл было вам сказать, что детьми Бог их не благословлял. Железняк задумался. «На что тебе сын или дочь?» – сказал он жене. – «На то, – отвечала она, – чтобы в молодости было нам утешение, а в старости прокормление». – «Молодость моя уже прошла, а прокормиться под старость есть чем, – сказал ей Железняк. – И неужели ты думаешь, что всякое дитя есть знак благословения Божия?» – Он тяжело вздохнул. Жена его замолчала; слеза, как бурмитская жемчужина, покатилась у нее по щеке. «Люблю я тебя, Марья Феофиловна, – сказал Железняк, – и чувствую, что загубил я твою молодость! Не к моему бы сердцу железному прижиматься было твоему нежному сердцу; не мне бы, старику, владеть твоими лазуревыми очами… Так и быть: делай, что хочешь!» – Жена съездила на богомолье; Железняк стал еще угрюмее. Через год, не более, родился у него сын. Такого чудного красавца, как этот новорожденный сын Железняка, и в сказках не слыхано. Русые кудри в три ряда у него завивались; глаза его были, будто киевское небо, голубые, светлые; сам был, как будто молоком облит; на щеках румянец, как будто облачко, когда глядится сквозь него восходящее солнышко. Говорили в Новгороде, что у Железняка родился сын, такой, у которого во лбу было ясное солнце, в затылке светел месяц, по косицам частые звезды, а волос золотой, через волос с серебряным. Так ведь в сказках говорится, а мой рассказ, хоть не прямая сказка, а сродни присказке, у правды же только в гостях бывал, и тут худо его угостили: меду сладкого подносили, да по усам текло, а в рот не попало!
Когда Железняк увидел сына своего, то в первый раз сроду он улыбнулся. По крайней мере, не знали: смеялся ли Железняк бывши дитятею, а у взрослого улыбки не видывали? Потом перекрестил он рукою своего сына и также в первый раз сроду, заплакал, и поплакал-таки довольно. А потом пуще прежнего задумался Железняк. Крестины были богатые; гости, все до одного, свалились под столы дубовые, а кубки их простояли на столе всю ночь, вровень с краями налитые и нетронутые. Видно: были гости хорошо употчиваны, и уж душа-матушка не принимала, глаз видел, да зуб не нял. Что же сделал железняк на другой день? Поехал из Новгорода, взял казны многое множество и уехал к Студеному морю[108], на реку – как бишь имя ее? Забыл, да и только! Вот так мимо рта суется, да не схватится! И то сказать: не все переймешь, что по реке плывет, не все упомнишь, что говорят добрые люди. Правда – иное и забыть не грех, а другое грех помнить!
Жена Железняка нянчила своего милого дитятку, любовалась им, утешалась и недоумевала: куда делся его отец, а ее муж, Железняк Долбило? Не было об нем ни вести, ни повести. Но через год пришла весть, перепала повесть: приехал старый, верный слуга его, с грамоткой. Писал к жене своей Железняк, чтобы она не крушилась об нем, не горюнилась; чтобы не ждала его она никогда в Новгород, и что он уже не мирской, а Божий! Железняк благословлял сына, прислал к жене ключи от всех ларцов, сундуков и кладовых, завещал все своему сыну с его матерью. Сам же он построил близ Студеного моря обитель великую, собрал братию многочисленную, постригся, на третий день посхимился, а на четвертый замуровался в стену так, что оставил себе только маленькое окошечко, в которое подавали ему каждый день по кружке воды, да по сухарю. Братия глядела иногда в окошечко, желая знать, что делает Железняк? И всегда видели они его на коленях, в молитве, в слезах и воздыхании.
Изумилась Марья Феофиловна, услышав такие нежданные вести. Но что же было ей делать? Тяжело вздохнула она, призадумалась и подошла к колыбельке сына своего. Он спал крепко, дышал сладко, как будто ангел-хранитель навевал на него из рая благовоние райских цветов и доносил к нему пение райской птички! Марья Феофиловна тут же и поклялась: не вздевать на голову венца второбрачного, а посвятить всю жизнь свою милому сыну. Через три года известили ее, что Железняк скончался, а перед смертию послал сыну благословение, хотел что-то сказать отцу-настоятелю обидели, но промолвил только: «Нет! пусть будет, что будет: Божия мудрость мудрее человеческой и положенного предела не перейдешь».
Молода осталась после мужа Марья Феофиловна; много сватов и свах забегало к молодой вдове, от бояр, от князей, от посадников. Но, твердо соблюдала она обет свой, не снимала вдовьего платья, кормила бедную братию, давала вклады в церкви, в обители, никогда не бывало у нее ни пиров веселых, ни бесед разгульных. Главную же заботу и первую утеху составлял сын ее, Буслай Железнякович.
Да и молодец он был: рос не по годам, а по часам, как пшеничное тесто на доброй опаре поднимается, рос дородством и пригожеством, умом и разумом. Прошло лет, не помню сколько, а столько однако же, что Буслай сделался дородник и удалец, как светел месяц, так, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать, ни в сказке сказать. Что за рост, что за удаль такая, что за поступь молодецкая, что за кудри золотые, что за походка богатырская! Глазом поведет, так рублем подарит; слово скажет, так заслушаешься, а когда песню заведет, так по улице народ идет, идет, да и останавливается. А ума, разума, всякого таланта и дарования было в нем столько, что достало бы на десять посадников, да еще трем тысяцким осталось бы вдоволь.
Но, вот какая беда: хорош, умен был Буслай Железнякович, да удал больно молодец, и удальство его переходило через чур. Бог весть: такой ли у него веселый был нрав, что ему умничать и важничать не хотелось, а проказы с ума не шли, или уж так он с природы уродился! Говорят еще и вот как, добрые люди, будто настоящему человеку смолоду надобно быть молодцом, в средние годы удальцом, а под старость мудрецом. Тогда, дескать, человек бывает настоящим человеком. Бог знает, правда ли: ведь в людском мудрованье правду, как у змеи ноги, не скоро отыщешь.
Только, таким или другим обстоятельством и порядком, Буслай учиться ничему не хотел, указками бил только по рукам учителей и тихонько дергал их за бороды, когда они слишком заговаривались. Учителя жаловались матери и не брали тройной платы за выучку Буслая. С товарищами бывало у него еще хуже: то и дело заводит он их в такие проказы, что нянюшки и дядьки осипнут кричавши, а все толку нет. То влезет на крышу и там, как воробей, прыгает и бегает; то заведет игры и себя сделает над товарищами воеводой; то взманит их купаться в Волхове – и товарищи его, то руки, то ноги свихивают, то головы проламывают, то Буслай не на живот, а на смерть приколотит их, то едва вытащат их из воды. А он везде, как заговоренный: в воде не тонет, в огне не горит, упадет – только крякнет. Вот и матери, и отцы взбунтуются, придут жалобиться – шум да спор, крик да вздор! Марья Феофиловна не знала наконец, что и делать: отплачивалась деньгами, отпаивалась медом, отговаривалась речами, отмаливалась просьбами. Но что с сыном-то пригадать – все недоумевала! Хотела бы побранить его, а он станет на колени, просит ее умильно, ласково: «Не гневайся, мать моя, милая, не горюй, мать моя родимая!» – Вздумает пожурить его, а он заплачет, так жалобно, так заунывно, что мать думает только о том, как бы его утешить, да приголубить. – Писано: «Любяй сына участит ему раны». – Да ведь это писано об отцах, а не о материнском сердце.
Все еще дело-то так, или сяк, шло бы на стать, если бы Буслай оставался с детскими резвостями. Но приходили помаленьку те годы, когда и у смиренницы кровь кипятком по жилам льется, и у скромницы щеки огнем пышут, приходили эти годы и пришли – и тут-то с Буслаем вовсе ладу не стало! Явились у него друзья, приятели. Вся вольница новгородская, вся молодежь удалая сделалась ему задушевными сопутниками. Пошли у них пиры да веселья, гульба да роскошь такие, что старики и старухи крестились и ушам не верили, когда им рассказывали о Буслае. Лошадь не лошадь, конь не конь, попона не попона, обед не обед, вино не вино, а деньгами – только что Волхова не прудил Буслай. Доброхотство было у него такое, что поит и дарит, кормит и жалует. Кто бы что у него ни попросил – бери: кубок ли старинный, коня ли арабского, ковер ли кизылбашский – тащи, волоки, будь только приятель! Если я скажу вам притом, что за друга Буслай и души своей не жалел: в драку ли, в битву ли – давай, подавай – так вы поверите, что и самые посадники не знали, что делать с Буслаем. Иногда он, бывало, идет мимо Веча, где старичье собравшись сидит, да думает, не придумает, – Буслай с товарищами и к ним. Умом их переможет, дело разрешит, да потом – тому щелчок, этому толчок, все будто шутя; они и осердиться не смеют: ведь за Буслая все станут, а против него никто не пойдет. Старики поневоле хохочут с ним вместе, хоть им и до зла-горя приходится. Перестали в Новгороде дивиться и тому, что когда бывало добрые люди к заутрени идут, а буслаевцы с пира едут, да песни поют. Настанет Великий пост – добрые люди говеть, да молиться; а Буслай с товарищами поедет к немецким гостям, да там поют, гуляют; наденут хари, такие страшные, что собаки взвоются, взлаются у соседей – шум да сумятица, крик да лай, смех и горе, и – Буслаю все с рук сходило.
Так шло, прошло много времени, и вдруг, ни с того, ни с сего, надоели Буслаю пиры и гулянья веселые, опротивели товарищи удалые. Сделал он им такое пированье, что и не слыхано было до тех пор. А какое это было пированье, вот я вам расскажу.
По двору широкому разостлали ковры многоцветные, врыли два столба, повесили на них котел браговарный, налили его полнехонек вина фряжского, поставили подле него три чаши – одну в ведро, другую в два ведра, третью в три ведра. Подле них положили лук разрывчатый с калеными стрелами, а каждая стрела косая сажень[109], наотмашь; да еще положили копье немецкое, а древко у него было выше ворот Кремля новгородского; да подкатили еще палицу булатную, весом в девять пуд. Растворил тогда тесовые ворота Буслай Железнякович, скликал всю вольницу, все разгульство новгородское, своих друзей-товарищей. Вот сошлись, съехались, весь двор кругом обставили конями, и каждый конь был привязан к серебряному кольцу, а покрыт ковриком шемаханского шелка.
Засела разгульная молодежь по двору, и Буслай начал им говорить. «Слушайте, скажу я вам, друзья мои, товарищи, что надоели вы все мне, удалому молодцу, напрокучили. Шалливый вы народ, как старая кошка, а трусливый, как заяц, выпугнутый из леса лихими собачонками. Задумал я, удалый молодец, выбрать себе из вас товарищей, которые умели бы попить, погулять, да за себя постоять могли, с которыми не страшно было бы мне ночью, в бурю, по Ильменю в челночке проехать, в полночь в Холмогорском лесу лешего выкликнуть и пойти на врага, не спрашивая счету по головам, а только спросясь своей удали молодецкой. Вот, смотрите, товарищи: кто выпьет эту меньшую чарку и натянет этот лук, да выстрелит из него каленую стрелу – тот будет мне меньшой брат; кто выпьет эту среднюю чарку, да перебросит это копье через хоромы, за Волхов, тот будет средний, ровный брат – это я сам делаю. А кто выпьет вот эту чарку старшую, славную, зазвонную, и повернет на руке эту булатную палицу, тот будет мне старший брат. С такими молодцами я крестами поменяюсь и на жизнь и на смерть пойду, и что у меня есть, то будет без разделу им, коли захотят они, а что будет у них, то будет мое, без данной и без пошлины». Буслай расстегнул рубашку и показал, что у него на груди висят три креста медные, по русскому православию.
Задумалась молодежь, да и нельзя было не задуматься: велики чарки, туг лук, длинно копье, тяжела палица! Посмотрят в меньшую чарку – хоть выкупайся; посмотрят в среднюю – у трехлетнего ребенка в ней волоски всплывут; а на зазвонную чарку, так и посмотреть страшно: раздуло у нее бока, как у доброго быка! Начали шептать, перешептываться, оглядываться, перебираться… Вот, смотрят-посмотрят, глядят-поглядят – и вышел наконец Иван Гостиный сын по прозванию Палило и говорит Буслаю: «Слушай, Буслай Железнякович! В старшие братья не гожусь я тебе, в средние не смею вызваться, а в младших не выдам!» Все уставились на него, а он перекрестился, взял чарку малую, сказал: «Господи благослови!» и на лоб – осушил всю ее до капельки так, что и на ноготь нечего было слить. Потом взялся он за лук, взял и калену стрелу, покрутил свой богатырский ус, положил стрелу на лук и начал тетиву вытягивать. Раз потянул – лук гнется, сгибается; в другой потянул – тетива загудела и до щеки дошла; в третий потянул – тетива заныла и зашла за ухо. Тут поднял к небу очи свои Иван Гостиный сын – ищет: во что бы пустить ему стрелу каленую? И вот, под самым дальним облачком летит орел, чуть виден, как маковое зернышко чернеется. Иван спустил стрелу, тетива запела, будто вдова по мужу, тоненьким голоском, лук выпрямился, стрела фыркнула и улетела в поднебесье! – Смотрят: в пустую чарку свалился орел ширококрылый, пробитый насквозь стрелою Ивана Гостиного сына…
Тут все гаркнули, пригрянули: «Исполать тебе, Ванюша Гостиный сын! Удал ты чару выпить, удал ты и стрелой владеть!» Буслай обнял его; тут же с ним побратался, крестом обменялся, посадил его на почет и вызвал другого молодца. Только все отказывались: не хотели осрамиться. И вот взъехал на широкий двор Куденей, сын Авксентия Посадника, поздоровался с вольницею, с гуляками, услышал чего требует Буслай, усмехнулся и говорит: «Ох! ты, гой еси, добрый товарищ! давай просто побратаемся. Силы моей не испытывай: прими меня в младшие твои братья!» – «Нет! – сказал Буслай, – люблю тебя за разум и за удальство люблю, Куденей Авксентьевич, а силы попробуй: без того приятель, приятель, а братом не называйся!» – Тут Куденей рассердился, соскочил с коня, подбежал к Буслаю, крикнул: «О! коли на похвальбу пошло, так смотри: не хотел принять в младшие братья, примешь в средние, в ровные!» Как царапнет он среднюю чашу, так махом всю ее высушил, кинул выше лесу стоячего, схватил копье, прошиб чашу на лету, и перелетело копье через хоромы, за Волхов, ударилось в бел горюч камень, расшибло его на мелкие иверни – только искры брызнули!
«Ох! удаль, удаль!» – загремели все, а Буслай снял шапку, поклонился Куденею, просил у него прощения, что усомнился в силе его и храбрости, и посадил его на лавке, выше Ивана Гостиного сына.
Ну! вот теперь ждут третьего удальца, клич кличут – никто не осмеливается! Уж на дворе смеркается, красное солнышко катится за леса Заволховские – нейдет молодец! «Видно троим нам век коротать, братья мои крестовые, и кинем мы жребий, кому из нас доведется быть старшим, мне, или Куденею Авксентьевичу…» – говорил Буслай; но не успел Буслай кончить своей речи – смотрят: ввалился на двор, будто овсяный сноп, урод уродиной: голова нечесана, одежда запачкана, ростом чуть не косая сажень, между плеч две стрелы татарские улягутся. «Это что за чучела морская появляется!» – зашумели молодцы, захохотали, захлопали руками. Незнакомый уставил на всех большие, как лукошки, глаза свои. «Чему же вы рады, бесовы дети? – закричал он зычным голосом, – а вот как примусь я вашу братию с боку на бок переваливать!» – Осмотревшись кругом и видя, что все места заняты, подошел он к первой лавке, взял ее за один конец, стряхнул с нее полтора десятка молодцов, на ней сидевших, и сел сам, развалившись. «Ах, ты, неуч! – крикнули молодцы, – видно, ты думаешь, что ты у отца на печи, да за полку с горшками взялся? Вот мы тебя проучим!» – Они бросились на него кучею. Но незнакомый отвел их рукой, как будто связку соломы оттолкнул, и закричал, что изомнет их, хуже мякины, если они дерзнут к нему приступиться.
Тогда подошел к нему Буслай и сказал ему приветливо: «Вижу, брат, что красивый ты малый и порядочный! Больно только невежливо пришел ты в гости: хозяину не кланяешься, а гостей обижаешь. Зачем ты к нам пожаловал?»
– Ты сам клич кликнул на вольницу удалую, – сказал незнакомец. – Давай мне выпить, давай силы попробовать. А гости твои нахалы – места мне не дали и в глаза насмеялись. – Тогда все подбежали к Буслаю и стали пуще смеяться над чучелой. Буслай указал на три чарки и говорил: «Хочешь, добрый молодец! Вот тебе вино доброе поставлено! А потом, пожалуй, и силы попробуем!» – Встал незнакомый, подошел к малой чарке – покачал головою; подошел к средней – махнул рукою; подошел к зазвонной – засмеялся! «Да что это за чарки? – сказал он. – Воробьям пить нечего!» Он толкнул их все три ногою, пролил вино дорогое, замарал ковер многоценный. – «Коли пить, так пить из полного», – примолвил он, ухватился за столбы, на которых повешен был за ушки котел, вырвал столбы из земли, словно перо из крыла гусиного, приставил котел ко рту, в три роздыха весь выхлебал и порожний котел надел себе на голову. Тут расхохоталась новгородская молодежь, кричит, шумит: «Этакий пьяница! Как он себе глаза-то налил: и котел-то ему шапкой показался!» Незнакомый взял в обе руки по столбу, на которых повешен был котел, и обратись к Буслаю сказал: «На этом что ли силу-то пробовать?» – «Нет! – отвечал Буслай, – а коли хочешь, так вот тебе зубочистка железная!» – Незнакомец перешвырнул столбы на задний двор, взял палицу железную, будто лучину расщепанную, и начал вертеть ее вокруг головы и с руки на руку перекидывать так, что все исперепугались, чтобы он, шутя, не проломил кому головы, закричали, завопили: «Буслай Железнякович! спаси беды великой – признавай его скорее старшим братом своим!»
«Ну, удалый молодец! – сказал Буслай, – делать нечего: не чесан ты – купим гребешок золотой и расчешем твои волосы; не умыт ты – вытопим баню, да выпарим удалого! Будь ты мне старший крестовый брат: я твоей милости кланяюсь. Поволь сказать нам честное твое имя и как твое отчество и откуда ты родом-племенем? А мы твоей буйной головушки доселева в Новегороде не видывали».
– Не велика моя порода, не знатен мой род, – отвечал незнакомый богатырь. – Родился я в Старой Ладоге, от дьячка Фалалея; зовут меня, доброго молодца, Иван, по отчеству я Фалалеевич, а по прозванью Дурачок, потому что мне книжное ученье не далось. Хотел было меня отец в звонари поставить, но как я ни зазвоню, все колокола не выдерживают, бьются, расколачиваются, а я чуть увижу, что колокол треснул, схвачу его с сердцов за уши, да и швырну в Ладожское озеро. Прихожане наконец на меня рассердились, сказали отцу, что либо со мною ему жить, либо с ними. Делать было нечего отцу моему: обнял меня, заплакал, надел на меня котомку, дал мне посошок и благословил, идти на все четыре стороны. Шел я, шел путем-дорогою и пришел к вам в Великий Новгород…
Что же, князья, бояре, – сказал тут. Иван Гудочник, – видно вам моя сказка не понравилась: вы ее не слушаете, да, кажется, чуть ли уже вы и не уснули?
Мы не хотели прерывать сказки, которую сказывал Иван Гудочник. Не знаем – понравилась ли она нашим читателям, а слушателям Ивана Гудочника сказка эта очень приглянулась и пришлась по нраву. Они нетерпеливо слушали начало ее, дивились, спрашивали, хвалили старика-сказочника, но с половины сказки начали головы их качаться, глаза слипаться, сон одолевал их, так что они забыли наконец все: и дела свои, и сказку, и Гудочника. Напрасно некоторые еще бодрились, протирали глаза: один за другим заснули все слушатели Ивана Гудочника, кто куда склонивши свои головы. Старик управитель уже давно и крепко спал, между флягами и сулеями. Тишина сделалась такая, как в полночь на кладбище, и только храпение спящих перерывало ее.
Осторожно прислушивался еще некоторое время Иван Гудочник и, понижая голос, говорил: «Что же вы это, князья, бояре, не слушаете? Заснули на таком месте, где пойдет ложь самая пестрая, а правда самая затейливая. Я вам расскажу: как поехал Буслай за море, как попутала его нелегкая и полюбилась ему княжна заморская, как ее унесла некошная сила, как он с товарищами ее отыскивал: был у Чуда Морского, задушил Кащея Бессмертного, провел царя Высокоброва, обокрал Бабу-Ягу, служил у Огненного царя, заклинал еретика-людоеда, рассмешил царевну Несмеяну, выкупил душу отца своего, связанную рукописанием, данным лукавому…»
Уверясь наконец, что слушатели все крепко спали, Гудочник вдруг изменил вид свой. Он вытянулся бодро, со злобною усмешкою поглядел на спящих и сказал; «Спите же, братия моя, и почивайте! Бог предает вас в руки мои; но – я не вор, не разбойник: отдаю и то, что вы мне подарили…» Тут высыпал он на стол серебряные деньги, которые сбросили ему бояре. – «Но, вы поплатитесь мне дороже», – примолвил он, смело подошел к спящему Юрью Патрикеевичу, вынул у него из-за пазухи сумку, вытащил из нее великокняжескую печать, взял разные бумаги и положил сумку опять за пазуху Юрьи. То же сделал он с боярином Старковым. Неспешно пробегал он потом глазами взятые бумаги; не мог скрывать своей радости, видя их содержание, и спрятал свою покражу в карман.
Набожно обратился тогда Гудочник к образу и воскликнул: «Боже великий, вечный, святый! направь бренную руку раба Твоего! Благослови его начинания, пошли сон и слепоту на враги моя, даруй очам моим прозрение, да исполню святую волю Твою!»
Поспешно схватив гудок свой и шапку, Гудочник Осторожно ушел из комнаты. Никто не встретился ему на лестнице; ворота боярского дома были не заперты, хотя возничие и провожатые боярские ушли в теплые хоромы и спали там. Гудочник отвязал от кольца лучшую верховую лошадь, бодро вспрыгнул на нее, тихо съехал со двора и поскакал потом во всю прыть. Снег хрустел под копытами бодрого коня, продрогшего на сильном морозе.
Глава VIII
…Младой, неопытный властитель,
Как управлять ты будешь под грозой,
Тушить мятеж, обуздывать измену![110]
А. ПушкинНа другой день после пира, бывшего у боярина Старкова, рано утром подьячий Беда прибежал в великокняжескую Писцовую палату, разбудил привратников, придверников, пригнал писцов, велел им поскорее приводить все в порядок, расставлял поспешно скамейки, ставил чернильницы, чинил перья. Нельзя было узнать из его неподвижных глаз и сухощавого лица, был ли он испуган, сердит или печален. Он останавливался среди своих занятий, поднимал бороду свою кверху и, казалось, внимательно прислушивался. Вдруг раздался шорох шагов, послышался голос у дверей. Беда оставил свою работу и почтительно вытянулся. Дверь быстро отворилась; вошел наместник ростовский. Одежда его была в беспорядке, лицо бледно, волосы всклочены, голос хриповатый, как будто наместник три дня сряду гулял, или две ночи не спал.
– Еще никого нет! – вскричал наместник. – Смилуйтесь, ради Создателя! Послали ль за ними?
«Послано уже во второй раз», – отвечал Беда,
– Ох! погубят они нас! – наместник бросился на лавку в совершенном отчаянии. Беда долго безмолвствовал и наконец, тихо и почтительно, осмелился спросить, что причиняет его милости такую жестокую горесть?
«Будто ты не знаешь!» – воскликнул наместник, вскочив со своего места. Размахивая руками, начал он ходить вдоль палаты.
– Меня разбудили поспешно, приказали поскорее явиться и устроить все к заседанию княжеской Думы…
Наместник хотел что-то объяснить Беде, как двери расхлопнулись настежь и сам Великий князь вошел, смущенный, едва опомнившийся ото сна, неумытый, непричесанный, в простом, легком тулупе.
– Петр Федорович! Что это такое? Что рассказали мне? Я ничего не понимаю!
«Государь, князь Великий! Не знаю что и все ли тебе рассказано», – отвечал наместник.
– Ты прискакал сюда неожиданно… Говорят, что все погибло, что все мне изменяют, что дядя Юрий поспешно идет к Москве…
«Правда, Государь! Я скакал сюда опрометью – дядя твой идет по Ярославской дороге – моя дружина разбита – я едва спасся!»
Сухое лицо Беды вытянулось при сих словах и сделалось еще длиннее и суше. Князь казался вовсе неразумевшим, что с ним делается. Он только крестился обеими руками. В это время в палату вошли князь Друцкой и Асяки, предводитель татарской дружины князя.
– Где же мои бояре?
«Где твои дружины, Государь! Спроси лучше: где твои воины?» – воскликнул наместник.
– Я не знаю… Асяки! где твоя дружина?
«Мы оберегаем Кремль, Государь!»
– В Кремле все тихо и безопасно, Государь, – прибавил князь Друцкой. – Мои копейщики на страже у Константиновских и Флоровских ворот.
«Тихо ли в Москве?» – спросил Великий князь.
– Не знаю, Государь! Я начальствую только над кремлевскою стражею.
«Кто же в нынешнюю ночь начальник Москвы?» – спросил Василий.
– Не знаю, Государь!
«Кто же из вас что-нибудь знает! – вскричал Василий горестно. – Но не заметно ли в Москве чего-нибудь шумного? Говори, говори прямо, князь!»
– Москва – море, – отвечал князь Друцкой, – и что на одном конце ее деется, того через три дня не узнают на другом конце.
Тут вступил в палату князь Василий Боровский. Он казался встревоженным, смущенным.
«Государь, Великий князь! – вскричал князь Боровский. – Треть Юрия все бунтует, и моя треть волнуется! Спеши усмирять крамольников!»
– Князь, мой любезный брат! помоги мне! Я не знаю, что мне делать! – говорил Василий.
Поспешно вошел в сию минуту еще боярин. Страх и робость были видны на лице его. «Государь! – сказал он, – спеши к своей родительнице: она очень нездорова! Супруга твоя при ней, плачет, рыдает…»









