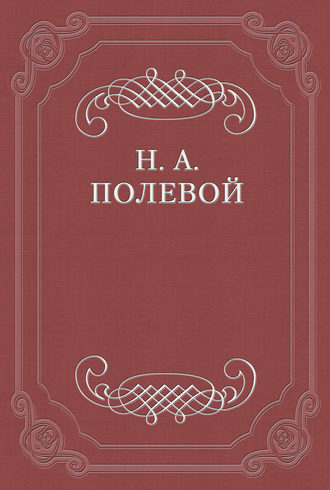 полная версия
полная версияКлятва при гробе Господнем
– И ты мог исполнить обет его, оставшись их пестуном и хранителем, уча их добру и повиновению судьбам Бога, утешая их в скорби, жертвуя за них своею жизнию. Но кровь гордая кипела тогда в жилах твоих, сильна крепостью была плоть твоя и ты взял на себя дело судеб Божиих: поклялся возвратить детям твоего князя, прешедшее царство их…
«Так, но и тогда – гордился ли я? Надеялся ли я на себя, брат мой и друг мой! Я трепетал, да не увлечет меня мир, и молил Бога принять мою клятву, исключить меня из числа живых – да не будет благословения на мне, если помыслю о себе хотя одно мгновение; да превратится тогда для меня каждая капля воды в яд и каждый кусок хлеба в скорпию[99] и змию, если вспомню о самом себе! И я оставил свет, прошел водами и землями и при гробе Господнем изрек страшную клятву мою! С тех пор, сорок лет невидим я, погиб для людей, и только ты один знаешь истинное имя мое, знаешь, что я еще живу, существую, дышу для моего обета».
– Но видишь ли, что гордость увлекла тебя и ты не исполнил прямо молитвы князя? Не исполнишь ты и гордой клятвы своей – я предвещаю тебе! – Голос архимандрита сделался торжественным при сих словах. – Убедись, что несть на ней благодати Божией! Горе клянущимся!
«Не исполню? Доныне я не исполнил, но не было дела против Москвы, где отчаянная голова моя не была бы в залоге; не осталось страны и народа, где не восставлял бы я мстителей за моего князя; не было сердца, где не раздувал бы я гнева! Всюду – презренный, гонимый, скрытый, незримый: я был скоморохом, когда душа моя страдала; дружился, когда сердце мое отвращалось; нечистую руку татарина и литовца лобызал я, как десницу праведника! И когда, даже самые дети, внуки князя моего видели во мне только шута, безумца, соглядатая, крамольника, когда они отвергали меня, когда, наконец, иссохли слезы в очах моих, нет вздоха в груди моей, а я все еще живу, дышу одною мыслью, одним помышлением – не есть ли я орудие Бога, мученик за верность к могиле князя моего, когда и после успеха не жду я себе ни награды, ни почести от истлевших давно в осиротелом гробе костей моего князя, когда и на гроб свой не хочу я призывать благословения и памяти грядущих поколений, скрою, утаю от них все дела мои, все труды мои… И ты меня укоряешь гордостию!»
– Козни врага сильны. Испытай душу твою и во глубине ее найдешь ты укор, ибо слова твои уже указывают твое тайное, но гордое превозношение, кичение и высокоумие!
«Да, я превозношусь, так, как превозносится остов человеческий, не преклоняющий черепа своего ни пред Князьями, ни пред сильными земли! Но для чего же хранит меня еще Господь, когда уже двадцать раз мог я погибнуть на морях, в степях, в битвах, на плахе? Для чего голосу моему дает Он силу убеждения, уму моему силу победы над всеми препонами?»
– Брат Иван! не возносись… Испытуй себя!
«Я возношусь? Я, пришедший к тебе с растерзанным сердцем, с отчаянием в душе, чувствуя, что я недостойное орудие Бога…»
– Может быть отчаяние твое есть тайный призыв Господа, спасающего гибнущую душу твою? О! как эта мысль радует меня! Внемли мне, внемли… Ах! одно слово: Бог хочет орудия чистого, брат Иван, а ты, что употребляешь ты для дела своего? Заговоры, крамолы, меч поганых, вражду родных.
«Не я навожу, не я изобретаю орудия, но судьбы Божии являют их мне: я только употребляю их на мое дело. Разве я двигал орды Эдигея? Разве я возбуждал вражду между внуком Димитрия и сыном его, рассорил Василия с боярином Иоанном, грозил Новгороду, вложил честолюбие в душу Витовта?» Взор Паломника сделался мрачен; он вперил его в архимандрита. «Не ты ли более моего, – воскликнул он, – должен страшиться Бога, что малодушно бежал мира, когда мир отказал тебе в благах любви, счастия, почестей…»
– Несчастный! что напоминаешь, что говоришь ты! – сказал архимандрит, как будто испуганный внезапным привидением.
«Я так же, как ты мне, хочу явиться тебе неумолимою совестью. Неужели ты думаешь, я не знаю, что остаток мирского обольщения привлек тебя в Симонов, что доныне мысль о Боге сливается у тебя с памятью о той, которую разлучила с тобою окровавленная тень отца ее, что при самых алтарях она разлучает тебя от Бога… Лицемер пред человеками, но трепещи, судия мой, трепещи…»
– Великий Боже! – вскричал архимандрит, – неужели единственный человек, знающий тайны души моей, хранится Тобою для того, чтобы слова его показывали мне всю неразрушимость грехов моих! – Он дико глядел на своего собеседника. – Так, вижу, что ты выше суда человеческого, – сказал он, – и суетен суд человека, непостижимы судьбы Божий. Иди, твори на что призван – но зачем же приходишь ты ко мне? Беги в советы князей, будь у них гудочником, скоморохом, паломником, советником – оставь меня!.. – Он сложил руки; уста его дрожали; он усильно творил молитву.
Собеседник его начал ходить по келье. «Последний человек умирает для меня в мире, – говорил он сам себе, – последняя душа затворяется скорби моей… Вижу знамение кончины моей, вижу, что скоро совершиться делу моему… Приими же тогда, Господи! душу мою, яко злато в горниле, очищенную жизнию мира сего! Он только, он один из человеков мог судить меня – и он умолкнет, и не помянется имя мое на гробе моем, и за безвестного брата вознесется молитва погребальная над моим гробом…» – Паломник сел на скамейку и вдруг спокойно начал говорить архимандриту:
«Ты вскоре надеешься окончить обращение князя Константина Димитриевича?»
Как будто от тяжкого сна пробудился архимандрит.
– Вскоре, если Бог благословит, князь начнет искус свой, – отвечал он.
«Ты должен от этого отказаться».
– Как?
«Отказаться, говорю я, и не отнимать князя Константина от мирского жития.»
– Никогда не откажусь, и не могу. Он дал уже мне слово.
«Разреши его».
– Ты хочешь увлечь его в мир?
«Должен. Князь Константин будет Великим князем и супругом дочери Иоанна Димитриевича».
– Никогда, нет, никогда!
«Отдай его миру, говорю тебе, или насильно вырвем мы у тебя слабую душу его. Неужели ты думаешь, он даром не приехал к тебе в последние дни?»
– Куда же вы влечете его, брат Иван?
«Не на худое дело. – Паломник улыбнулся. – На Великое княжение».
– Но князь Юрий, но дети его?
«Они не будут на Великом княжении. Боярин Иоанн уведомляет меня, что Юрий ослабел духом, а презорливый, гордый сын его, Василий, уже и теперь забывает, кому будет он обязан великокняжеским венцом. Если бы Константин был муж духом, то на другой день после ссоры княжеской мог бы уже он сделаться Великим князем. Юрию должен он дать удел, Василию Васильевичу тоже, но – он желает и страшится, хочет и не смеет».
– Совесть, как ангел-хранитель, оберегает его от злых наветов!
«О! успокойся: совесть его давно молчит, только смелости нет, и слово, тебе данное, удерживает его: я глубоко проник в душу князя Константина!»
– И в моих руках, говоришь ты, спасение души его? – Говоря сие, архимандрит быстро взглянул на Паломника. – Знай же, я не отдам ему слова его, – сказал он.
«Разве в мире не может спасти себя князь Константин? Он князь и должен быть не иноком, но князем».
– Драгоценен сосуд серебряный, драгоценнее позлащенный. Боже! подкрепи его, спаси его от козней хитрых, изгони из него дух тщеславия, гордости, суеты, приведи его в сию обитель твою, да променяет он венец на клобук и порфиру на власяницу! О Всемогущий! вся жизнь моя пред тобою – дай только грешным рукам моим довести к избранному стаду овна благородного, потомка Мономахова! Прославь обитель Твою, пастыря коей благоволил быть меня! – В глазах архимандрита, поднятых к небу, светился жар души, с каким говорил он.
Паломник смотрел на него внимательно. «И он говорил мне, – сказал наконец Паломник, – что гордость не должна быть доступна человеку, и он гремел страшными укоризнами против моей гордыни, и он отрекся от мира! И этот человек шел некогда со мною, одушевляемый одним чувством… И что разлучило так души наши, что разъединило сердца наши? И если это не гордость, то что же это такое? Какое чувство оживляет его?»
Паломник сложил руки на груди, несколько раз прошел по келье и остановился перед архимандритом.
«Более никогда не увидишь ты меня. Да судит обоих нас Бог, и да покроет тайна разговор наш, да не узнает ухо, что изрек здесь язык наш! Благослови меня, отец Варфоломей, и – прости, прости навеки!»
Архимандрит, не говоря ни слова, благословил Паломника. Глаза их встретились и – слезы брызнули из глаз того и другого. «Брат! Друг!» – воскликнули они и – крепко обняли друг друга. Слышны были рыдания их…
Глава VI
Я вечор молода
Во пиру была,
Во пиру была,
Во беседушке…
Русская песняВ полном разгаре была Масленица московская. Как и ныне бывает на праздниках – Бог весть куда спрятались горе и беда, скудость и бедность! Казалось, что в Москве остались все только богатые, да веселые люди, а горемычный народ и нищета отправились из Москвы, куда глаза глядят. Великолепие, блеск, роскошь видны были повсюду – повсюду… да потому, что людские взоры обращаются только туда, где блестит и где весело! Освещенные хоромы богача закрывали бедную хижину, таившуюся в тени, подле палат его, а клики веселых пиршеств и стук заздравных ковшей заглушали тихие вздохи горести, задушаемые в груди бедного соседа. Впрочем, Масленица всегда такое время на Руси, когда всякий русский человек веселится запоем. Если бы Масленица продолжалась у нас не неделю, а три, четыре – половина Руси сходила бы с ума, а другая не знала – чем прожить ей остальные одиннадцать месяцев в году! В старину веселье, в каждый день Масленицы, начиналось с самого утра. Надобно было опохмеляться от вчерашнего, а потом ехать в гости, где дорогим гостям были радехоньки, потому, что это оправдывало новое требование – выпить: являлись блины и казались сухи: надобно было промочить горло. Потом надобно было разгулять хмелину: ехали на бег; сани сцеплялись целыми рядами, и со звоном колокольчиков и бряцаньем побрякушек на дугах сливались песни. Пешеходы бродили рядами и толпами и также пели, кто как мог и кто как умел. Толпы народа, с утра до вечера, собирались на льду Москвы-реки: там увеселяло их зрелище, похожее на забавы древних римлян – кулачный бой. Тут русский был совсем на своей воле… Вечером начинались новые потехи – вечеринки, где ужин соединялся с обедом, пили, не для того уже, чтобы опохмелиться, а чтобы нагуляться для нового похмелья на завтра. Заздравным чарам и чашам теряли счет, и потому, что они были подносимы без счета, и потому, что под конец веселья никто уже не смогал считать их.
А женщины русские? Веселились ли они на Масленице? Говорят, что они сидели уединенно в своих теремах? Как это жалко и как много недоставало к веселью стариков наших, если прабабушки наши не оживляли их бесед своими речами, взорами и веселостью!
Нет! не думайте, чтобы веселье не растворяло дверей и в женских теремах. Правда: в старину не было наших балов и женщины не смотрели тогда царицами, но неужели вы, хоть на одно мгновение, сомневались, чтобы женщины и тогда не владели умом и разумом людским, так же как и ныне? И прежде – сквозь запоры и решетки, прокрадывалась любовь к девушкам, и женщины умели веселиться; только образ веселья бывал инаков. и не походил на нынешний. Ведь и щеголи тогдашние не были похожи на нынешних щеголей. Послушайте, как водилось в старину…
Наступил вечер; народ гулящий разбрелся, разъехался по домам; дворы набиты были санями, верховыми лошадьми, возками. Только на дворе боярина Старкова было тихо, по крайней мере было не так шумно, как обыкновенно бывало в праздники прежние у этого богатого и знатного вельможи. В окнах его хором не светились огни. Зато окна в тереме боярыни его были освещены ярко: боярыня пировала со своими подругами. Наденем шапочку-невидимку, обуем сапожки-тихоступы и войдем в терем, по широкой, но крутой, дубовой лестнице.
Почти никакого различия в убранстве женского терема, против мужских покоев, не было. Будуаров и диванных тогда не знали. Зеркал и туалетов не ведали, за щепеткое убранство госпожи отвечали рабыни. Пестрая изразцовая печь, с широкою лежанкою, огромная кровать, с толстою рамою у потолка, от которой опускались сплошные, дорогие занавесы до самого пола, пестрые ковры на полу, мягкие тюфяки на лавках, расположенных кругом стен, поставцы и горки с золотом и серебром – вот, что принадлежало к терему женскому.
Присутствие Масленицы означалось в тереме боярыни Старковой тем, что на обширном столе разостлана была дорогая скатерть, и весь этот стол заставлен был закусками, вареньями, пряниками, ягодами, яблоками и плодами, сушеными и мочеными, пастилами, хворостами, лепешками и блинами. Все это было освещено множеством свечей. Вокруг стола сидело несколько княгинь и боярынь. У дверей, в раболепном молчании, находилось несколько рабынь и подобострастно все они смотрели на угощенье и веселье боярское.
Богато одеты были гостьи – в бархате, жемчугах, драгоценных каменьях. Ферези их, кокошники, серьги, ожерелья, зарукавья, телогрейки – блистали золотом и дорогим шитьем. Щеки их густо были покрыты белилами и румянами. Хозяйка стояла с подносом перед толстою какой-то княгинею и кланялась в пояс, держа в руках серебряный поднос, на котором были поставлены маленькие, золотые чарки.
– Княгиня-матушка, выкушай, – говорила хозяйка. «Мать ты моя, родная, – отвечала княгиня, – не сильна одолеть твоего радушия – не могу».
– Да, сделай же милость.
«Вот тебе слово правое – не могу!»
– Да, пожалуй же.
«Не беспокойся: не буду».
– Я сговорчивее тебя, княгиня, – сказала другая гостья, – не в черед беру.
«Покорно просим, боярыня, – отвечала хозяйка, – только не погневайся на убогое угощение; чем богаты, тем и рады!»
– Ох, ты, моя распрекрасная! Ведь унижение, паче гордости! Сытехонька, пьянехонька – вот, что скажешь, как, побываешь у тебя в гостях! Ну-ка, бери что ли, княгиня!
«Нет, моя родная. Ей, ей! не в силах!»
– Девки сенные! повеличайте княгиню! – сказала хозяйка, обращаясь к рабыням. Они запели хором:
Хорошая княгиня, пригожая,Ты боярыня умильная,Свет Авдотья Васильевна,А ты чарочки не задерживай:Больше выльется, больше слюбится,Слаще, крепче поцелуется!Общий смех раздался по терему. «Ну, уж, что у тебя за песельницы такие, мастерицы-собаки!» – говорили гостьи.
– Да, живет-таки, хоть поют и спроста. Княгиня! пожалуй же выкушай!
«Что за спесь боярская, – шепнула одна гостья другой, – самой давно хочется, а все-таки отнекивается. Уж куда не люблю я чванных!»
– Машка! – вскричала наконец хозяйка старухе, которая стояла в углу, сложа руки, – стань на колени, проси княгиню! – Эта старуха была кормилица боярыни Старковой.
«Нет, нет! – сказала тогда княгиня, – что ты, милая моя, разрумяная! На что хлопотить старушку твою. – Подай, подай!»
Она взяла чарку. Все другие гостьи поспешно взяли за нею. «Ну, девки! – сказала хозяйка, взяв в свой черед, и потом отдав им поднос, – спойте, да – смотрите же – не веселую, а заунывную».
– Да, да! – заговорили гостьи, – когда на сердце весело, то унылой песне, словно другу милому, рад бываешь. Вот тогда печаль ненавистна, когда сама, незваная, пожалует.
В огороде капустушка кочнем свивается,А у меня ли золот перстень ручку жмет,Сердце нежное горит, горит, вспыхивает,В буйну голову от сердца ударило,На щеках моих румянец выгорел,Русы волосы на головушке высеклись,В очах горючи слезы высохли!Не видать-то мне друга сердечного,Не ласкать друга задушевного,Золотым перстнем с нёлюбом обменялася,От сердечного друга отказалася…Так пели сенные девушки боярыни Старковой. И вдруг среди этого унылого пения их одна певунья радостно воскликнула: Гей, Сдунинай Дунай! Быстрым переходом печальная песня перешла в шумную, плясовую: Ах! где жена была, где боярыня была! – Две девушки выступили на середину комнаты и начали русскую пляску. Они сходились, расходились, подпирались руками, притопывали ногами, искали, манили одна другую, убегали одна от другой. Все говорило в них: взор, поступь, улыбка – это был полный рассказ любви, всех ее страданий, мучений, стыдливости, победы, отчаяния, забвения… Но нам ли описывать Русскую пляску, это создание души русского народа, эту поэзию в лицах, и особливо русскую пляску, не изученную, не чопорную, не прикрашенную чужеземными прыжками и кривляньями, но, как чистый голубь, излетевшую из русского сердца, в первобытной ее простоте и красоте, или красоте и простоте, что все равно! Между тем еще раз песня сделалась унылою – запели о том, как любила молодца красная девушка, любила душевно и сердечно, как разлучила сердца их злая судьбина, и девушка обвенчалась с гробовой доскою, а молодец обручился с саблею острою… Вдруг потом, опять звонко раздались голоса сенных девушек:
Что не пир, что не пир, не беседа.Где я милого друга не вижу,Где постылый мой муж на почете,На почете, постылый, в большом месте!Надо мною, молодой, похвалился:У меня-де жена молодая,У меня хороша и гуллива;По ведру она браги выпивает,А чарочки, да кубки не считает:А все хороша, да не пьяна,А все меня старого любит,Хоть не любит – лелеет, голубит!Громкий смех раздался по терему, когда эта песня была окончена. Гостьи понемногу становились смелее и говорливее. Женский разговор переливается только в два тона: это голос соловья, когда в женщине говорит сердце, и – щебетанье воробья, во всяком другом случае! Мы не станем пересказывать щебетанья, какое началось тогда между боярыней Старковой и ее гостьями: сердца их молчали! Следующую чарку доброго вина легче взяла и сама спесивая княгиня Авдотья Васильевна, только надобно было пропеть ей Чарочку. Знаете ли вы эту песню, которую перепевали в беседах русских из века в век и при которой все собеседники подтягивают своими голосами? Вот она:
Чарочка моя,Серебряная,На золотом блюдеПоставленная!Кому чару пить?Кому выпивать?Здесь хор останавливается, и один голос поет:
Выпить чаруСвет (поется имя), Выпить чару(Поется отчество)Хор быстро пристает к голосу и величает того, или ту, кто пьет: Многая, многая лета, многая, многая лета) В то же время один голос напевает:
На здоровье,На здоровье,Чару выпивать,Другу наливать!Хор песельниц казался каким-то странным существом: человеком и машиною вместе. Когда приказывали ему петь, плясать – душа, жизнь являлись в хоре, голоса разливались стройно, звонко, радостно. Кончив пляску, пение – рабыни стояли неподвижно у дверей, как истуканы, опустив глаза и руки. Только одна Машка, старая кормилица, имела право подпирать рукою свой подбородок, держа другую руку под локтем поднятой к подбородку руки. Ей также оной позволялось произносить приговорки и слова: «Ах! мать моя! Ох! боярыня! Эх! красное солнышко, белая лебедушка моя, горлица ненаглядная».
– Что ты смеешься, подруга моя дорогая? – спросила наконец боярыня Старкова у одной гостьи, которая не разговаривала ни с кем и не могла удерживаться от смеха.
«Да что, – отвечала гостья, – пришел мне в голову смех, А вот он какой: отчего это в песнях все поется про молодцов, про любовников, а если где придется помянуть мужей, то они либо за чужими женами ухаживают, либо свою жену бранят, либо жены на них жалуются? А уж кто у песни в почете бывает, так это все девушки, и то красные!»
– Вот что вздумала, затейница! – отвечала, смеясь, другая гостья. – Да разве не знаешь ты, что век-то наш только и есть, пока мы в девках, а то уж какой тебе век – словно нехотя чужой доживаешь?
«Слава тебе, Господи! – вскричала третья. – Отчего бы так вам казалось?»
– А вот мы спросим у старушки, – прибавила вторая. – Скажи-ка, бабушка, – продолжала она, обращаясь к кормилице, – что ты думаешь о том, что мы теперь говорим?
«А что, боярыня милостивая, – отвечала старуха, кланяясь, – есть старое присловье: сказка складка, а песня быль. Видно, в самом деле так на белом свете и водится».
Гостьи засмеялись. Старшая по летам немного оскорбилась словами старухи.
«Хорошему же ты учишь, бабушка, – сказала она. – Будто так и в самом деле всегда на белом свете бывает?»
– Да уж видно, что так: из песни слова не выкинешь.
«А вот я первая, – возразила гостья, – не знала любви вашей до самого замужества».
– Ну, видно, боярыня, к тебе любовь не хотела зайти в гости и ты ей не приглянулась.
Подруги закусили губы, потому, что в самом деле спорщица была ряба и коса. Но самолюбие женское еще хотело противиться. «Нет, – вскричала спорливая гостья, – я узнала любовь, когда мой Филипп Яковлевич на мне женился, а посмелся-ка кто другой подкатиться ко мне, я так его скатила бы на зимних салазках, что и не опомнился бы он!»
– Я верю, матушка, что ты своего муженька больно любишь, только вот ведь какие две беды – сказала бы, да не смею…
«Говори, говори!» – вскричали все, и даже сенные девки осмелились оборотить глаза на старуху.
– А вот что, простите вы моему дурацкому рассудку, – начала старуха, – любовь, боярыни, дело вольное, и уж как ты мужа ни люби, как муж тебя ни люби, а все эта любовь похожа на соловейку в клеточке, которой поет, да не высвистывает – потому, что воли-то уж нет у вас, ни у тебя, ни у него.
«Да, что же? Если я этой неволе сама рада?»
– Так, матушка, а все ты будешь думать, что, может быть, он тебя поневоле только любит. А как уж один раз подумала, то – прощай наша Параша! Хоть волосом человека привяжи, хоть кандалами прикуй – все он на привязи. Если невзгоды в самом деле нет, да ты полагаешь, что есть, так и, стало быть, счастье-то вам уж приказало долго жить, а оставило вас так – бессчастными – ни при счастье, ни при несчастье. А человека Господь на счастье ведь создал, и в эдакой, бессчастной-то доле, сердцу его и неловко кажется.
«Нет, нет!» – вскричали многие гостьи.
– Постойте, – сказала одна из гостей, – бабушка не сказала еще нам о другой беде.
«Да, да!»
– А вот какая другая беда, государыни-боярыни, что опять любовь-таки и невольное дело. Как ты полюбишь и сама не знаешь: иногда вдруг – взглянула, да и не опомнишься, и уж не взмилится тебе ни родня, ни белый свет; ни питье, ни еда на ум нейдут; сердце сохнет, грудь горит, по коже – как будто мурашки бегают; часы кажутся годами, а дней не замечаешь, смотря по тому: розно или вместе бываешь с любимым человеком. А иногда злодейка-любовь подкрадется потихоньку – сперва будто и не любишь, и не воззришься на задушного-то человека, даже больно не полюбится он тебе, а потом – пуще отца и матери, рода и племени…
«О, нет, нет! – заговорили многие, – это все бывает, когда любовь не просто приходит. Ведь есть злодеи, колдуны, нашептывальщики, заговаривальщики…»
– Колдуны! – молвила тихо одна молодая гостья другой, – какое тут колдовство: голубой глаз, русые кудри, богатырская поступь, да горячее, горячее сердце…
– Ах! – отвечала ей та, которой она говорила, – я давно уж забыла такое время, давно пережила его и состарилась…
– Ну, уж будто ты старуха! Хороша твоя старость – ведь и теперь еще двух лет нет, как ты замужем. А скольких лет ты выходила?
«Семнадцати… Ах! я тогда была еще очень молода…» – Слезы навернулись на ее глазах.
Та, которая говорила с нею, задумалась. Другие между тем шумно разговаривали с кормилицею, смеялись, спорили. Задумчивая гостья оборотилась к своей подруге и говорила ей тихо: «Душа моя Анфиса! ты на все так-то горько смотришь, как будто тебя и радостью-то обошли на белом свете…»
– Да, – сказала Анфиса, – мне кажется, что я незваная гостья на пиру жизни.
«Ты, милый друг, все сокрушаешься, кажется мне, о потере твоей хорошенькой малюточки, – сказала ей толстая боярыня, сидевшая с другой стороны, вслушавшись в ее речи, – полно тебе: что Бог дал, то взял… Возложи печаль на него!»
– Ах, матушка! – сказала кормилица-старуха, подойдя к печальной гостье и вмешавшись в разговор, – гневишь ты Бога, если о дочке своей скорбишь, да жалеешь!
«Перестань, бабушка! Мне кажется, я тогда только и спокойна, когда об ней подумаю, да помолюсь за нее, или за упокой души ее подам в церковь!»
– О, худо ты делаешь, грешишь ты тяжко. Знаешь ли, что ты причиною, может быть, ее непокоя? Иное дело за помин грешного человека подавать – ты облегчаешь его душу, которая не может от земли оторваться. А младенческая душка, чистая, прямо к Богу идет! Ведь ее на земле и удерживала только любовь твоя; теперь, пока ты горюешь о ней, не расстаться ей с землею и в царстие Божие не войти. А ты благослови ее, отпусти с молитвою, да и забудь о ней до радостной встречи на небесах!
Тут пришла в терем другая старуха и начала что-то шептать на ухо боярыне Старковой. Весть казалась любопытною. Все обратились к ней с вопросами.









