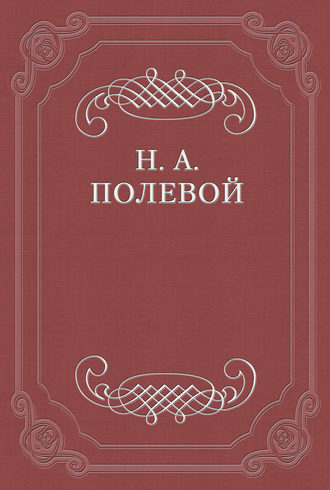 полная версия
полная версияКлятва при гробе Господнем
Жаль было смотреть на Василия в сии минуты: смущенный, встревоженный, пораженный вдруг столькими ударами, он не знал, что думать, не знал, что сказать и куда идти! Палата наполнялась между тем боярами и князьями. Явились Старков, Юрья Патрикеевич, Ощера.
– Думные мои советники, бояре, князья мои! – вскричал Василий, – скажите, что со мною делается? Слышу, что против меня идут в торжестве враги, мать моя при смерти, жена плачет, измена раздирает Москву. Но давно ли, не вчера ли еще, были мы с вами, в великокняжеском нашем Совете, и вы все уверяли меня, что я торжествую, что отвсюду окружен я верными людьми, что народ души во мне не слышит, что вы пойдете с сильными дружинами на вероломного дядю, что князья русские явятся по первому моему слову?
«Князь Великий! утро вечера мудренее – не нами началась эта пословица, не нами и кончится. Может быть, того мы вчера не досмотрели, что сегодня увидим. – Так начал говорить Юрья Патрикеевич. – Но есть еще другое присловье: даст Бог день, даст Бог ум. Мы все слуги твои и рабы твои, мы будем стараться, а ты, Великий князь, успокойся, не унывай, молись, возложи печаль свою на Господа и верь, что погибнут мыслящие тебе зла. Главное дело; будь в этом крепко уверен. Вера дело великое – она все побеждает. Теперь примемся мы советоваться и думать».
– Не поздно ли, когда вы не успели надуматься прежде, – сердито вскричал наместник ростовский.
«Петр Федорович! замолчи! – сказал Юрья Патрикеевич. – Все дело надобно обсудить и посмотреть в старые решения, как все это прежде делывалось, так мы и решим».
– В каком судебнике сыщешь[111] ты указ на решение этого дела? – сказал наместник ростовский.
«А ты думаешь, что прежде этого и не бывало? – с жаром возразил Юрья. – Будто новое нам это дело! Посидел бы ты в первом месте в княжеской Думе, так привык бы и не к этаким делам. То ли было, когда князь Василий Димитриевич Богу душу предал, и мы с покойным владыкою Фотием ночь ноченскую сидели в Думе, и уже утром боярин Иоанн пришел к нам и сказал, что дело порешено – тогда только решились мы разойтись! А когда, потом раздумье было о поездке Великого князя к Витовту, или о поездке в Орду…»
– Ах! был тогда у меня боярин, за которым не знал я, что такое заботы и тоска моего великокняжеского сана! Для чего он сделался лютым врагом моим и злодеем! – проговорил Великий князь тихо, обращаясь к князю Оболенскому, молодому чиновнику, по-видимому, человеку, близкому его сердцу.
«Мне кажется, – отвечал, также тихо, этот юный друг Великого князя, – что дядюшка твой не проспал еще вчерашней хмелины. Я никогда не видал его таким говорливым: откуда рысь берется».
Василий усмехнулся.
– Нет! ты еще не привык к ним. Старики бояре народ такой, что прежде наговорят много пустого, а потом уже примутся за дело. Я всегда дремлю, когда начинаются наши советы, и просыпаюсь только под конец, чтобы слушать, когда примутся советники мои за настоящее дело.
О юность, юность! как мало знаешь ты жизнь человеческую, как весело и шутливо ты играешь ею, и как ты везде и всегда одинакова!
Между тем говор голосов заглушил уже слова Юрьи; бояре и князья зашумели, будто пчелы, встревоженные в улье. Тут, придавая себе сколько мог более важности, Юрья Патрикеевич подошел к столу, возвысил голос и провозгласил: «Прежде всего, уверимся в верности рабов и слуг княжеских. Бояре и князья! подымите руки и повторим: да не будет на нас благословения Божия, если кто из нас помыслит зло против Великого князя нашего, Василия Васильевича!»
– Да не будет, да не будет! – раздался общий крик, руки всех присутствующих были мгновенно подняты.
«Прежде хмель станет тонуть, а камень по воде поплывет, нежели я изменю моему князю!» – вскричал Старков.
– Да лопни моя утроба, яко Иудина! – закричал Ощера.
«Батюшка ты наш! дай себе ручки расцеловать!» – вскричали многие, бросаясь целовать руки Василия; другие обнимали даже ноги его.
– Ты что стоишь, татарин? – сказал Ощера Асяки. – Целуй и кричи!
Асяки усмехнулся. «Я худо знает, что ваша кричит, – сказал он. – Давай сражаться – пойду, убью, либо убьют Асяки!»
– Вот, – воскликнул Юрья, – главное теперь и сделано! Не беспокойся, Великий князь, благоволи поспешить к матушке своей, Великой княгине Софье Витовтовне: она беспокоится о тебе и ей очень нездоровится, утешь ее, и пожалуй после того к нам. А мы на досуге здесь все дела обдумаем!
Великий князь безмолвно удалился; за ним ушли князь Друцкой и Асяки.
«Молодцы вы, бояре и князья! Как ажио вы пригрянули! – сказал Юрья. – Спасибо, исполать, исполать вас!»
– За нами не станет! – воскликнул Ощера.
«Садитесь же все по местам, да станем судить и думать».
Наместник ростовский потерял последнее терпение. «Если ты хочешь дурачиться, так твоя воля: но за что ты нас-то дурачить думаешь, Юрья Патрикеевич?» – вскричал он.
– Как: дурачить?
«Ребят что ли нашел ты? Помилосердуй: то ли теперь время, чтобы растобарывать, когда вся безопасность Москвы висит на волоске?»
– Я еще прежде хотел было тебя спросить, Петр Феодорович: кто созвал Думу Государеву в такое необыкновенное время и что за важные дела такие привез ты, из-за которых даже и помолиться доброму человеку не дали порядком, как будто в уполох ударили?
«Я по приказу Государеву велел согнать сюда всех вас, беспечных стражей его покоя и здравия!» – гневно воскликнул наместник.
Юрья не любил ссор, но не любил и нарушения порядка. Струсив от гнева и слов наместника, он сказал, однако ж, довольно твердым голосом: «Непристойных речей говорить и распорядку мешать – все-таки не должно, боярин…»
– Так вы распорядком называете это, бояре и князья, что более недели прошло, как вы должны были немедленно отправить дружины, уладить князей, захватить крепче Москву – и ничего этого не сделали, а только что пили, да гуляли?
«Во-первых, – отвечал Юрья, – дружины высланы: одна с тобою, вторая с Басенком, третья с Тоболиным…» Наместник хотел прервать слова его, но Юрья махнул рукою, говоря: «Дай кончить, – и продолжал. – Тебе надобно было захватить Дмитров, взять в полон князя Юрья Димитриевича и злодея Ваньку-боярина; Басенку стать в Сергиевском монастыре и охранять место между Владимиром, Суздалем и Дмитровой; Тоболину идти на Галич[112] и Кострому, отрядив дружины в Нижний. Так ли, бояре, было? А?»
– Так! так! – заговорили все.
«Сегодня положено выступить главному отряду воинства под моим воеводством; войско собирается в трети князя Василия Ярославича. – Так ли, князь?»
– Войску велено было собраться, но ты сам приказал ему после того разойтиться, – сказал князь Боровский.
«Как: я приказал?»
– Да, сегодня в ночь пришел от тебя приказ: выступить части его по Коломенской дороге и идти поспешно на Рязань; Тоболину послан приказ взять Ярославль, а остальным дружинам разойтись по домам.
«Что вы? Что вы? – вскричал Юрья. – Я и не помышлял! – Да разве я с ума сойду! Как – на Рязань – на Ярославль – разойтись?»
– За государевой печатью присланы были от тебя приказы. Где ты сам был – не знаю, не знаю также: кто велел перепоить дружины и кто велел потом отдать на грабеж пьяным воинам дома князя Юрия и детей его? – Там сделалось страшное смятение, началась драка, треть вся взбунтовалась – пьяницы прибежали и в мою треть – я не мог сопротивляться, кинулся сюда; да и что мне было делать?
«В Ярославль – по Коломенке? – говорил Юрья, – распустить – грабить!» – Он глядел на всех, выпучив глаза.
– Знай же, – сказал тогда наместник ростовский, – что я моею дружиною разбит врагами, не доходя до Дмитрова – едва бежал – и вся вражья сила напирает теперь на Басенка – ему не выдержать – и через несколько часов Великому князю небезопасно будет в Кремле!
«Да; зачем же ты не захватил князей? Зачем: ты не разбил дружин их? А ты, боярин Старков? Так-то смотрел ты за безопасность Москвы?»
– Да, не с тобой ли мы проспали всю ночь, после вчерашней пирушки! – вскричал с досадою Старков. – Ты, полно, сам не кривишь ли душою, Юрья Патрикеевич, что потихоньку спаивал нас, а между тем ночью раздал такие приказы…
«Я раздал? Посмотрите: вот они и печать, здесь…» – Юрья схватился за сумку, в которой всегда лежала у него великокняжеская печать и которую всегда носил он в кармане: печати не было, а вместо оной лежала записка: «Пей, да ума не пропей!»
– Измена! – вскричал Юрья. Записка и сумка выпали из рук его. Другие князья и бояре подхватили их и прочли записку. «Пей, да ума не пропей!» – раздалось в палате. Смех, досада, гнев заволновали собрание. Юрья безмолвствовал.
– Сидите вы подле баб своих, да гуляете, – загремел тогда наместник ростовский, – а мы кровь свою проливаем за вас. Князь Василий Ярославич! – продолжал он, обратясь к князю Боровскому, – в тюрьму этих замотых, скорее, и нечего мешкать! Где князь Константин Дмитриевич?
«Он уехал в Симоновскую обитель и сказал, что отрекается от всех дел», – отвечал Боровский.
– А что же князья Можайский и Верейский?
«Они злодеи! Прислали мне вчера сказать Великому князю: Мы по тебе душами нашими; да есть у нас свои люди и городы беречь, а одолеешь ты, князь Великий, князя Юрия и мы тебе кланяемся, да милости себе просим; не одолеешь, против тебя не пойдем, а только ты помышляй сам о себе…»
Шум в палате усилился в это время и напрасно хотели унимать его князь Боровский и наместник ростовский, Ощера, Старков и вчерашние собеседники сих бояр сидели, молчали, угрюмо повеся бороды. Но князь Юрья первый опомнился.
– Князья, бояре! выслушайте меня, – сказал он, – судите и решите. Грешный человек – скрываться не стану: праздничное дело, и кто же о Масленице не гуляет? Но тут было что-то недоброе: нас опоили, околдовали, и видно, что только заступление Угодника, которому вчера я отслужил молебен, со слезами и с водосвятием, спасло меня от напрасные смерти. Все это мы разыщем. – Измена, измена, князья и бояре!
– Измена! – Глупость! – кричали с разных сторон.
«Я первый предлагаю подать пример строгости, – провозгласил Юрья. – Два изменника, братья Ряполовские, сообщники Косого и Шемяки, сидят в тюрьме; казнить их немедленно, на торговой площади, во страх другим!»
– Казнить, казнить! – закричали Старков, Ощера и многие бояре.
«Москву усмирить войском».
– Да где оно? – сказал князь Боровский.
Тут явился в палату, прискакавший с Троицкой дороги, вестник, молодой боярин, посланный от Басенка. Все окружили его. Едва мог собрать силы смущенный боярин и сказать, что на Басенка напали дружины неприятельские, сбили его, и он едва успел оправиться и остановиться на берегах Клязьмы.
Еще не прошло всеобщее изумление от сего нового известия, как прибежал князь Друцкой и сказал, что в трети Юрья Димитриевича начался пожар, тамошняя чернь вооружилась дрекольями и испуганные москвичи бегут отовсюду в Кремль.
Нестройный крик заступил тогда место Совета. Взаимные обвинения, укоризны, упреки сыпались со всех сторон. Вскоре явился сам Василий Васильевич и тщетно хотел унять раздор, споры, несогласие советников своих. Между тем как смятение в Думе умножилось, вести беспрерывно приходили, одна другой хуже и, вероятно, были увеличиваемы приносившими их людьми, испуганными, встревоженными, захваченными врасплох. Лица вестников говорили еще выразительнее слов их. Юрью Патрикеевича, что называется, совсем загоняли; он только уже старался уверить Василия, что не изменял и не изменит ему.
Наконец, Василий, как будто перемог самого себя, как будто сознал в себе новые силы. В первый раз в жизни своей, величественно, твердым голосом, провозгласил он своим советникам:
«Или не знаете вы, в чьем присутствии осмелились забываться до такой степени, рабы мои? Или уже не чтите вы крови Мономаха в лице вашего князя, которому клялись быть верными в жизни и смерти? Умолкните, дерзкие рабы!»
Смелый голос юноши, рожденного на троне, и неожиданность поступка и слов Василия Васильевича, внушили невольное почтение всем присутствующим. Все умолкли.
Несколько голосов осмелились было еще проговорить глухо: «Измена, Государь!»
– Молчать! – громко воскликнул Василий.
Настала совершенная тишина. «Если есть измена, если и между вами, здесь даже, кроются клятвопреступники – я не страшусь их! – сказал Василий. – Идите, окаянные злодеи, идите, к моему вероломному дяде, который, забыв крестное целование и слово клятвенное, дерзает восстать против власти, поставленной от Бога и утвержденной его и моим повелителем, великим царем Востока и всея Руси!»
Все молчали. «Чувствую, – продолжал Василий, – чувствую, что десница твоя, Господи! тяготеет надо мною и предвижу все бремя, возложенное тобою на рамена мои, да сподоблюсь быть достойный пастырь стада твоего! В то время, когда мать моя находится при дверях гроба – сатрапи, мучителие, царие, начальницы стран варварских, на зло смудрствовавшеся, на стадо твое сие, яко же львы и зверие свирепо яростнии рыкающе!» – Василий поднял глаза к небу и благовейно сложил руки.
– Князь Великий и брат мой по родству! – сказал тогда растроганный князь Боровский, – позволь мне сказать тебе совет мой…
Василий тихо повел рукою на его сторону. «После советы человеческие, – молвил он, – а прежде к Богу-советодателю!»
Он оборотился к одному из бояр и сказал: «Иди, вели отворить Успенский собор, позови отца протоиерея, скажи, чтобы он приготовился к Последованию в нашествие варваров. Я немедленно явлюсь в святом храме».
Он умолк и тихо проговорил, после некоторого молчания: «Господь сокрушаяй брани!.. Благодатию есте спасены чрез веру и сие не от вас: Божий дар! Но от дел, да никто не похвалится: того бо есмы творение, создани о Христе Иисусе на дела благая, яже прежде у готова Бог, да в них ходим!»
«Кто идет со мною молиться во храме Божием?» – спросил Василий, обозревая собрание. Он встал и, не говоря более ни слова, пошел к дверям. Все встали, пошли за ним в глубоком молчании. Писцовая палата опустела. Остался только Беда с немногими подьячими и начал приводить в порядок бумаги и скамейки.
Часть третья
…Тогда по Русской земле редко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть, трупия себе деляне, а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие… Усобица Княземъ на поганые погибиле. Рекоста-бо братъ брату: се мое, а то мое же. И начата Князи про малое, се великое молвит, а сами на себе крамолу ковати…
«Слово о полку Игоревом»Глава I
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет,
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных![113]
А. ПушкинКакое противоположное зрелище представляла в это время Ярославская дорога против того деятельного, но мирного зрелища, каким находил ее дедушка Матвей, за несколько дней ехавши по сей дороге!
Воинские дружины рассыпались по ней всюду. От Москвы до Клязьмы, пересекающей дорогу недалеко от нынешнего Пушкина, видны были воины Великого князя. С другой стороны, от Клязьмы далее к Троицкому монастырю двигались дружины князя Юрия Димитриевича. В одном из селений за Клязьмою находился сам престарелый Юрий, сыновья его, бояре и князья подручные. Басенок, принявший начальство над дружинами Василия, наскоро укрепился с другой стороны реки.
Война идет и метет – по старинной поговорке. Правда: здесь еще не начиналась кровавая, свирепая война, но ужасы ее были уже видимы всюду. И тем страшнее были они, что война великая, между сильными врагами, не ведет за собою таких бедствий, какие необходимы при войне мелкой и особенно – междоусобной!
Издавна замечено, что друг, или родственник, сделавшийся врагом – ужаснее, непримиримее человека, с которым всегда были мы врагами. Два единоплеменные народа, злее ненавиствуют один против другого. Так и здесь было. Дружины Юрия, уже разбившие отряд наместника ростовского, шли не как дружины государя, стремящегося возвратить законное свое наследие, являлись не умирителями своего владыки с людьми, ему подвластными по праву и отторгнутыми насилием – нет! они являлись злыми врагами, грабили, жгли! Строго запрещено было им всякое насилие и своевольство; но – воины, не уснут, аще зла не сотворят! Когда на ночь зарево пожара багровило темный небосклон, Юрию сказывали, что жители принудили к такой строгой мере своим упорством, или, что дружины московские зажгли селение, выходя из оного, или, наконец, что один из союзных князей запалил деревню, напрасно требовав добром, запаса и хлеба для своих воинов.
Так поспешно надобно было собрать дружины, так быстро надлежало действовать против Москвы, столько разнообразных требований и страстей следовало соединить вместе, что Юрий невольно должен был смотреть сквозь пальцы на дерзость князей, к нему приставших, на своевольство собственных воевод и даже на нахальство самих воинов. И нельзя было учредить никакого порядка, ибо весь план Юрия состоял в скорейшем походе на Москву, и вся удача зависела от удара, который не дал бы Василию Васильевичу и Думе его опомниться и уговорить князей на помощь, мог бы в то же время споспешествовать волнению и смятению Москвы, для укрощения чего, к несчастию, убедили Василия принять строгие меры.
Просим читателей наших оставить теперь на время Москву и перейти в то село, где отаборился князь Юрий Димитриевич с главною дружиною, детьми и боярами.
О жителях села нечего и говорить: их разогнал страх появления Юриева; одни сами убежали, как испуганные перепелки и жаворонки улетают с зажженной нивы, остальных прогнали из жилищ воины Юрия, ибо все хижины заняты были князьями и сановниками. Множество саней, возов, возков стояло вокруг селения; кони поставлены были в разных местах, совсем готовые, рядами; огни зажжены были повсюду; воины сбирались, толпились около огней; множество промышленников, как мухи к меду слетевшихся с разных сторон, кормили, поили дружины Юрия. В таких случаях денег не жалеют, и часто отнятое у бедной семьи достояние – труд целого века – в один час пропивается, проедается буйным воином. Стук бубнов, звуки труб слышны были беспрестанно; изредка раздавались выстрелы из пищалей, и хотя был Великий пост, но никто не думал говеть и поститься. Множество народа опохмелялось и напивалось снова, а пьяному без песен не веселье – и клики, и песни раздавались день и ночь. Между тем, казалось, что все это неустройство воинское мало занимало Юрия и других князей, а также и сановников их. Говорили, что ждут посольства от Московского князя, и большая беготня дельцов и бояр показывала, что посольство это было причиною многих забот и совещаний.
В сие время в одной из больших, лучших хижин разговаривали два известные нам человека: боярин Иоанн Димитриевич и Иван Гудочник.
Боярин по обыкновению был мрачен, угрюм; он сидел за столом и, казалось, внимательно слушал рассказы Гудочника, который стоял перед ним и говорил с жаром.
– Ну, – сказал боярин, – если бы зависели от меня награды, я осыпал бы тебя милостями, старик! Ты работал усердно, и только чудный промысел Божий мог тебя сохранить среди всех опасностей. Но скажи мне еще раз: точно ли нет уже никакой надежды, чтобы Константин решился оставить свое безумное намерение? Ты сам говорил с этим ханжою, Варфоломеем?
«Об этом и думать нечего, – отвечал Гудочник. – Константин вступил уже в Симонов монастырь и дал обещание не оставлять более сей обители».
– Вот так-то всегда, всю жизнь мою бывало, – сказал боярин, – всю жизнь должен я бывал или бороться с тяжкими препятствиями, или быть жертвою случая и людской глупости. Все дела мои обращались ни во что от таких причин, что после подумаешь бывало, так самому смешно. Ну! да что будет вперед, увидим и подумаем, хоть я предвижу, что добром не кончить… Поговорим о настоящем. Скажи, пожалуй, можно ли было предвидеть все, что случилось в последнее время?
«Да, боярин, и признаться, я терял уже всю надежду…»
– Господи помилуй! От того, что ворона залетела в Княжеские хоромы – оборвать князя Василия, затеять войну, и все это делать так невегласно, несмысленно… Мне стыдно за Княжеский Совет, в котором некогда заседал я сам!
«Но, однако ж, не должно ли сознаться, боярин, что кривую стрелу Бог правит, и что дуракам счастье на роду написано?»
– Что ты хочешь сказать?
«То, боярин, что все твои намерения, все, что было так хорошо предположено и так долго готовлено, могло рассеяться и уничтожиться от вороны и от княжеского пояса. Если бы успели захватить Косого и Шемяку, князь Юрий немедленно согласился бы на мир, особливо, когда против него стала бы сильная Московская дружина, которую довольно удачно удалось нам рассеять».
– Как же не видишь ты противного словам твоим? Все доказывает, напротив, что счастье дурацки лезло к Московскому князю, но что им не умели воспользоваться, и что ум всегда побеждает все препятствия. Не залети ворона, не поссорься на свадьбе, никто бы и не заметил, как дружины Юрия подошли бы к Москве. Ведь такая беспечность, что даже наместника ростовского вызвали на свадьбу! Тут оставалось чистое поле для прохода, и конники Юрия были бы в Переяславской слободе, вся Москва еще пила бы и плясала, а ты, да князья Можайский и Верейский возмутили бы Москву, Косой принял бы начальство, и Кремль взяли бы так легко, что Василий, может быть, из-за стола почетного перешел бы в тюрьму, с молодою своею женушкою и с умною своею матушкою! Смотри же: явная вражда загорелась с Косым и Шемякою; подозревали, хоть и без толку, что в Москве не смирно. Чего же тут много думать? Косого и Шемяку из рук не выпускать…
«Они не дались бы живьем».
– Ну, – вскричал боярин и сделал выразительный знак рукою, – мешкать было нечего…
«Но что сказали бы князья другие, которые были тогда в Москве?»
– По городу каждому из них, а не то уделы Юрьи и детей его, кинуть им на драку – вот все и замолчали бы… Только бы удалось, а там кто будет спрашивать; да при том же, когда дело уладилось бы, то можно бы опять отнять у них. Людям, которые стоят выше других, надобно быть выше простонародных суеверий и предрассудков. Если же боишься за голову, что она закружится – не влезай высоко!
Гудочник молчал, а боярин продолжал хладнокровно: – Но только ли еще? Они меня боялись. Зачем же было выпускать меня из рук, разобидевши, оскорбивши? А после того начали за мной гоняться, как будто за ласточкой в поднебесье; да и самый Константин? Хорошо, что он выменивает кукушку на ястреба. Скажем и то: боялись они меня, как же не видать, что Совет Княжеский составлен из людей, которых я посадил в него, и из которых делал я бывало все, что хотел? Зачем было опять раздражать старика Юрия, отнимая у него Дмитров? Что ручалось им за Верейского и Можайского? Взгляни также, как запущены теперь дела Орды, Литвы, Новгорода? В Суздаль никто и не заглянул. А последнее-то дело: Старков – хранитель Москвы, Ряполовские – в тюрьме, Юрья Патрикеевич – воевода… Юрья Патрикеевич! ха, ха, ха! Что, думаю, забавно было тебе, как ты воеводу этого и со всею Думою его засыпил твоим арабским зельем, отчего они проспали свои дружины? Да вот-таки и ты: как не заметить, что ты везде втираешься? Знаешь ли, однако ж, что, судя по твоим делам, можно подумать, будто у тебя еще две головы в запасе, кроме той, которая на плечах: колдун, Гудочник, Паломник… Во дворце, на площади, в монастыре…
«Я думаю, боярин, – сказал Гудочник, после некоторого молчания, – что если бы при тебе еще было замечено мое бродяжничество там и сям, ты не дал бы мне долго бродить, хотя ясных улик и не нашлось бы?»
Слова Гудочника, как будто заставили боярина подумать: не слишком ли откровенно говорил он с ним? Подозрительно взглянул Иоанн на старика и встал из-за стола, сказав: «Это дело другое, старик – в поле съезжаться, родней не считаться! Да, о посольстве-то московском: так этот говорун, гречин, едет сюда?»
– Исидор? Едет, боярин. Я уже тебе сказывал, что отправились Исидор, трое бояр, подьячий Беда и, не знаю, кто-то еще из воевод будет – думаю, Басенок, который на безрыбье сделался важною рыбою.
«Зачем бы Исидору ехать? Разве не метят ли его в митрополиты? Но, мне кажется, он не годится. Я помню, когда он в первый раз приезжал в Москву, за милостынею для Афонских монастырей. Он нечистого православия и чуть ли не волк в овечьей шкуре. – Ну, старик, оставайся, отдыхай; теперь твоя работа пока окончилась…»
– Ты мне ничего не говоришь, боярин?
«А что же мне сказать тебе? Теперь я ничего еще не знаю».
– Ты промолвил давеча, что все кончится худом.
«Это не до тебя касается».
– Может быть – и не до тебя, боярин.
Боярин быстро взглянул на Гудочника.
– Я почти могу рассказать, – продолжал Гудочник, – что ты скрыть хочешь: Юрий смотрит на тебя, как на человека, с которым неволя заставляет его дело делать…









