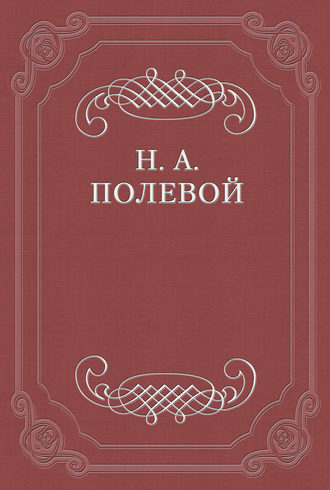 полная версия
полная версияКлятва при гробе Господнем
– А вот видите, дорогие мои гостьи, хотела я вас угостить всем, чем только могу, и велела сказать одному премудреному старику, чтобы он сегодня пришел к нам.
«Старику? Какому? Зачем?»
– Зовут его Иван Гудочник. Был он у меня однажды – согрешила я, грешная – поворожиться у него захотелось…
«Ах, ах! Он колдун, колдун!» – вскричали гостьи.
– Колдун, правда, а уж этакого забавника я и не слыхивала! Чего-то он мне не рассказал – Господи, твоя воля! Говорят, будто он и к Великой княгине ходит часто. – Это было сказано тихо, а потом боярыня продолжала громко. – О чем ни спроси: и былое, и будущее, все тебе порасскажет, как будто пять пальцев пересчитает! А как начнет от Писания, так, правое слово, два дня слушала бы его…
«Приведите его, позовите скорее!» – вскричали все гостьи.
Боярыня дала знак. Через несколько минут, при глубоком молчании, явился старик – Иван Гудочник, Иван Паломник, литовский колдун – как хотите называйте его – и с веселым лицом раскланялся низко хозяйке и ее гостьям.
– Что это давно ты не был у нас, дедушка? – сказала хозяйка. Гостьи с любопытством рассматривали пришельца.
«Куда, боярыня, ведь не успеешь, право – и туда и сюда – совсем замыкался!»
– Поднесите-ка, девки! старику, добрую чарочку.
«Благодарствую, боярыня! После выпью, за твое здоровье!»
– Где же ты сегодня был? Где ты погулял сегодня, дедушка?
«Дело масленичное, боярыня. Вот, знаешь – и поворожишь, и споешь, и спляшешь! Хм! ведь нашему брату все рука!»
Вопросы посыпались тогда со всех сторон. Откровенный, добрый вид старика ободрил всех. Стали просить его сыграть что-нибудь. Старик вынул свой гудок, настроил его, запел, заиграл, пошел плясать, важно, легко, бодро. Смех, хохот, шутки заняли собрание. Пение старика было самое разнообразное, искусное. Песни, с разными тарабарскими припевами, как-то: Шилды будылды, начики чикалды, таралды баралды, бух, бух, бух, – песни литовские, казацкие, застольные новгородские, присказки, скороговорки старика и прибаутки заставляли невольно хохотать. Гостьи, боярыни сами пели и плясали, когда старик подыгрывал и подпевал им.
– Ну, признаться, – сказала наконец одна гостья, – давно слыхала я о тебе, дедушка, но все не думала, чтобы ты был такой сердечный человек! Я все тебя прибаивалась. Ведь неспроста говорят, да и сам ты конечно сознаешься, что немножко и с лукавым ты водишься?
«Нет, пригожая княгиня, я не вожусь с ним, а держу его в руках – таки нечего таить – довольно крепко!»
– Ах! – закричали все, как будто уже видели перед собою духов тьмы, запрыгавших по слову старика.
Гудочник перекрестился. «Наше место свято! – сказал он, – чего же вы боитесь? Вот то-то, боярыни, и правда, что волос долог, да разум короток. Ведь колдовство колдовству разница: есть злые колдуны, которые продали себя Искусителю – ведьмы, что в трубу влезают, на помеле летают, пляшут в Киеве на Лысой горе, сеют решетом воду, обращают ее в град и выбивают хлеб на полях у православных – да мало ли этакой дичи есть! Другие же колдуны, как я, примером сказать, – мы христиане и для того мы и трудимся, чтобы зло ненавистников отвращать. Куда бы вы без нас? Как ты иную болезнь исцелишь, если не поколдовать? А на свадьбах-то? Куда деваешься от злого человека, если нас не будет!»
Сими словами любопытство было возбуждено чрезвычайное. Начали спрашивать старика о разных околдованьях.
– Мало ли их бывает, – отвечал он, поглаживая свою бороду и лукаво усмехаясь. – У иного такой глаз, что как взглянет, так вот сердце у тебя будто горячим железом прожжет – уж и не опомниться! Тут-то колдун и делает с тобою что хочет, и тот, кого он заворожил, будто овечка, идет, куда велят ему.
«Правда!» – шепнула печальная Анфиса своей подруге.
– А вот этак, боярыни, слыхали ль вы, примером молвить, что было с прадедушкою вашего Великого князя, Василия Васильевича, как испортили молодую его на свадьбе?
«Нет, мы хорошо не знаем!» – заговорили все присутствовавшие, стеснясь к Гудочнику, будто дикие козы.
– А вот оно как было: дедушка Великого князя, знаете, был Димитрий, а у Димитрия отец Иван, а у Ивана младший брат Андрей, от которого пошли князья Боровские, братья Марьи Ярославовны, а старший Семен. И после родителя своего, Ивана Даниловича – знаете, что Калитой звали, – сел Семен на княжение и задумал жениться. И послал он по княжну Евпраксию, дочь князя Смоленского. Княжна плакала, не хотела – она уж, видите, любила князя Фоминского, Федора Красного.
«Что это! – вскричала княгиня Авдотья Васильевна. – Надоели: все любят, да любят…»
– А что же ты станешь, княгиня, делать? Ведь уж так сотворено все: солнышко любит землю, земля любит месяц, месяц влюблен в утреннюю звезду, а звезда эта в зарю – вот они один за другим и бегают…
«Рассказывай, рассказывай, дедушка!» – говорили другие гостьи.
– Hy! Слушайте. Только, как люби не люби, Смоленский князь прикрикнул на дочку свою – замерла, бедная, будто сердечушко выскочило у нее из груди… Что же? Ходит, говорит, смотрит глазами, а точно каменная. И как только привели ее к князю Семену, он хочет обнять ее – ан она и побледнеет, хочет поцеловать – она и помертвеет. Князя Семена возьмет ужасть смертная, закричит он: Мертвец, мертвец! – и убежит от молодой княгини своей. Ведь нечего было ему сделать: призывали знахарей, пели молебны, переворачивали матицу, от семи порогов сор не выметали, по три дня стлали постель на семи стрелах – ничто не пособило! Князь Семен вздохнул тяжело – хороша была княжна Евпраксия, – посадил ее в возок, насыпал ей досканец золота и отправил ее к отцу. Выехала она из Москвы и в первый раз вздохнула, как живая; когда доехала до Можайска – усмехнулась; когда приехали в Смоленск – первый человек навстречу ей был князь Фоминский. Он трои сутки ждал ее на дороге, стоял не пивши, не евши, не чувствуя, как шел на него дождь, как расстилалась над ним темная ночь, как восходило на небо ясное солнце, как роса небесная падала на его русые кудри. Только завидела его княжна Евпраксия – слезы покатились у нее из глаз, будто жемчуг, а на щеках вспыхнул румянец – она ожила!
«Ну, ну, что же далее?»
– Ничего. Евпраксия вышла за князя Фоминского и – колдовство разрушилось. Она не была более мертвецом, когда князь Федор обнимал ее, целовал и не мог насмотреться на ее очи ясные, не мог нацеловаться сахарного ее ротика.
«Ахти! какие же чудеса! – сказала одна из гостий, схлопнув руками. – Теперь чуть ли я не понимаю, что сделалось с моею Алексашею…»
– А что сделалось с нею, боярыня, – спросил Гудочник, – разве она не по себе?
«Да уж чего я с ней не делала: и заговорною-то водою, и богоявленскою-то поила, и с четверговою солью из семи квашен тесто сминала, да для нее хлеб пекла».
– А что бы такое, нельзя ли тебе порассказать, что с нею делается, так, авось, делом смекнуть можно.
«Как и рассказать-то не знаю. То она засмеется, то заплачет, то запрыгает, то целый день, как будто окаменелая, просидит в углу, то щеки у нее, словно жар горят, то вдруг бледна, будто полотно… смаялась и я с нею!»
– Который ей год?
«Да уж девятнадцать скоро минет».
– Ну, эту болезнь и легко и нелегко вылечить. Называется она сердечная лихоманка – она сорок первая сестра сорока лихоманкам, дочерям Ирода, как вы, чаю, знаете. Коли поволишь, боярыня, мы с этим сладим.
«А ты думаешь, дедушка, будто у нее сердце по ком-нибудь тоскует? И, нет: она у нас такой еще ребенок и никого, кажется, и видеть-то ей не удавалось. Да я же и старик мой у нее спрашивали: „Скажи нам, милое дитя наше: не полюбился ли тебе кто? Не вещует ли тебе о ком ретивое твое сердце? Готовы мы отдать тебя за него, хоть бы это был человек небогатый и нечиновный. Одна ты у нас, дитя милое, как солнце на небе, как порох в глазе…“ Молчит, либо скажет: нет! да заплачет, и больше слова от нее не добьешься…»
– О, дивны, дивны, речи твои, боярыня, а я уж делом почти смекнул… Такие ли чудеса порасскажу я тебе! Болезнь твоей дочери такова, что с нею ничто в белом свете сравниться не может – ни сребролюбие, ни славолюбие, ни горе великое; не окупишь ты ее ни богатством, ни царством. Золото и самоцветные каменья кажутся при ней хуже грязи, а рубище и сухой хлеб с водою – краше боярского, парчового платья, слаще яств лебединых, и соломенная кровля драгоценнее палат великокняжеских! От нее не убежишь ни в монастырь, ни в пустыню. Бывали примеры, что страдавшие славолюбием и корыстью уходили в обители, пред алтарем повергали богатства и славу мирскую и забывали все в посте и трудах. Но эта болезнь – не было еще примера, чтобы в монастырской келье она прошла и угасла: только замрет она, окаменит душу, а не разлучится она с человеком никогда – до гроба и за гробом сливается со славою того, кто сам себя назвал Любовью… Послушайте, спою вам я, боярыни, повесть…
С радостным восклицанием сели на скамейки, за стол хозяйка и гостьи. Гудочник взял в руки гудок свой, настроил его, стал посредине комнаты, обратился лицом к слушательницам и тихо проговорил:
«Повесть о дивном чуде, бывшем в Цареграде во дни царя греческого Валента[100]».
Он сделал несколько переборов на гудке своем, опустил глаза вниз, перестал играть и сказал:
Не насытишь души своей мудростию,Не спасешь от кручины и горести —Такова, человек! судьба твоя!А воля Божия не изменится,Не пойдет волна супротив воды,Не зацветет дерево засохлое,Не взойдет солнце середи ночи,Не являться месяцу в полуденье.Послушайте повесть, люди добрые!Гудочник поклонился низко и особенным речитативом начал напевать, подыгрывая на гудке:
В славном было городе Царьграде,Жил-был там большой боярин,Хоробёр смолоду, а мудр под старость,Седина его мудростью убелилась,Золота, серебра было у него без сметы,У царя был он в чести, в почете,Первым сидел он в Царской Думе.Высоки были его красные хоромы.Могучи были его добрые кони.«А все суета!» – молвил Гудочник и продолжал:
Но утеха его под старость,Дороже ему серебра и злата.Дороже каменьев самоцветных.Дочь была у него – родимое чадо,От супружества честна, многолетня,Красавица первая в Царьграде,Бровь соколиная, ходит, будто пава,Бела, как снег русский, а щеки румяны,Будто красное Христовское яичко…В это мгновение показалась в двери седая голова старика, боярского управителя. Хозяйка поспешно встала со своего места и заботливо начала спрашивать его: «Что тебе надобно, Онисифор? Чего ты ищешь?»
Старик вошел в комнату, помолился образам, низко поклонился на все стороны и чинно проговорил: «Боярыня, государыня! приказал мне известить тебя боярин, что возвратился он домой и изволит обретаться у себя».
Хозяйка и гостьи вздрогнули невольно. Управитель продолжал: «И велел молвить, что желал бы прийти к тебе в терем, со своими боярскими гостями, если только не помешает он веселью твоих гостей».
– Дорогие мои подруги, конечно, будут рады честным гостям, – сказала хозяйка, обращаясь к гостям своим.
«В твоей воле, дорогая наша подруга», – заговорили гостьи.
Хозяйка подошла к управителю и вполголоса спросила: «Весел ли боярин?» – «Как ясное солнышко весел и радостен: он получил великие почести от Великого князя», – тихо отвечал управитель. Боярыня махнула рукою; управитель пошел, по данному знаку – Бог знает для чего – служанки убрали все чарки и чашки, оставя на столе только закуски; гостьи поправили свои уборы, скромно сели рядком, каждая сложила руки, опустили глаза, веселая непринужденность их исчезла. Хозяйка стала середи терема, как будто для встречи гостей.
– Мать моя, боярыня! велишь ли мне выйти, или позволишь остаться и повеселить гостей? – спросил смиренно Гудочник. Мы забыли сказать, что рабыни боярские все скрылись тогда в другую комнату и кормилица боярыни ушла с ними, но, отворив немного дверь, она ждала: не прикажут ли ей чего? – Боярыня казалась в недоумении. – «Меня ведь знает боярин твой, государыня», – примолвил Гудочник, взял гудок свой, вышел в переднюю комнату и остался там.
Вскоре на лестнице послышались веселые голоса и смех боярина Старкова и гостей. Лишь только боярин отворил двери, как раздался звучный голос Гудочника: «Се жених грядет в полунощи!» – «А, старик! ты здесь – вот спасибо!» – сказал боярин. Он и гости его были уже гораздо навеселе. – «Постой же, мы позовем тебя», – прибавил боярин.
Он вошел в терем, за ним шли почетные бояре великокняжеские: Юрья Патрикеевич, Ощера, князь Тарусский, князь Мещерский и другие, всего более десяти человек.
«Здравия и душевного спасения!» – воскликнули пришедшие. Хозяйка и гостьи низко поклонились им. «Княгиня Авдотья Васильевна – матушка Ненила Ивановна – Юрья Патрикеевич – Иван Федорович», – раздалось с разных сторон.
– Что же? Ведь скоро и прощеный день, начало поста, – сказал боярин Старков, – а там Светлый праздник; скоро придется прощаться, а тогда христосоваться, теперь же можно просто поцеловаться – дело масленичное! – Он утер бороду и начал целоваться с гостьями, по порядку; за ним пошли другие бояре.
– Эх! мало! – воскликнул Старков, поцеловавшись с последнею. – Кого бы еще поцеловать?
«Кубок с добрым вином, – отвечал Ощера. – Какой ты недогадливый!»
– Ах! и в самом деле! И боярыни выкушают с нами!
«Нет, нет! Мы не употребляем ничего хмельного!» – заговорили все они.
– Да ведь в вине хмелю нет!
«Нет, нет! Ах! нет! Не станем!»
– Ин, хоть грушевки, что-ли, хозяйка добрая! А, нам винца либо медку. Да, попочтевай, что тут у тебя, вареное, пряженое…
Гости расселись по лавкам, хозяйка ушла в другую комнату и вскоре явилась с подносом, на котором были чарки по числу гостий и кубки по числу гостей. Начался шумный разговор между мужчинами.
– Ну, где же ты, старик, ступай-ка сюда! – вскричал наконец боярин Старков.
Гудочник явился с гудком своим и с низкими поклонами. «Поздравляю тебя с великокняжескими милостями, боярин», – сказал он.
– Ха, ха, ха! разве уж об этом толкуют в Москве? Да как это народ узнал?
«Княжеская милость, словно орел, по поднебесью летает, и не диво, что все видят и знают ее. Народ знает даже и то, что ты остаешься в Москве главным начальником, а князь Юрья Патрикеевич идет с победоносным воинством разгромить врага великокняжеского».
– А что ты думаешь: разве хуже другого разгромлю? – вскричал Юрья, – да, вот как! – Он осушил разом стакан свой, поставил его на стол и взялся за хворосты.
«Исполать тебе молодцу!» – вскричали другие.
– Однако ж, боярин, – сказал Юрья, – пировать, пировать, да не запироваться – ведь нам в эту ночь много дела.
«Как, батюшка, князь, – молвил Гудочник, – в ночь? Да ведь Бог создал ночь на покой человеку?»
– У кого есть такие дела, как у нас, – отвечал Юрья, – тому все равно, ночь ли, день ли. Завтра утром в поход…
«И сокрушатся враги твои!»
– На здоровье! – вскричали все,
«Да выкушайте, боярыни, княгини, с нами. Эх! родимые! С такими молодцами, да не выкушать!»
– Нет, боярин! отродясь во рту у нас капельки хмельного не бывало, – сказала одна. – «Да и пора со двора», – прибавила другая. Все встали, начали прощаться и целоваться с хозяйкою, тихо, важно, со щеки на щеку и в губы. Бояре выгадали себе по поцелую и весело отправились в большие покои хозяина, оставя хозяйку в тереме. Гудочник успел уже пропеть боярам несколько песен; и особенно угодил следующей песнею:
Не от грома, не от молнии, не от вихоряЗастонала мать-сыра земля, леса приклонилися,А от великой дружины великокняжеской,Да от топота борзых коней.Что в поле засверкало, зазарилося?Засверкало, зазарилосьОружье богатырское.Не ясен сокол во поле выпархивает,Не младой орел пошел по поднебесью,А выезжал воевода Юрья Патрикеевич,А и конь под ним, будто лютый зверь,По три сажени конь его перескакивал.А остается в Москве советный муж,Что опора Думы мудрыя, Думы княжеской,Свет боярин Филофей Пересветович.Радостные восклицания не дали кончить сей песни. Со всех сторон набросали в шапку Гудочника множество серебряных денег. И когда Гудочник намекнул, что может кое-что сказать еще и о будущем успехе, то бояре стали просить Старкова не отпускать Гудочника. Никогда и никто из них не видал этого старого скомороха таким веселым, забавным, говорливым. Казалось, что Гудочник порядком подгулял на Масленице.
Шумливая, гулливая беседа началась в комнатах боярина, откуда все рабы и домочадцы были удалены, кроме старика Онисифора и еще двух рабов. Вскоре приехало к Старкову еще несколько думных людей: надобно было положить окончательные распоряжения на завтрашний день. Приезжие были еще довольно трезвы и хотели выпить и погулять, не приступая еще к делу. Гудочник снова пел, плясал перед собранием столпов великокняжеского совета.
Уже прокричал полунощный петух, когда Юрья Патрикеевич повел рукою по лбу и сказал Старкову:
«Не пора ли, боярин, за дело?»
– Еще…
«Нет! ведь и без того становится тяжела голова на плечах…»
– Ну, так отдохнем, сядем.
«Да не прикажешь ли, боярин, что-нибудь порассказать гостям? – спросил Гудочник. – Ведь у меня есть такие предивные были и небылицы, что люли тебе, да и только…»
– Быть делу так! – вскричали все и спешили сесть, кто как умел и успел. Гудочник стал перед ними и начал – быль не быль, да и на небылицу не похоже. Вот, что рассказывал он – послушайте.
Глава VII
Начинается, починается сказка сказываться, от сивки, от бурки, от вещего каурки…
Начало русской сказкиНикому из вас, князья и бояре, нечего сказывать про Великий Новгород, не про нынешний, а про старый, о котором за морем в прежние годы говаривали: Кто против Бога и Великого Новгорода? – Говорят: каменною стеною в три ряда обнесен тогда был Новгород, а Волга текла под его стенами, и по Волхову был ход до океана полунощного. По Волге возили в Новгород золото, серебро и узорочье восточное; по морю, с запада, привозили вина и коренья волошские[101]; с полуночи корабли приходили в Новгород с мехами пермскими, а с полудня приезжали в него купцы греческие. Через самый Новгород надобно было ехать три дня борзою, конскою выступью; в Софийском соборе помещалось народу по двадцати по две тысячи; воеводы и посадники подбивали подковы коней золотом, кормили коней шафраном эфиопским и выводили в поле воинства по сто тысяч конного, да по двести пешого. Ну! правда не правда – не знаю, а так сказывают.
Повесть времен старых, дела лет прошедших: сам я там не бывал, а что слыхал, то и переговариваю, да если и прилгу – так что же делать? Сказка не сказка, на быль не схожа, хоть и на правду похожа. А ведь и птица без хвоста не красна!
Вот, в это старое, бывалое время жил в Новгороде некоторый человек по имени Железняк Долбило. Смолоду слыл он первым богатырем в Новгороде. Случалось ли новгородцам идти на чудь белоглазую – Долбило ходил всегда в первых рядах. На руки тогда надевал он железные рукавицы, и все оружие состояло у него в одной палочке железной, а весом была та палочка в семь пудов. Как пойдет Железняк в толпу чуди, так всегда бывало ворот у рубашки отстегнет, пояс распояшет – жарко ему станет – перекрестится и начнет крестить палочкой своей на обе стороны: так перед ним и откроется широкая дорога – чудь только визжит да валится! Хаживал он и по Ладожскому озеру, которое называлось еще тогда озеро Нево, в ладьях, с новгородскими дружинами. Захаживали они далеко, в Ямь рыжеволосую[102], в леса дремучие, где такие высокие и ветвистые деревья, что летом в тени их никогда снег не тает, а если захочешь на верхушку их взглянуть, то шапка свалится с головы. Кроме всего этого, плавал Железняк далеко, по морям незнаемым, бурным, к Белому морю и к Зеленой земле[103], где, говорят, есть ледяная гора, а из той горы бьет кипячая, горячая вода на сорок сажен кверху. А однажды плавал Железняк с фряжскими купцами, куда-то на полдень, в жаркую землю, где солнце прямехонько в темя лучами палит. Так знойно было им там, что на корабле их смола растапливалась, а по железу нельзя было ногою ступить. Наконец ходил Железняк за Пермию Великую, за Заволочье, где, сказывают, живали такие звери, что слон перед ними, как мышь перед коровою. И уж этих зверей давным-давно нет: по Божьей воле все они перевелись. Только остались после них целые костяки. Такое диво, что как зверь ходил, так издох, так пролетели над ним годы, кожа и тело с него отвалились, а кости побелели и сделались, словно снег, белые. Так эти костяки и теперь находят, а звали этих зверей мамант, и из костей их точат теперь подсвечники и паникадилы перед Божьи образа. Ведь в старые годы и люди были не такие, как ныне: живали они лет по три и четыреста, а кто покрепче, так по шести, семи, восьмисот, а Аред да Мафусаил жили один 962, а другой 969 лет. Были ведь они народ рослый, сильный, исполины пред Господом. Судите по строениям, какие они делывали: Нимврод построил город Вавилон Великий, и стены у этого города были такие широкие, что семь телег рядом езжали по стене. Диво ли, что такой народ загордился и Бога забыл? А гордым Бог противится. Гордость и Денницу[104] погубила и из светлого архистратига Божия сделала темного духа злобы и родоначальника смертных грехов. Вздумал этот народ шутку: построить столп до небеси! Вы слыхали про столпотворение Вавилонское, когда Бог смесил языки и рассеял племена людские по лицу земли? Да, не о том теперь речь. Это к слову пришлось сказать. Цветной рассказ, как шитье персидское – чем пестрее, тем красивее. Посмотрите на лугах, когда расцветут цветы – и не перечтешь их! Зато, когда они цветут, так сами ангелы Божий любуются ими с небеси и поливают их небесною, жемчужного водою всякое утро. А мы на прежнее обратимся.
Вот, после таких, многих походов и подвигов, не диво, что Железняк Долбило сделался богат, да так-то богат, что и счета не знал своим сокровищам. Стал он стариться, перестал из Новгорода ездить. Голова его через волос седела и сделалась, как на добром бобре, серая. Пошел он однажды в Софийский собор, поднял икону Богоматери, велел отпеть молебен и заложил себе хоромы. Три месяца рылись в земле: все вырывали подвалы; да три года строили на поверхности земли; все выводил стены, терема да палаты. Да были же и хоромы – на удивление целому свету! Один вор забрался как-то к Железняку, набрал серебра и золота, хотел выйти, ходил, ходил по хоромам и выхода не сыскал. Так сам и отдался в руки. Камень возили Железняку из-за моря, а ломали его у Ями рыжеволосой, а крышу крыли мурманским железом и потом всю вызолотили так, что вся она от солнышка горела, словно жар. Тут было узорочья и диковинок – и Бог знает сколько! В подвалах стояли престрашные сундуки, от которых и ключи Железняк в Волхов побросал, потому что не хотел отпирать этих сундуков никогда: и без того золота и серебра девать ему было некуда.
Так и жил, да поживал Железняк Долбило. Нраву был он сурового, неприступного; почти никогда не раздвигались его черные, нахмуренные брови. В праздники веселился у него весь Новгород. Большие люди в хоромах, черный народ перед хоромами, и тут бывало такое разгулье, что не только хозяин яств и питья не жалеет. Поит все вином да медом, но еще мешками кидает в народ серебряные деньги. Народ, как собаки, дерется, кусается, бывало, за серебро, а Железняку любо.
Прошло много лет. Железняк уже и совсем поседел. Где богатого не уважать? Так и Железняка: любить его не любили, а кланялся ему всякий и каждый. Кто и перед посадником шапки не ломал, тот за версту перед Железняком в карман ее прятывал. Наконец выбрали Железняка и в посадники. Но такое чудо: ни богатство, ни посадничество – ничто его не веселило: все он был угрюм и пасмурен. Ходит, бывало, по своим обширным хоромам, сложа руки, нахмурив брови – страшно поглядеть – будто темная туча висит над Варяжским морем![105]
«Седина в бороду, а бес в ребро», – заговорили в Новгороде, когда вдруг услышали, что Железняк вздумал на старости лет жениться, и уже рукобитье[106] было у тысяцкого Феофила за молодую его дочку – красавицу, каких всего считалось тогда в Новгороде только три, а Новгород всегда славился красотою дев своих. Судите сами: каковы же были эти три красавицы? Да, вот что сказать вам: об одной из этих красавиц король Мурманч ский песню сложил, в которой сказывал, как он по синим, далеким морям плавал, как с врагами бивался, а меня, говорил король, меня молодца, дева русская не полюбила! Таков был припев из песни короля Мурманского.[107]
Сыграли свадьбу. Стал Железняк жить с женою красавицею, зашил ее в парчи и камки, засыпал в жемчуг, завалил золотом и каменьями индийскими, такими, что от них и без свеч в тереме ее ночью было светло, хоть мелкую скоропись читай. Что же? Сам Железняк не повеселел, да и жена его не была радостна. Прошло времени, сколько, не знаю. Просится у него жена на богомолье. «Отпусти меня, – говорит она, – супружник мой: помолиться Богу, чтобы Бог нам дал сына либо дочь».









