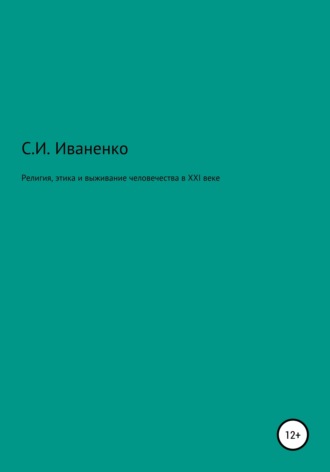 полная версия
полная версияРелигия, этика и выживание человечества в XXI веке
Слово «джати» буквально означает «рождение». В современной Индии существуют десятки тысяч джати. Они разделяются между собой по очень сложным критериям, которые складывались веками. Внутренние деления были обусловлены созданием границ между профессиями (например, может быть отдельной джати ткачей или кузнецов) или чистотой рода. Представители нечистых родов (например, дети смешанных межварновых браков) автоматически понижались в статусе вплоть до состояния шудр.
Шудры тоже делились на «чистых» (аниравасита) и «нечистых» (ниравасита) – чаще всего по роду занятий. Профессии, связанные с прикосновением к мёртвому телу, занятия палача, проститутки оценивались как «нечистые», неблагородные. «Нечистые» шудры смешивались с «неприкасаемыми».
В индуизме, где сакральное начало играло важнейшую роль, неприкасаемые представляли собой непреобразованный хаос, не связанный с миром священного. Неприкасаемые считались индуистами, но им запрещалось входить в индуистские храмы, участвовать в индуистских ритуалах, в связи с чем у них были свои боги, свои жрецы и ритуалы.
Неприкасаемым предписывались такие занятия, как уборка мусора, работа с кожей или глиной. Члены таких каст жили в отдельных кварталах или посёлках на окраине поселений «чистых» каст, не имели своей земли и большей частью являлись работниками в чужих хозяйствах.
К неприкасаемым относили тех, кто совершал низкие поступки (например, изнасилование) или другие преступления, кто подвергался общественному порицанию или проклятию. К этой категории относились также «варвары» неиндийского происхождения.
В древности у этой категории населения Индии вообще не было никаких прав, даже их жизнь не оценивалась в системе права. Неприкасаемый мог быть жестоко наказан или убит, его жизнь не охранялась законом.
Все эти «ужасы» изображались, особенно в XIX веке, европейскими колонизаторами как признак варварства индийцев. Они описаны во многих, обзорных и современных высокопрофессиональных исследованиях, например, в Homo hierarchicus Луи Дюмона[342], монографии Дж. Х. Хаттона и других работах. Мы пересказываем основные положения социального устройства древней и средневековой Индии вовсе не для того, чтобы подчеркнуть непросвещённость и «темноту» этой культуры. Напротив, этим явлениям есть объяснения в социологии и культурологии.
В XX веке началась борьба за равноправие неприкасаемых. Так, всемирно известный индийский мыслитель и общественный деятель, борец за независимость Индии Махатма Ганди (1869–1948) считал, что изначально всем людям, независимо от их расовой, кастовой, этнической и религиозно-общинной принадлежности, присуща врождённая божественная природа. В соответствии с этим Ганди и неприкасаемых стал называть хариджанами – детьми божьими. Добиваясь уничтожения дискриминации хариджанов, Ганди действовал собственным примером: он допускал хариджанов в свой ашрам, разделял с ними трапезу, объявлял в защиту их прав голодовки.
Борьбу за права неприкасаемых в 1930–40-е годы возглавил Бхимрао Рамджи Амбедкар[343]. Он назвал неприкасаемых «далитами» (угнетёнными). Ему удалось добиться закрепления в законах колониальной Индии, а затем и в конституции независимой Индии 1950 года системы, по которой для членов каст устанавливались квоты вакансий на государственной службе, места в законодательных органах и в высших учебных заведениях[344].
В современной Индии практика неприкасаемости по конституции запрещена, и дискриминация по кастовому принципу считается уголовным преступлением.
Однако в сельской местности далиты ещё становятся жертвами притеснений, насилия и жестокости.
Далиты ведут борьбу за равноправие. В частности, далиты проникают в храмы, нарушая древний индуистский запрет на вход далитов в священные места.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в Индии появились далитские политические партии. Наиболее ярким примером эмансипации далитов является Кочерил Раман Нараянан (1920–2005), президент Индии в 1997–2002 гг. Кроме того, на должность премьера штата Уттар-Прадеш в 2007–2012 гг. трижды избиралась Маявати Прабху Дас – представительница далитов.
Понятие «карма»В индийской культуре и религии, развивавшейся от ведизма[345] и брахманизма[346] к развитому индуизму (именно такой исторический подход применим к Индии), а также в этике, глубоко укоренено понятие «кармы», связанное с ключевыми сакральными действиями, в том числе жертвоприношениями, а также с представлениями о загробном мире и перевоплощении души.
Начиная с эпохи Упанишад[347] (VIII–VI вв. до н. э.) в Индии развиваются идеи нерушимого, бессмертного начала – атмана[348], а также кармы[349] и перевоплощения души (метемпсихоза). Карма мыслится как действие, ведущее к результату – таков его первоначальный смысл. Если действие соблюдается верно, в соответствии с вечным порядком вещей, дхармой, это ведёт к благу. Карма есть идея, помещённая в брахманистскую систему ценностей, она относилась к исполняемым ритуальным действиям в невероятно сложной системе жертвоприношений.
Брахманистская культура представляет собой предельно ритуализированный мир. В Ведийском каноне утверждена система инструкций, предписаний, правил рецитации сакральных текстов, которые нужно совершать в ходе яджни (жертвоприношения). Это может быть строительство масштабных символических конструкций (например, в Агничаяне[350], где для проведения всего ритуала требовался целый год, в течение которого большой алтарь в форме птицы с распростёртыми крыльями, возводился из 10 800 кирпичиков. Эти кирпичи укладывались в пять слоёв, между которыми были четыре слоя рыхлой и сыпучей земли. Сверху насыпалась золотистая дорожка, на которой и разводился огонь).
Каждый акт, каждая кладка должна сопровождаться безупречной рецитацией жертвенных формул, мантр[351], ведийских гимнов – на идеальном санскрите, где нельзя изменить ни одно ударение и музыкальный тон – всё это и было совокупностью действий (карма). Каждый акт должен дублироваться ещё одним актом – ментальным, то есть правильным думанием о физическом акте. Всё это должно совершаться в правильной последовательности: если что-то будет нарушено, «карма» не приведёт к нужному результату[352].
Понятие «карма» было переосмыслено и в связи с поступками человека, которые тоже мыслились как ритуальные действия в системе ведийско-брахманистского мировоззрения. Общество ориентировалось на брахманов и доверяло им как хранителям детально разработанного и понятного (брахманам, не обществу!) ритуального комплекса.
Это же, по аналогии, касается и человека, его правильного поведения. Верно соблюдённая карма, то есть исполнение долга, дхармы, ведёт к благому следующему рождению. Каждый отдельный человек должен соблюдать именно ту дхарму, которая дана ему в строгом соответствии с происхождением. Если кто-то рождается в благородной семье, принадлежит к уважаемому роду, высокой варне и джати – это результат его собственных заслуг в прошлых жизнях.
Напротив, низкое рождение мыслилось как результат дхармы, плохо исполненной в прошлых воплощениях. Если человек рождался среди шудр, это означало только одно: в своём низком статусе он виновен сам, так как дурная карма (неверные действия) имела место в предыдущем рождении. Он нарушал дхарму, не следовал ей. Это провоцирует и плохие склонности, которые становятся очевидными в этой жизни.
В этом смысле интересно, как индийское варново-кастовое общество воспринимает тенденции к правильному, дурному или неблагородному поведению.
Как отмечает известный российский индолог, доктор исторических наук, профессор Евгения Юрьевна Ванина, «принадлежность к высшим социальным слоям предъявляла к поступкам и самому облику человека наиболее высокие требования. С известной французской формулой Noblesse oblige[353] индийское средневековье согласилось бы полностью. От знатного феодала… общество было вправе ожидать доблести на поле боя, благородства, щедрости, гордого и независимого поведения, безукоризненной правдивости и изысканных манер. От «людей пера» – мудрости, образованности, благочестия, миролюбия, сдержанности, учтивости, скромности… Купцу подобали бережливость, хитрость, предприимчивость, трудолюбие и скрытность. А вот члену низкой касты самой природой были предписаны различные пороки, для него считалось вполне естественно лгать, воровать, пьянствовать, есть недозволенную пищу, быть грубым, несдержанным и невежественным. Происхождение человека должно было определять не только его поступки, но и образ жизни, одежду, манеры, стиль общения с вышестоящими, нижестоящими и равными по статусу»[354].
Но в то же время подобная картина мира предполагала и проявление сострадания к несчастным шудрам или неприкасаемым. Представим себе сцену у деревенского колодца. Туда в жаркий день под палящим солнцем приходят набрать воды женщины разных каст. Зачерпнуть воду может только представительница благородного сословия. Девушка из неблагородной джати или из неприкасаемых не могла соприкоснуться с чистой стихией воды – это было бы большое ритуальное преступление. Более того, она должна была отойти от тени своей соседки, чтобы случайно не наступить на неё, не говоря о контакте тел или одежды. Остаётся терпеливо ждать, пока кто-то поможет. Этого может не произойти вовсе. Только милосердие какой-нибудь домохозяйки могло помочь в этой ситуации: она может набрать воду, а далее, не касаясь платья или кувшина неприкасаемой девушки, перелить ей воду из своего сосуда, после чего набрать воду для себя. Похожих сцен можно описать множество, и это не выдуманные, а реальные истории.
В Индии наблюдаются два взаимоисключающих процесса, которые связаны: один – с признанием и одобрением социального устройства, другой – с затаённым негодованием или отрицанием этого порядка.
Здесь надо учитывать и процентное соотношение варново-кастовых слоёв. Так, по ориентировочным подсчётам, к шудрам принадлежит около 40 % населения Индии; к неприкасаемым относится от 16 до 17 % населения. Итого – более половины населения страны, численность жителей которой перешагнула за миллиард.
Социальное неравенство и нравственные исканияЗначительным переменам в социальном устройстве обычно предшествует (или сопутствует) разработка новых этических идей. Как правило, сложившиеся общественные отношения объявляются несправедливыми, а предлагаемые изменения – необходимыми для нравственного оздоровления общества. Одна из проблем, которая волнует людей и задевает их чувство справедливости и милосердия – это социальное неравенство.
На протяжении многих веков постоянная эволюция нравственных установок происходила и в Индии. Тот факт, что социальное положение человека далеко не всегда соответствует нравственному достоинству (или этической ущербности) его личности, начал осознаваться ещё в глубокой древности. Поэтому одним из направлений религиозных исканий, которые были в Индии перманентными, был поиск сакральных оснований для осмысления идеи социального неравенства.
В обществе, где коллективные духовно-нравственные ценности преобладали над индивидуальными, что характерно для древней и средневековой Индии, ключевые проблемы воспринимались и решались в качестве религиозных, имеющих, прежде всего, сакральное значение. Это признак всех традиционных культур: идеал священного как основа всей культуры и морали задан раз и навсегда, поддерживается всеми институтами – властью, религией, этическими стандартами.
Первое свидетельство востребованности в Индии нравственных учений и представлений, предлагавших значительный «пересмотр» социального устройства, уходит корнями в так называемое «шраманское»[355] время или «шраманский период». Он охватывал период VI–IV веков до н. э.
В это время, уже не из деревенской Индии, где у власти варна брахманов, а из мест отшельничества, из леса (вспомним о ванапрастхах и саньяси, которые там обитали) появляются люди, переделавшие всю систему религиозных и нравственных ценностей. Они разработали альтернативный подход к проблемам религии, метафизики, социального устройства. Это были небрахманистские или антибрахманистские системы, которые формировались и вдохновлялись мыслящими харизматическими лидерами. В брахманизме для всех духовных учителей и проповедников, не признававших сакральный авторитет Вед, было изобретено общее наименование «настика» (буквально «не-истина»).
Из истории мы знаем о таких противниках брахманистского уклада, как адживики[356], джайны, материалисты, агностики и буддисты. История сохранила имена некоторых лидеров альтернативных моделей мировоззрения и этики, хотя мы знаем не обо всех. Это Маккхали Госала[357], один из философов шраманской эпохи Паккутха Каччаяна, основатель джайнизма Джина Махавира, древнеиндийский мыслитель-материалист, живший в VI–V вв. до н. э. Аджита Кесакамбала, легендарный основатель буддизма Будда Шакьямуни[358] и другие.
Все они отрицали святость и претензии на магическую власть сословия брахманов и социальный порядок индийского общества, который был описан выше. Каждый из шраманских отшельников предложил перестройку понятий из тех же самых метафизических «кирпичиков», из которых складывалась брахманистская религия. Понятия дхармы, кармы, сансары, освобождения (мокши), атмана, дживы (души), перерождений и т. д. – все элементы, из которых складывалось представление индийского общества, были частично или же полностью пересмотрены, а картина мира, основанная на брахманистской истине, упразднена.
Буддизм, джайнизм и адживики создали собственные религиозные системы, философию и этику. Все эти модели были настолько отличными друг от друга и от своего брахманического прототипа, что этому можно долго удивляться.
Принципиально то, что эти три великих религиозных «проекта» шраманской эпохи были нацелены на отмену варново-кастовой системы как «страшного сна». Они переосмыслили все ключевые социальные понятия, на которые опиралась система варн и каст.
Адживики во главу угла поставили идею предопределения, безличной судьбы. Джайны произвели колоссальную революцию в этике, утвердив идею «ахимсы» – непричинения вреда другим живым существам (адживики и буддисты тоже исповедовали эту идею, но не так радикально, как джайны). Буддизм утвердил стремление человека к благородному статусу, который можно обрести независимо от происхождения. Переход от низкой природы к становлению благородной личности состоял из обучения и правильных поступков, но не только из этих компонентов, – об этом мы расскажем в следующей главе.
В системе брахманизма шраманские религии заняли место «неприкасаемых». Но им это уже было не страшно – сила этих движений была такова, что их поддержали некоторые князья и жители многих городов. Через некоторое время буддисты построили в Индии альтернативную цивилизацию, которая поглотила брахманистскую культуру, нивелировав её прежний авторитет. Буддисты занимались интеллектуальным трудом, создали мощную систему образования, изнутри которой произошла переоценка многих ценностей. Буддийское учение было достаточно демократичным и открытым, оно распространялось в городах и на разных территориях Индии. Появились императоры и цари, которые долгое время поддерживали буддизм, параллельно занимаясь и социальными реформами в Индии.
К V веку н. э., спустя тысячелетие после жизни Будды, в Северо-Восточной области Индии действовал университет, который принимал желающих из знатных семей всего субконтинента и стран Юго-Восточной Азии. Учиться в Наланде – так назывался буддийский университет – мечтали многие образованные люди. Получить там образование было очень престижным во многих смыслах, даже некоторые брахманы отдавали на обучение своих сыновей. Это был триумф буддизма.
Казалось, это победа над варново-кастовым устройством Индии и моральными устоями индуизма. Однако они сохранились и продолжали развиваться по своим законам, оказавшись в состоянии ответить на вызов буддийской философии и этики. При этом буддизм сильно повлиял на нравственные представления индийского общества, хотя и не стал доминирующим учением. Значительное влияние оказывал джайнизм, который тоже распространился по всей Индии, хотя и не с таким количеством сторонников, которые были у буддистов.
В истории Индии были и другие попытки упразднить кастовое неравенство. Так, например, сикхизм – религия, возникшая в начале XVI века, – отрицает варны и джати, призывая к равенству всех людей перед Богом и между собой.
Почитание коров и запрет на употребление в пищу говядиныИсторически корова всегда отождествлялась с варной брахманов и убийство коровы рассматривалось как такое же тяжкое преступление, как убийство брахмана. Во времена правления династии Гупта[359] в середине I тысячелетия н. э., убийство коровы каралось смертной казнью.
В настоящее время в таких странах, как Индия и Непал, где индуизм исповедует большинство населения, корова находится под защитой государства и пользуется огромным уважением. Защита коров и отказ от употребления говядины в пищу традиционно является неотъемлемой частью индуизма.
Для средневековых и современных индуистов корова – священное животное, и употребление в пищу говядины не принято, серьёзно осуждается и практически не встречается. Это ещё один этический стандарт индуизма, который сформировался не в эпоху Вед, а значительно позднее, но утвердился в обществе и служит отличительным признаком индуизма как целого явления.
Молоко и молочные продукты продолжают играть ключевую роль в религиозных обрядах индуизма. Молоко также используют как средство очищения. Коров используют для производства молока, масла, сыра, а быков – как тягловых животных. Коровьи лепёшки повсеместно распространены как топливо и строительный материал.
Повсеместно коровам оказывается величайшее уважение – им разрешается свободно бродить даже по самым занятым улицам больших городов. Во многих штатах Индии существует запрет на убийство коров: за убийство или ранение коровы можно попасть в тюрьму.
Идея бхакти и её реализацияБхакти (на санскрите «преданность, преданное служение») – собирательное понятие в индуизме, используемое для обозначения эмоциональной привязанности и любви между преданным (бхактой) и Богом. Объектами поклонения выступают различные формы или проявления бога – Кришны, Вишну, Шивы, Богини-матери или других богов.
Бхакти как один из видов йоги (бхакти-йога) описывается в «Бхагавад-гите» и провозглашается самой возвышенной формой религиозной практики. Бхакти также играет центральную роль в другом священном писании индуизма – «Бхагавата-пуране» – которое является одним из 18 главных пуран (маха-пуран)[360]. Как в том, так и в другом тексте, бхакти объявляется главным из путей, ведущих к духовному совершенству.
Традиция бхакти уже присутствовала в ведийский период, но широко распространилась только в VI–X вв., сначала в Южной Индии, а потом и в Северной.
Течения в индуизме, в которых бхакти является основной практикой, называют движениями бхакти. Хотя бхакти является также частью шиваизма и шактизма, движение бхакти главным образом было именно вайшнавским. Одним из основных направлений бхакти в вайшнавизме, получившем наибольшее распространение в Восточной Индии – Бенгалии, Ориссе и Ассаме – стал гаудия-вайшнавизм, основоположником которого в начале XVI века выступил Чайтанья (1486–1534)[361].
Большинство движений бхакти отличала и отличает открытость для всех, независимо от пола или кастовой принадлежности.
В бхакти Бог как бы приближается к человеку, а человек – к Богу. Универсализм бхакти заключался в том, что через любовь и преданность к конкретному божеству могут раствориться все кастовые противоречия.
Участвовать в таком движении значит воспевать имена бога, писать стихи, прославляющие его, участвовать в шествиях, танцевать, радоваться совместным трапезам, где присутствуют все – от неприкасаемых до представителей высоких каст. «Строя надконфессионную религию всеобщей любви, бхакты принижали роль происхождения, касты, религии, культа – всего того, на чём держалась средневековая Индия и что уже тогда стало заметным тормозом её общественного развития»[362].
В сборнике конференции «Бхакти – религия любви», которая проходила в Москве в 1994 году, есть любопытный доклад, сделанный индийцем по имени Днянешвар Манохар Муле. Он написал о своем отце и назвал статью «Мой отец – бхакт».
Этот доклад даёт представление об этических ценностях современного индуиста, выбравшего для себя путь бхакти. Приведём несколько отрывков: «Я смотрю на отца, и моё сердце наполняется радостью и миром. Он не йог, не саньяси, не провидец, и всё же он ничуть не хуже их всех. Он… живой символ бхакти в коренном значении этого понятия. Рассказ о повседневной жизни, поведении, мышлении и иных аспектах личности отца может быть интересным. Отец просыпается в 5.30–6.00 утра, напевает религиозные гимны, ещё сидя в постели, затем совершает омовение у деревенского колодца, напевая при этом молитву, возвращается домой и в течение 30–45 минут читает «Днянешвари»[363], после чего заходит в храм Витхобы[364] и отправляется работать в поле. Вечером слушает в храме киртаны[365], правачаны[366] или бхаджаны[367], ложится спать около 10.30 вечера. Стиль жизни простой, любит петь абханги[368] и бхаджаны за работой, не интересуется денежными делами. Всегда доволен тем, что дал бог. Поездка в Пандхарпур[369], к богу Витхобе, для отца гораздо более заманчивое предложение, чем поездка в Москву к сыну. Любая религиозная деятельность привлекает отца, он любит рассказывать истории из мифов, пуран, житий святых… [Ему] 68 лет, образование 7 классов, одежда – дхоти (традиционный вид мужской одежды), рубашка, сандалии, на шее – рудракша[370], после омовения ставит на шею, лоб, плечи священный знак «тилака»[371]. Вегетарианец, не употребляет в пищу лук и чеснок, которые традиция ассоциирует с «тамасом»[372], не пьёт и не курит. [Соблюдает] пост каждый 11-й день лунного месяца по индуистскому календарю. Поклоняется Витхобе – Вишну, но чтит и других богов. Ежегодно дважды в месяцы Ашарх и Картик отправляется пешком из Аланди[373] паломником в Пандхарпур (более 200 км). По-настоящему слит с богом, номинальный интерес к окружающему миру. Мирские дела, богатство, материальное благополучие безразличны. Никогда не жалуется на жизнь, лицо излучает удовлетворение и чувство подлинного счастья»[374].
Конечно, приведённый пример не исчерпывает всех вариантов следования практике бхакти, однако он наглядно показывает один из возможных путей, открытый для современного индийца.
Индуизм как образ жизниИндуизм устроен так, что за пределами религии не остаётся почти ничего существенного. Любопытно, что Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Индии, занимающий эту должность с 2014 года, предлагает считать индуизм не только религией, но и образом жизни. Для этого есть основания. В частности, важный период жизни индуиста, когда он является домохозяином (грихастха) и в сферу жизненных интересов входит артха (польза) и кама (наслаждение), освящён авторитетом Вед. Предполагается, что домохозяин должен считать реализацию своих обязанностей частью выполнения религиозного долга, предписанного дхармой.
Поэтому создание семьи, исполнение роли мужа и жены, рождение детей, хозяйство, работа в доме и за его пределами, проведение домашних ритуалов – такие же религиозные цели, как, например, пуджа[375]. К ним такое же особое отношение, как и к ритуалам и церемониям. Вся жизнь – священна, а семейная этика на этапе грихастха служит выполнению дхармы.
Идеал брака в индуизмеБез сомнения, брак – акт религиозного значения. Как устанавливают Законы Ману: «Муж получает жену, данную богами, а не по своему желанию; её, преданную, надо всегда содержать, совершая [этим] угодное богам. Женщины созданы для рождения, мужчины – для воспроизведения, поэтому в священном откровении дхарма объявлена [для мужчины] общая с женой». (Манава дхармашастра, IX, 95, 74, 85)[376]. Муж также должен был охранять и беречь свою жену, ему предписывалось обращаться с женой самым нежным образом.
Но если для мужчины в браке забота о жене, получение пользы (артхи) и наслаждения (камы) в соответствии с дхармой домохозяина – тема понятная, то роль женщины в семье, её обязанности и общие установки жизни в браке, исполнение её собственной дхармы требуют пояснения.
Во-первых, семья – это не только «муж, жена и ребёнок». После свадьбы жена становится полноправным членом семьи своего мужа. Традиционная семья, особенно деревенская – это дом, где живут 20–30 человек – под одной крышей могут вместе проживать три–четыре поколения. Но принадлежит жена, безусловно, только мужу. Знаменитое правило для женщины гласит, что она должна находиться в детстве под властью отца, в замужестве – мужа, в отсутствие мужа – под присмотром сыновей. Жизнь женщины – это служение мужу, семье и джати (касте) мужа. Эти ценности переплетены.
Быть замужем – это самое правильное состояние для женщины, с точки зрения индуистской морали. Брак сглаживает подчинённость и «второстепенность» женщины, делает её судьбу благоприятной. В удачном браке женщину должны ожидать здоровье, счастье, процветание, успешность. Важный рубеж – материнство, которое подтвердит высшую жизнеспособность (витальность) женщины и будет для её семьи признаком исполнения семейной и кастовой дхармы. А если родится сын – первенец, то счастью семьи не будет предела. Напротив, бездетные женщины (и шире – семьи) считаются несчастливыми и приносящими неудачу другим. С такими семьями ограничивают общение родственники и друзья.

