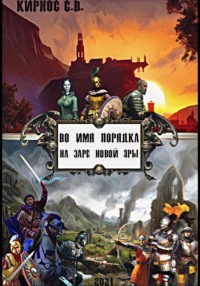полная версия
полная версияПод ласковым солнцем: Ave commune!
– Вы не поможете мне? – спросила она.
– Нет, – бесстрастно ответил Давиан и пошёл дальше.
Тут же его пути возникла стройная рыжеволосая красивая девушка, на которой из одежды только полупрозрачная рубаха до колен. Он схватила его рукой за ладонь и попыталась поволочь за собой, мило и игриво приговаривая:
– Пойдём, нам только шестнадцатого не хватало для того, чтобы расслабиться.
– Отойди! – резко выдернул ладонь Давиан и поднял её, чтобы девушка увидела, что у парня вокруг кисти обмотаны четки, с которых покачивается восьмиконечная звезда из стрел. – Я тут по важному поручению от имени народа, а посему уступи путь.
– Хорошо-хорошо, наш сладкий, но как задумаешь развлечься и отдохнуть, прошу тебя к нам.
Наконец-то впереди показалась дверь из железа, которой и заканчивается этот длинный путь, на котором на каждом шагу ждёт сумбурное «искусство» или безумные идеи культурного развращения.
Стены, там, где нет светопанелей, изрисованы сумасшедшей символикой, они похожи на картины, доносящиеся из адских глубин. Какие-то почерневшие люди, звериные морды, искажённые в гримасе ненависти и злобы, странные символы, похожие на руны из таинственного языка. Всё это создаёт впечатление присутствия в месте, где томятся души, отмеченные клеймом вечной духовной смерти, где пропадает всякая надежда, а есть лишь злая воля развращённых хозяев.
«Монолит похоти» – подумал про себя Давиан, понимая, что весь город утопает в подобном. Читка похвал и молитвы коммунизму перемежаются с оргиями и расстрелом преступивших закон, слова о высокой духовности партийцев подтверждается их низменным поведением, которое заключено в потреблении и совокуплении, а высшие желания, более тонкие были размыты идеологическими установками. Вся Директория Коммун чтит человеческую похоть как божество, удовлетворяя её всем, чем можно, проводя во имя неё служения и воздавая ей похвальбу, а руководит всем Партия, которая просто рада низведением человека до животного, ибо таким народом управлять куда легче, превратив из него единое монолитное безнравственное образование.
«Коммунизм – не тип высшего развития общества, а момент глубокого падения человека в собственные страсти. Это «Вавилонская башня» человеческой гордыни. Это отречение человека от всего светлого во имя плотских достижений, под видом равенства и свободы». – Подумал Давиан, открывая дверь и ступая дальше, в глубь здания, где его накрыл «творческий припадок».
Стены измалёваны в ярко-красных тонах, от светло-розового до тёмно-багрового цвета всё выкрасилось, примеряя на себя плащ пёстрого безумия. На диване, обтянутым кожей, Давиан увидел, как в танец похотливой страсти пустились две женщины и три мужчины.
Мгновенно парень повернул голову в другую сторону, изнемогая от желания натянуть капюшон. Слева же юноша разглядел, как музыканты наполняют пространство скрипучими и сбивчивыми звуками, которые по чистому недоразумению кто-то назовёт музыкой.
Давиан идёт вперёд, ступая промеж двух длинных столов, на которых разложена еда и стоит вино, а на скатерти и стульях есть следы «возвращённой желудком пищи». Юноша понял, что это не причина передозировки алкоголя, а попытка рисовать «естественными красками человека», а картины эти потом выставляются в музеях, как «идеалы современного искусства.
«Скотство» – думает Давиан, смотря на то, как богема выпивает и пытается дальше практиковаться в потакании своим низменным позывам. Один из местных скульпторов пытается тут же создать изваяние, собирая его из объедков. Другой же, высыпав дорожку из какого-то белого порошка по столу, втянул её носом и громко выдохнул.
«Наркоманы, алкоголики, развратники» – резко думает Давиан, о здешних людях, чувствуя к ним отвращение.
– Сим?! Ты где!? – взывает Давиан, желая поскорее уйти отсюда.
Из-за какого-то угла подался мужчина, на котором набедренная повязка красного цвета, торс же оголён и видно выпирающее пузо, голова же с квадратными очертаниями, лицо же наполнено лёгкостью, а карих глазах пляшет пьяное веселье. Широкие губы разошлись, неся торжество:
– О, у нас тут новый творец! Что же ты желаешь?!
Давиана взяло удивление, его дыхание участилось, а сам он тряхнул головой, резко ей мотнул, думая, что ему показалось.
– Ох-ох! – заголосил Сим, поняв, что пытается понять новый товарищ. – Я вас понимаю, наши эмоции для вас вдиковинку.
– Да. Почему же. Ведь все равны в своей безэмоциальности.
– Но не для Творческих Коммун. Тут эмоции помогают нам выразить нашу творческую волю.
– От вас заждались одного документа, – монотонно говорит Давиан, чувствуя, как отвращение к этому месту терзает его изнутри, горит в его сердце жарким пожаром и его берёт усталость от присутствия здесь. – А вы кто?
– Я Народный Творческий Наставник этой коммуны, – с широкой улыбкой ответил Сим, копаясь в кармане. – Мы даже задумали снять фильм про нашу коммуну в целях просвещения народа о том, как нужно упорствовать в трудах культурных.
«Максимум что вы можете снять, так это порнографию» – сыронизировал Давиан, томясь от ожидания. Сим наконец-то нашёл бумагу и протянул её Давиану и парень её буквально вырвал одним движением, спрятав в свой балахон и уже собираясь уйти был остановлен фразой:
– Знаешь, я давно тут направляю волю народных творцов и вижу, что ты устал, парень, – с извращённой заботой заговорил Сим. – Может тебе девочку или паренька? Или стопочка тебя раскрепостит? Да ты не бойся, вся Директория Коммун так живёт.
– Нет, спасибо.
– Как хочешь. Эх, славные времена наступают. Скоро весь мир станет монолитом в устроении нашего творчества.
– Конечно – холодно бросил Давиан, и устремился прочь из этого проклятого места.
Глава тринадцатая. Карминовый марш
Следующий день (17 декабря). Утро.
В небольшой комнатке поселился тусклый слабый свет, исторгаемый от вездесущих светопанелей, облепивших улицы и несущих слабый и холодный подарок электричества, позволяющий хоть что-то разглядеть в человейнике вседерикториального статуса.
Юноша подтягивает к себе мятую бесцветную подушку и прижимается к ней, желая ещё как можно дольше пролежать в постели, под тёплым одеялом, но на всё комнату раздаётся истошный звон будильника. Пронзительный электронный визг моментально выбил всякий сон из парня, и он как подорванный поднимается, скидывая с себя одеяло и практически криком говорит:
– Гало, эд хок! – после этих слов, механический глашатай рассвета моментально смолк.
Сейчас в эту же секунду миллионы людей в исполинском городе повторили тоже самое действо и Давиан от одной этой мысли готов был усмехнуться, если бы не тяжесть положения, в которое он попал.
– Будь проклято это равенство, – шёпотом, неслышимым для систем народного контроля в виде потаённых микрофонов и скрытых камер, сказал Давиан.
Партией и народом установлено, что каждый житель такого оплота истинного равенства, как Сверхулье будет вставать в одно время, что миллионы таких же горожан. Они будут произносить те же команды, для выключения будильника и станут жить в одинаковых квартирах. Всё, естественно, для продвижения идеи абсолютного равенства.
Юноша тяжело встаёт и, помотав головой, окидывая однокомнатное помещение, пошёл к стенке, где расположилась раковина. Открыв воду, он быстро умыл лицо и выключил краник, чтобы не потребить слишком много живительной влаги. Давиан с негодованием встретил информацию о том, что на каждого жителя Сверхулья выписывается равное количество воды, которое он может потребить, и сделано это для того, чтобы «убить страсть гордыни или зависти в человеке, ибо сосед, знающий, что его сосед живет, так же, как и он в самых мелочах, будет избавлен от стяжания имущества ближнего, а партиец, знающий, что во всём равен другому партийцу не будет иметь повода для гордыни над ним», как утверждали проповедники коммунизма.
«Чем бы себя занять?» – подумал юноша, открывая банку с жижей, похожей на творог, чтобы подкрепиться.
Сегодня у Давиана выходной и его заменил на службах напарник по чтению хвалебных песен на складе и сегодня он может посвятить день тому, чему сочтёт нужным. Большинство партийцев убивают время в творческих коммунах, где и пищи вдоволь и алкоголя залейся, и развлечение себе найти можно по плоти и духу. Но Давиан досыта насмотрелся на тот разврат, который там творится, а посему переводит мысли в другую сторону, помышляя о путях прогулки.
– Куда же…
Конечно, он может остаться дома, где за ним смотрят десятки глазах и прослушивают столько же ушей. Он может смотреть телевизор, где показывают один-единственный канал коммунистической пропаганды или подключиться к миллионам камерам по всему городу, чтобы стать «вершителем народного контроля».
«Нет» – утвердительно отвергает эти мысли Давиан. – «Лучше скитаться весь день по городу».
Книги? Если бы тут моно было почитать что-нибудь хорошее, то Давиан оставался целыми днями дома, высовываясь только за продуктами или, а работу, всё время проводя за книгой, но это не про Директорию.
«Как можно было угробить целое искусство?» – сокрушается Давиан.
Книжное дело в стране победившего коммунизма низведено до плинтуса. В Сверхулье все должны читать только одно литературное произведение, дабы не рождалось интеллектуального неравенства и человек не смел мыслить в противоречие мыслям другого человека. Партия, а значит и народ, считает, что разнообразие в литературе способно породить интеллектуально-культурную ресинхронизацию, что является угрозой всему социуму. И таким образом в понедельник Сверхулье читает детектив, во вторник фантастику, в среду научные книги, в четверг фэнтези, в пятницу классическую литературу, в субботу все произносят стихи, а в воскресенье возносят хвалебные песни коммунизму. Контроль над прочитанным обеспечивает система народного контроля и не дай коммунизм кто-то отступится от литературного правила, ему тут же будет предан классовый статус «богема», а за это следует наказание.
Компьютер? Равенство в этом городе доведено до того, что все жители имеют на ПК, который смахивает на две тонких, выкрашенных в цвет безнадёжности, дощечки. Одна игра, где нужно строить светлое общество будущего и убивать буржуев, один редактор текста, один набор мультимедийных программ, один пакет с музыкой, один фоторедактор и одна пака с различными видеофайлами нескромного содержания, чтобы каждый партиец смог «удовлетворить свои естественные позывы».
И эта идея для Давиана оказывается непривлекательной. Провести время за компьютер, в котором набор развлечений похож с миллионом таких же пакетов для убийства времени, которые есть в городе.
Давиан мог бы пойти в кинотеатр, но утвердительной мыслью он отговаривает себя от этой идеи:
«Пропаганда, она там на один цвет и вкус, уж лучше тогда пешком вернуться в Рейх, чем здесь жить».
Кинотеатры в Директории Коммун ещё хуже, чем подобные заведения в Империи Рейх. Да, всё производство фильмов в стране победившей морали под строгим надзором Имперор Магистратос, но оно и позволяет разнообразие в сюжетах и актёрах, даёт волю и разрешения на использование различных пейзажей и мотивов, при соблюдении главного условия – фильм должен учить тому, чему учит Рейх, и не противоречить ему в идейных аспектах.
«Как так, что Империя стала лучшим создателем фильмов на всём пространстве разорённой Европы?» – негодует Давиан, который ожидал, алкал и лелеял, что в стране победившего коммунизма производство фильмов настолько развилось и стало возвышено, что каждый кадр насчёт в себе великие мотивы созидания обновленного мироустройства, что каждая секунда произведения пылает неистовым огнём идеологии просвещения людей.
Директория Коммун пошла ещё дальше Рейха в деле пропаганды своих идей и Давиану остаётся только воздать мысленную благодарность, что он не обязан в обязательном порядке ходить в кино, как обычные партийцы, поскольку «является элементом системы идеологического просвещения и облает всем тем, чему учит фильм».
Давиан с болезненной усмешкой вспомнил, что сегодня показывают кино, про то, как строили Директорию Коммун, и как зарождалась Партия. Каждый день, всему Сверхулью три раза в день в одно и тоже время показывали один и тот же фильм и так продолжалось неделю, пока фильм не сменялся. И всё это делалось для соблюдения полного и абсолютного равенства, как того желала Партия.
На юноше снова оказывается его привычная и уже порядком надоевшая одежда. Чёрный, цвета угля балахон, который на талии расчерчен яркой полосой алого ремня, ноги скрыты за штанами цвета серого неба, а стопы покрыты остроносыми туфлями.
«Я прям служитель какого-то культа… член тоталитарной секты, желающей поставить весь мир себе на служение» – негодующе подумал Давиан о себе, когда подошёл к зеркалу во весь рост.
Его одежда – отображение социального статуса, который он ненавидит, несмотря на то, что люди его едва ли не боготворить, считая просвещённым гуру, который несёт непреложные истины. Иерархи Партии в нём видят будущее страны, человека, которого коснулся «великий дух просветительства, даримый коммунизмом». В себе же он видит просто человека, который предал друзей ради эфемерных идей, ради того, чтобы потешить собственное эго об чувство нужности и важности.
«Чтоб меня, идиота проклятого», – говорит себе Давиан, продолжая тёмно-голубыми глазами рассматривать зеркало. «Вот стою я сейчас и не знаю, что делать? К чему всё это? Зачем я в Рейхе пытался бороться и со спесью доказывал пользу коммунизма, а попав сюда понял, что идея зла и античеловечна?»
– Умалишённый, – тихо подумал о себе Давиан и продолжил рассуждения, полные скорби.
«Не идиотизм ли полезть в печку, считая, что там можно согреться, а не обжечься? А ведь в Рейхе предупреждали, говорили, что это место опасно, а я, как нерадивое дитя, настаивал на своём, желал доказать, что с “высоты” всех знаний я понимаю в других странах больше целого государства?»
– Как я мог таким стать? – спрашивается шёпотом Давиан, касаясь ладонями исхудалых щёк.
«Зачем всё это былою сделано? Ради правды? Вряд ли. Гордыня, вот что меня привело сюда, и почему я раньше не смирился.… Смирение – именно этого мне не хватало. Несмирённостью, которая как жестокие розги, гнавшие меня подальше от здравомыслия, я привёл себя в этот страшный край. И всё ради того, чтобы утолить фарисейскую гордость, сказать самому себе, что я лучше тех “дураков”, которые остались в Рейхе или бежали в Либеральную Капиталистическую Республику.
– Какова цена?
«Как же я сам себя наказал? Мало того, что отрезан от тех, с кем дружил и кого любил, так ещё и Пауля загубил. А ведь паренёк бы не выдержал этого мира, да он и не устоял. Прости-прости-прости меня, друг мой, если сможешь, как же я виноват перед тобой. Прости, если сможешь. Как же жалко, что я не смогу тебе этого сказать. Какой же я идиот, что из-за меня ты стал инструментом народной воли»
Из глаз Давиана готова вытечь слеза, готова пролиться горячая струя скорби по содеянному. У его сердца что-то сжалось и ему стало труднее дышать, показалось, что к горлу подступил слёзный ком, и он готов разрыдаться от содеянных поступков, только вот понимание, что он скован любопытными взглядами «святого народа» не дали ему это сделать. Полминуты, пока он боролся сам с собой стали для него пыткой, страшным испытанием и он приложил все усилия воли, чтобы удержать себя в оковах холодного разума и не дать нахлынувшим чувствам воли.
«Держаться… главное только держаться. Давай Давиан, это имеет свойство проходить», – успокаивает себя парень и снова поднимает взгляд на зеркало, видя бледное лицо на котором проступили алые пятна.
«И у кого же прочить прощения? Кто мне отпустит всё, что я сотворил? В Рейхе меня видеть не хотят, для них я предатель, который должен быть уничтожен. Может это Пауль, но он сможет, к сожалению. Мои друзья, но они слишком далеко и вряд ли они меня считают другом… для них я прошлое, на котором лежит идейное безумие, отступничество от сокровенного ради эфемерного блага пребывания в стране света и мира. Для них я – идиот, пожелавший почесать собственное эго, о целую систему».
Давиан делает шаг в сторону от зеркала, понимая, что его могут осудить за столь долгое самосозерцанье, или же подумать, и его опасения подтвердились. Скрытые динамики в комнате разверзлись механическим голосом, сотрясшим пространство холодной громоподобной репликой:
– Товарищ Столичный Словотворец Давиан Т-111222, с вами всё в порядке?
– Да, – тут же отвечает юноша. – Я просто… царапины искал.
– Хорошо, помните, народ всегда с вами.
«Да-да», – сказал в уме парень и перешёл к мысли о прощении. – «Как искупить всё содеянное?» Чья любовь настолько велика, что способна была бы дать отпущение за то, чем я себя испортил?»
Внутри себя Давиан находит ответ, но сейчас он не может ничего сказать, предпочитая стыдливо отмолчаться и выйти из комнаты прочь. Давиан жмёт ладонью на дверную панель и выходит прочь из дома.
Всё вокруг, так же как и вчера и Давиану снова приходится смотреть на серокаменные пейзажи, на которых пляшет не одна сотня отблесков, рождённых светодиодными лампами. Город, окружённый огромнейшей стеной-бастионом, похож на огромный лагерь, внутри которого расцвели цветы, сотканные из неестественного света
Этот пейзаж настолько приелся, что Давиан не обращает на него внимания, предпочитая концентрировать взгляд на жителях столицы. Большинство из многих тысяч партийцев примерили на себя светло-серые костюмы, сшитые по классическому типу – это стандартная одежда обычного народа здесь, утверждённая для лучшего равенства.
Давиан смотрит дальше и видит, что два человека несут по две одинаковых коробки из картона. В высоком мускулистом мужичине юноша признал пережиток былой системы труда – он работает лётчиком гражданского авиосудна, Давиан его знает, поскольку пару дней назад встретил его на службе в местном Доме Коммунизма и разговорился. Рядом с ним идёт мужчина поменьше, и юноша его тоже знает, это местный дворник. Судя по коробкам, они получили часть продуктового обеспечения, и Давиан видит, что они получили равные «подарки» от Директории Коммун.
«Равенство, равенство, равенство, они свихнулись с этим равенством» – без гнева помыслил Давиан, смиряясь перед действительностью.
В других городах, есть что-то вроде «народных подарков», тут же, в городе эталонного равенства нет этого, всё ровны во всём. И нельзя отступить от этого, ибо это «нарушит священный порядок вещей».
Давиан смотрит налево и видит картину, ставшую привычной для этих мест – три мужчины остригают женщину, которая, по их мнению, проявила акт неравенства, выражая его длинной шевелюрой. И никто им и слова не скажет, потому что видимо, это решение было принятье всей улицей, что является выражением воли народной.
«Как же всё доведено до абсурда… разве люди не видят, в каком сумасшествии они оказались?».
Всюду шныряют люди в серой военной форме и это не солдаты, а Столичная Гвардия Равенства, которая внимательно, с соколинно-стервячим созерцая каждого человека, чтобы моментально пресечь любой акт неравенства. Кольцо на пальце, лишний элемент одежды, аксессуар не по народному выбору, улыбка невпопад народной радости – всё это может стать поводом для того, чтобы Гвардия набросилась на Партийца и моментально восстановила равенство актом «Святой Экспроприации».
Давиан отлично наслышался про «Святую Экспроприацию» и знает, что её призваны производить Народная Гвардия, Городская Полиция Равенства органы Партии или же Гвардия Равенства Городов. В ходе исполнения предписаний они отбирают всё то, что вызывало «праведный гнев народной воли», отправляют наказание и отдают изъятые вещи в систему складов, чтобы потом всё было «справедливо распределено».
«Сумбурное равенство, призывы к нему и стремление всё переделать “по справедливости” – длишь способ потешить невежество тупой толпы людей».
Парень убирает взгляд, сосредоточившись на конечном пункте небольшой прогулки. У Давиана есть цель этого похода. Улочка за улочкой, дом за домом он стремиться в то место, где ещё жив дух жизни в городе, напрочь погрязшим в смерти души.
Спустя десять минут прогулки, Давиан выходит на большое поле, которое выстлано искусственной травой, так умело эмитирующей настоящую, живую. Посреди огромной поляны, зажатой со всех сторон зданиями, возвышается огромное древо, вокруг которого разбит фонтанный комплекс, от которого исходит приятное шипение и журчание воды. Тут нет статуй партийно-народных лидеров, нет никакого намёка на «дух коммунизма» только прохладная трава, да пара лавок, на которых расположились старики.
«Как же тут чудесно» – сказал Давиан и втянул лёгкими воздух, ощутив приятную и завораживающую прохладу.
Подняв лицо к небу, он видит лишь небольшой кусок серо-унылого небосвода, но и этого ему достаточно, чтобы ощутить какое-то тепло. Тут очень хорошо, душа находит странный и позабытый покой. Маленький островок природного торжества посреди городских джунглей, стал небольшим прибежищем, дающем человеческой душе того, чего она не сможет найти в городах Директории – покой.
Давиан готов наслаждаться этими пейзажами ещё долгие-долгие часы. Когда он в первый раз набрёл на это место, то незаметно для него пролетели четыре часа полного покоя, пока ему с тяжестью на сердце не пришлось вернуться в жестоко-холодный мир победившего равенства.
Всюду виднеется множество людей всех возрастов и полов. Давиан знает, чувствует, что сюда их привёл громкий зов по потерянному и утраченному, по забытому покою и блаженству единения с чем-то естественным, тому, что человеческая душа желает обрести, с чем желает провести время до скончания мира.
Никто не знал, почему Партия решила оставить этот клочок земли и дать партийцам место, где можно соприкоснуться к такой душевной силе, которая немного лечит и исцеляет души людей, искалеченные системой. Возможно, светлая воля Того, Чья любовь к человечеству безмерна, остановила партийное безумие, застлала око «народной праведности» и это место живо, осталось для того, чтобы человек смог наслаждаться потерянным сокровищем.
Давиан только присел на траву и приготовился получить блаженство, как неожиданно в его кармане завибрировал телефон, и парень быстро приложил его к уху, с недовольством готовясь выслушать:
– Да, я вас слушаю, товарищ.
– Говорит Старший Столичный Словотворец.
– Что вы хотели, товарищ?
– Мне нужно, чтобы вы приняли участие в подготовке творческой коммуны к Фестивалю Великой Коммунистической Революции. Такова воля народа и вы уже назначены голосованием квартала.
Давиан поморщился от злобы. Мгновенные телефонные голосования, выродившиеся в массовую электронную секундную демократию, лишали всякой воли, заставляя повиноваться решению сотен и тысяч человек.
– Да, товарищ, куда мне нужно проследовать?
– Тебе нужно встретиться с Симом. Он тебя будет ждать в Квартальном Храме Маркса.
– О, в обители первореволюционера?
– Да, а теперь ступай.
Злоба, лёгкая и незначительная поселилась в душе Давиана. Его рука самопроизвольно дёрнулась, сжалась, и он понял, что весь каскад негативных эмоций его добивает, рождая невроз. Ему снова придётся встретиться с человеком, погрязшим в похоти и желающий только сытно поесть, сладко поспать и поразвлечься.
Давиан поднялся и собрался уходить, окинув печальным взглядом зелёную долину, чувствуя скорбь от того, что ему приходится уходить отсюда, но долг зовёт. Сфера общественной деятельности или повинность взывает к тому, чтобы он был на самом краю идеологической борьбы, которая давно приобрела образ великого марша, под красными знамёнами к коммунизму.
Выходя за пределы зелёной зоны, Давиан понял, что всё – равенство, идейные дома и хвалебные молитвенные песнопения это один марш, один карнавал, который накрыт полотнищем кровавого цвета – цветом человеконенавистнической идеологии, уничтожившей души миллионов людей, как кажется Давиану. Всё – огромное представление, развёрнутое для того, чтобы занять непытливые ума партийцев, существующее только для того, чтобы Директория Коммун смогла продолжать существование и держать в повиновении население целой страны.
Но юноше сейчас не до размышлений про то, что всё существует по воле Партии, для неё и нет ничего без неё. Он вышел к большому зданию, в виде коробки, у входа которого свисают два кроваво-алых стяга, на коих белыми нитями вышит образ старого человека, у него густая борода и пожилое лицо, умудрённое опытом.
Подойдя к железной двери, находящейся за оградкой, Давиан отдал три поясных поклона, вздёргивая руку к небу и приговаривая:
– О, первореволюционере Маркс, будь милостив к последователям твоим.
Снова рука со сжатым кулаком поднимается в небо, и звучат слова:
– Коммунизма пророки, смилуйтесь над нами маловерными и даруйте благодать равенства.