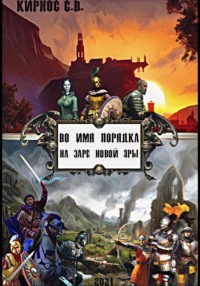полная версия
полная версияПод ласковым солнцем: Ave commune!
«Лишь подобие искусства и культуры» – разочаровался Давиан, подняв голову и увидев, что его окружает.
Улицы в этом месте Улья узки, чем-то напоминают улочки старых итальянских городов – такие же маленькие и скрыты в тени гротескно нависающих построек. Стены, безликие и мрачные, зданий пышут ходом и неприветливостью, аж мороз и мрак пробирают до самых глубин души. И всюду попадаются плакаты. Глаза, горящие огнями адских углей, лидеров Партии смотрят, неустанно, прямо в душу, вызывают кипящее чувство страха. Стяги и флаги измараны символикой и предостережениями. «Не сотвори себе партии иной, ибо есть только ода истинная – Великая Коммунистическая». «Да пребудут с тобой мудрость и ум Маркса и Энгельса – пророков первокоммунистических». «Почитай Партию и общество».
– Проклятье, – шёпотом выругался парень, минуя эти самые флаги и стяги, которые прорезали сознание лозунгами и призывами, сквозь монохромную бесцветную бытность.
Едва ли всё это можно назвать воплощением человеческой натуры в искусстве. Это его подобие, продукт, который используется для создания атмосферы плавления, душевного жара, который необходим, чтобы сплавить народ в единую массу, мешанину. А так намного легче управлять толпой, когда она не что иное, как массивное образование.
Ноги несут Давиана прочь от всего этого. Он улочка за улочкой, переулок за переулком юркнул в небольшой поворот и вскрылся с глаз тысячи камер и ушёл прочь от вездесущего ока общественности.
Здесь он может наконец-то отдохнуть от идей, к которым раньше питал неистовую любовь. В этом месте его дух умиротворялся, а сознание приходило в порядок, освободившись от ежесекундного гнёта народного контроля.
Давиан шагает по длинному тоннелю, идя прямиком навстречу острому свету, что влечёт подобно фонарному столбу мотыльков и мошек. Ещё пару метров парень миновал и яркий свет рассеялся, даруя обозрению прекрасное и практически забытое место, что делает пребывание здесь ещё милее. Местность, совершенно небольшая, метров пять на пять, ужата малоэтажными постройками, обращёнными сюда торцами, лишёнными окон. Тут, в тени невысокого дерева, спрятанного крышами домов, настигает приятное ощущение свободы и лёгкости.
– Вот ты где, – не боясь быть услышанным, Давиан сказал в полный голос, когда увидел небольшую лавочку.
Юноша присел на старенькие деревянные выцветшие доски и скинул вуаль капюшона с лица, давая себе увидеть прикрасы этого места в полную силу. Дерево, сбросившее листву и выстлавшее ковёр жёлтых листьев, у подножья совсем не качается, стоит мирно и тихо. Кустарники у стен скрыли подножья зданий причудливой мишурой веток.
– Как же тут тихо и спокойно.
Давиан не стесняется здесь говорить самим с собой. Он рад, что вчера, во время прогулки ему это место показала Юлия. Бедная девушка после адской демонстрации долго скиталась по Улью, не зная, куда податься, чтобы спрятаться от всевидящих тысячи глаз народного контроля и однажды попросту забрела сюда, чисто случайно. Скорее всего, это место раньше использовалось для партийных собраний и народных голосований, сила решений которых не более чем улица. Но не теперь. Ныне место это освобождено от тлетворного влияния Директории Коммун, поскольку попросту забыто ею. Вот так вот время вычистило из себя места сам дух Коммуны, только стоило ей уйти, забыть про то, что ещё где-то есть маленький, жалкий, участок землицы, не подчинённый ей… и, естественно, народу.
Душа, дух и тело парня здесь отдыхают, наполняются сил, чтобы не быть сломленными и превращёнными в деталь от бездушной машины, имя которой Директория Коммун.
– Ох, если бы Пауль увидел это место, если бы тут был. Ох, не случилось бы с ним всего этого, не произошло такого. – Опечалился Давиан, вспоминая о друге.
В последнее время парень стал часто вспоминать Пауля, ибо медленно, но верно, ощущение одиночества накрывает его с головой. «Я же видел, как он смотрит, он же пытался сказать, что всё творящееся здесь – неправильно. Он же пытался намекнуть на тот яд, который таится в идее, отравляющей Директорию Коммун. Проклятье, будь я проклят, но почему я его не понял? Почему я не услышал его?» – говорит себе Давиан и продолжил дальше посыпать голову пеплом.
Давиан не может справиться внутри себя с ощущением холодной жестокости бытия, которое намеривается его сломать. Он понимает, что это место не лекарство, а что-то вроде средства для снятия симптомов и временного успокоения. Но что делать дальше? У него осталась только Юлия, прошлое которой сокрыто мраком её недоговорок, а сама весьма странная личность. Но даже она – гарант, спасающий Давиана от полного одиночества. Она, в мыслях парня, – товарищ и возможно в будущем друг, цепляясь за которого Давиан не упадёт в чёрную бездну безнадёги.
Давиан осознал, что он заложник всего, что его обложили со всех сторон. Дружба и доверие осквернены системой «народного доклада», когда каждый партиец рад кляузничать в Народную Милицию, чтобы выполнить свой долг. Свобода и развитие попросту задушены здесь той самой тоталитарной демократией, когда каждый шаг, каждое действо находятся под контролем сотен людей и всё делается только с их санкции. У него даже нет его вещей, ибо равенство и доктрина общественной собственности лишили его «чего-то своего». Он ничем не отличается от всех, а всё его принадлежит каждому.
Весь этот каскад мыслей, направленный к одному – теперь ему придётся здесь провести остаток жизни, вызывает чувство яркого исступления, которое взорвалось в душе. Давиан чувствует, как гнев, клокочущая ярость и бурлящая злоба готовы вырваться наружу. Он чувствует, что его дух буквально сгорает от ненависти ко всему, что раньше было чтимо, а в глазах замерцали огоньки безумия. Ему не хватает воздуха, а до груди коснулось болезненное ощущение, словно ему дотронулись до сердца, и грудина сжалась от холодного страха, неприязни и ожесточения одновременно.
– Тише… тише… покой, – Давиан тяжело вздыхает парень, – всё будет в порядке. Тише.
Минуты две юноша просидел в полной тишине, не смея её сотрясти. Полная, абсолютная погружённость в самого себя. «Раб, заложник обстоятельств, в которые сам и стремился. Ну, какой идиот ещё может самолично, радостно и с прытью бежать в клетку? Ну, какой ещё дебил на это способен, если не я?» – корит себя парень, опустив лицо на ладони, опёршись руками о колени.
– Отступник? – так о себе подумал Давиан.
Да, именно отступник, ибо дальше мысли парня были наполнены идеями того, что он предал всё то, о чём думал и во что верил. Он – Давиан бежал из Рейха в тщетной найти мир, который примет его с распростёртыми объятиями и поначалу так и было. Но затем, что-то изменилось. Со смертью друга с мира перед его глазами сорвали маску, и он увидел его истинное лицо.
– Какой-же я идиот.
– А, ты что-то сказал?
Давиан резко поднял голову и разглядел силуэт источника тихого женского, чуть грубоватого, голоса.
– Юля? Что ты тут делаешь? – смутился Давиан.
– Я искала тебя. Знала, что стоит только один раз тебе показать это место, и ты сюда зачастишь ходить сюда.
– Ох, ладно.
Давиан посмотрел, как девушка, на которой светло-серые брюки, выглаженные, чистые, у голени скрываются под такого же цвета сапогом, а на торс ложится лёгкая курка из кожи. Волос девушки расправлен и закручен и с каждым шагом сотрясается, слабо пружиня и подёргиваясь. Её шаг лёгок и аккуратен и Давиан сам не знает, почему не может унять взгляда от неё.
– Как хорошо, что ты пришла, – чувство радости лёгкостью разлилось по груди при виде того, как девушка села у дерева, прямо на мягкий жёлто-золотистый ковёр, откинувшись спиной на чёрствый ствол. – Я прям рад, что ты здесь.
На Давиана посмотрела Юлия и Давиан, нашёл покой в её светло-коньячных очах, наконец-то успокоившись и взяв себя в руки. Он ощутил, как от него отступили мрачные мысли, как на мгновение его отпустила эмоциональная буря.
– Давиан, – голос, мягкий, чуть грубый донёсся от девушки. – А что ты тут делаешь? А то после утренней проповеди ты как-то быстро пропал.
– Я пытаюсь разобраться в себе… кажется, что с меня хватит всего этого. – В речи промелькнула нотка садни. – Всё, финиш.
– Ну-ну, давай по подробнее, – заинтересовалась девушка.
– Знаешь, Юля, я думаю,… нет, я понял, я знаю – пора кидать всё это дело. Я больше не могу, я не смогу больше следовать выбранному пути.
– А зачем выбирал, если путь оказался тяжёл? Давиан, сколько я тебя знаю, ты всегда держал дух, сейчас что случилось?
– Слишком много понял, – буркнул хмуро Давиан. – С меня хватит этого равенства и общности. – Рука юноши устремилась к шее. – Мне по горло этих идей коммунизма и партийного язычества. Всё, хватит с меня этого!
Юлия молчит, мудро соблюдая тишину. Она не стремится винить парня и не желает его сильней загонять в пучину грызни и обвинений самого себя. «Пусть выскажется, сейчас это более важно… да, высказаться – вот что ему сейчас нужно, эта та роскошь, которой мы не обладаем сегодня». – Пронеслось в мыслях девушки, и она тихо и аккуратно сказала:
– Продолжай.
– Что продолжать?
– О чём говорил? И что же ты такого понял, что привело тебя к таким мыслям? Скажи, почему ты именно так всё решил?
– Ты так говоришь, словно сама не разделяешь моих мыслей, – на губах Давиана промелькнула слабая нездоровая улыбка, которая скорее показывает его стремление скрыть боль. – Я думаю, ты и сама будешь не против, что бы вся Директория, все её система полетела к чертям. Не так ли, Юль? – тёмно-синие глаза с надеждой посмотрели на девушку, выдавая желание Давиана того, чтобы Юля с ним согласилась, чтобы вторила его словам.
– К сожалению, я не родилась как ты… я не жила в мире, где есть родители, где есть государство. Я не знаю, что такое мораль.
– К чему ты клонишь? – насторожился Давиан.
– Боюсь, что, несмотря на всё моё негативное отношение к той стране, в которой я живу, мне трудно… нет, даже невозможно представить, как можно жить без всего, что учудила Партия. Пойми, Давиан, без неё – никак.
Мрачное чувство накрыло Давиана и он даже не может подобрать слова, чтобы выразить удивление на пару со скорбью, которые ударили по его сердцу. Он поднял взгляд на Юлю. Раньше, до того, как настал момент прозрения и пришлось изменить не только мнение о Директории, но и о людях в ней, он увидел бы перед собой упрямую девчонку. Ели бы Давиан в один из моментов жизни не понял, насколько люди тут несчастны, то его мысли о Юле были бы весьма негативными.
«Бестолковая девочка, не желающая узреть ущербность своего существования, и отвергающая очевидные истины» – эта мысль была моментально выброшена из сознания. Давиан вспомнил, что в подобном ключе думал раньше о своих знакомых, товарищах и друзьях, которые всецело поддерживали Рейх и его Канцлера. Он смеялся над ними в своих подпольных выступлениях, глумился и считал идиотами, потому что они не разделяют просвещённых идей коммунистического общества. «Что ж, теперь посмеялись бы надо мной» – горе охватило Давиана.
– Что же ты притих? – вопросила Юля, развеяв морок безмолвия.
– Думаю…
Давиан всмотрелся в неё. Слегка заострённое лицо, с оттеняющими морщинами у щёк и мешками под глазами. Усталый и измотанный лик девушки, весьма приятный, но отравленный сотнями тягостей, уставлен прямо на юношу. Косметика? В такой стране, как Директория Коммун её попросту нет, ибо она запрещена, поскольку использование её это – «мелкобогемные тенденции, подрывающие культурные основы Директории Коммун», как сказано в одном из законов.
– Давиан, чего ты замолчал? – вновь спрашивает Юля, но ответом становится полное отсутствие слов собеседника.
Её глаза – светло-карие, оттенка коньяка, завораживают. В них Давиан узрел странную печаль, хандру, разъедающую сердце Юлии. Она, в какой-то мере, – олицетворение того общество, которое огромной новой вавилонской башней устремилось ввысь, к небесам, споря с Создателем, по поводу величия. Юля – часть Директории Коммун, её деталь и рождённая шестерней она с трудом осознает, что есть иные системы, или даже миропорядки, где всё намного иначе. Да, в чём-то, в своей автократичности и тоталитарности они едины, «неделимые братья», как бы сказал Сарагон Мальтийский.
– Юля, почему ты так думаешь? – с дрожью слетели слова с губ Давиана. – Разве ты не видишь, к чему всё привело?
– Так учила Партия потому что, – сразу, без раздумий отвечает девушка, теребя листья под ладонью. – Они говорили, что без неё Директория падёт, что без могучей и сильной общественности, наблюдающей за каждым человеком, всё рухнет и падёт. Они так говорили.
– А ты сама хоть в это веришь? Юль, ты веришь в это?
– А когда ты успел отречься от этого? Ты же сам рассказывал, как раньше желал сюда попасть. Вспомни…
– Да-да, – губы растянулись в лёгкой улыбке, – я вспомнил. Ох, какая же муха меня укусила, что я такое говорил. Но теперь, всё иначе. С меня хватит партийного самодурства… я больше не могу терпеть, что каждый, каждый, мой шаг, каждый раз, когда я почешусь, на меня смотрят сотни глаз.
Лёгкий смешок раздался со стороны девушки.
– Ну, вот что ты смеёшься? – несерьёзно спросил Давиан, протянув руку в её сторону. – Разве это смешно? Ты куда не идёшь, а за тобой смотрят… ну как так можно?
– Всё это очень важно. Позавчера дед Аристофан решил устроить «комунмессу» с двумя послушницами Женского Храмового Общества Великих Революционеров.
– Что ж, с учётом их девиза «Отдай всё на общественное благо и отдайся обществу, просящему», их комунмесса после совместных молитв окончилась…
– Да, – скоротечно перебили девушка парня, – и у него остановилось сердце! Как думаешь, что позволило ему вовремя вызвать скорую?!
– Лучше бы он сдох, – лик Давиана моментально помрачнел. – Вот скажи, Юля, ты действительно считаешь, что лучше, если бы Партия так и была? Ты действительно за всё, что тут происходит? Я, когда ехал сюда, надеялся встретить тут новый идеальный край.
– Так, что ты хотел? – в вопросе Юля чуть склонила голову. – Что ты искал, когда перешёл границу?
Давиан повинно ответил:
– Будущее… признание.
– А что получил?
С тяжестью на сердце и грузным вздохом Давиан ответил:
– Даже не знаю, как сказать. Самообман…
– Ну, разве что черепки вместо золота, которого ты так алкал, – тут же подхватила мысль товарища девушка.
Давиан примолк. Ему трудно говорить на эту тему, тяжело вспоминать, как самонадеянно рвался сюда, как стремился всеми силами души влиться в огромный монолит душ, в механизм, лишённый души. Стыд, чувство позора за собственное безумие и слепоту, овладевшее разумом, гложут юношу. И он решается сменить тему:
– Так ты реально думаешь, что всё так и должно быть? – голосом, охваченным горем человека, спросил Давиан, не убирая взгляда с измученного лица Юли.
– Да, я считаю, что без Партии, без неё и без такого безумия, что крутится вокруг неё, нас не станет. Пойми, прошу тебя, Директория, наша страна, родилась средь таких потрясений, средь такого шторма огня и крови, что трудно представить этот маленький клочок нашего мира оставленным без железной хватки.
– Ты боишься, что всё вернётся обратно? Ты боишься, что если убрать Партию и её систему, – лицо парня поморщилось в отвращении, – «репродукции», то мир, твой город, твой дом окажутся посреди войны?
– Да, – медленно и тягостно вымолвила Юля, взирая на парня глазами, переполненными страданий, – я боюсь этого. Я читала хронику, смотрела древние тексты и фильмы. Кадры из прошлого, из бытности минувших дней.
– И что же там увидела?
– Разрушение и голод. Неописуемые картины человечества, которое подобно червям роется в трупе собственной цивилизации.
– Слишком уж… пафосно.
– А как иначе? Ты не представляешь, что я увидела на кадрах и что почувствовала, когда нам показывали то, что было. – Речь Юли стала тяжелее, а в глазах блеснули слёзы. – Разрушенные города и опустевшие сёла. Горы сгнивших трупов, которые складывали на улицах, потому что хоронить было негде и некогда. Площади, усеянные мертвецами и целые страны, утопающие в крови.
– Да, войны.
– Не просто войны! Делёжка территорий. Битва за ресурсы – воду и пищу. Люди, как голодные крысы, грызли и убивали друг друга за пропитание. Тогда, мы стали ничем не лучше зверья, мало походящего на человека.
– И единственное, по-твоему, что можно сделать, так это прыгнуть в другую крайность? – Давиан опрокинул спину на лавочку. – Из состояния зверья в состояние машины?
– Да хоть какое… или я не права? Не пошёл ли Рейх по такому же пути? А, Давиан? Чем мы отличаемся от Империи? У нас всем заправляет Партия, а у вас церковь. У нас партийные догмы возведены в закон, а у вас моральные. У вас государство – вездесущее существо, от которого не спрятаться, а у нас общество. Чем мы отличаемся от вас? – осыпала вопросами Юля юношу, навострив внимание на нём в ожидании его ответа и смакуя мыслимую правоту.
Давиан слабо усмехнулся и тихо, без надрыва голоса, произнёс:
– Нас оставляют людьми. Я этого не понимал… или не желал понимать, но Рейх, сколь безумен не был бы, сколь его политика не отдавала моральной шизофренией, старается сохранить в людях – людей.
– Подавляя их волю?
– А тут будто бы иначе? Пойми Юль, ведь есть не только Партия и её Директория. Есть ещё и Рейх, и Республика и на востоке страны тоже есть. Мир не ограничен только Коммунами. Да, я здесь пока недолго, но мне понятно – Партия стремится показать, что есть только она, и ничего кроме неё. Нет мира или даже жизни за пределами Генеральной Линии Партии – вот что вам пытаются не просто вдолбить в мозг, но сделать главной жизненной парадигмой. Им, лидерам, таким как Форос или даже Апостол, нужно это, ибо без мысли о том, что за границами партийного идолопоклонства и страны этой, нет ничего кроме выжженной пустыни с дикарями. Так люди, – Давиан обвёл рукой дугу, условно указывая на Улей, – не будут желать драпать отсюда. Они до последнего вздоха будут держаться за ту клетку, внутри которой выросли.
Парень, выговорившись, чуть склонился и вновь посмотрел на девушку. Юля водит по листве правой рукой, перебирая ей и шелестя. Её худое, измученное и бледное лицо отразило на себе душевную опустошённость, отсутствие смысла к существованию. Она явно устала, разумом и сердцем. Её сухие, исцарапанные губы чуть зашевелились, неся слабый, на грани шёпота, голос:
– Может ты и прав… мне… трудно это понять. Я выросла… меня вырастили в стране, где нет ничего, кроме народа и Партии. Всё для них и ничего кроме. Ох, – бедственно вздохнула Юля, приложив ладони к лицу. – Как же я устала от всего этого. Партия… дом… я не хочу, чтобы больше лилась кровь и целые города исчезали в забвенье, но меня переполняет желание убежать отсюда. От всего этого.
– Подожди, – навострился Давиан. – Всех же Партийцев ещё с эмбрионального периода и вплоть до окончания институтов гипнопрограммируют на то, чтобы они любили, и уважала Партию и страну. Со мной то ладно, а вот, что с тобой?
– Я – член санкционированной оппозиции. Мы нужны Партии только в той степени, чтобы она на нашем фоне выглядела «божьим даром или группой интеллектуалов, вечно правых, в отличие от глупой оппозиции». Нам дают возможность мыслить в некоторой степени критически… но только для усиления власти своей.
– А как люди к этому относятся?
– А ты попробуй, скажи фанатику, что его кумир, его смысл жизни – грязь, бред сивой кобылы. Как думаешь, что тебе скажут в ответ?
– И после этого ты всё ещё поддерживаешь её?
– Нет, не поддерживаю, но она – меньшее, необходимое зло. Люди довели себя до такого состояния, в один момент истории, что теперь без Партии никак.
Юноша видит перед собой бедного, измученного жизнью человека, который перед безнадёжностью более мрачного будущего цепляется за последнюю надежду благого существования. Она идёт на ослепляющий и обжигающий свет, который источает Партия, но всё же, как и парень, не разделяет её идей, отвергая их. Сам Давиан почувствовал, как его разум уколол лёгкий гнев от осознания всего происходящего. Вокруг – шестерни машины, вместо людей, а последние, сохранившие остатки критического мышления, низведены до посмешища. Партия свою цель выполнила – люди не пойдут за теми, кто станет призывать к свободе или вознамерится провозглашать правду, ибо их тут же поднимут на смех.
«Как же мне всё это осточертело!» – вспылил внутри себя Давиан и поднял взгляд, когда Юля встала и отошла от дерева, подойдя к одной из стен.
Этот маленький дворик – их маленький островок, где они могут набраться сил, отдышаться и привести рассудок в порядок. Но всё же Давиана берёт чувство обречённости, он ощущает, словно попал на идейно-политическую каторгу, где выхода нет. Он и она – рабы, детали системы, и даже если попытаются ей противостоять, то всё равно послужат на благо власти, поскольку станут поучением для масс – «как поступать не нужно».
– А зачем ты меня вообще искала? – вопросил Давиан, вспомнив о том, что девушка пришла сюда не затем, чтобы просто так поговорить.
– Ах, я совсем забыла. Я наткнулась на Фороса, и он сказал, что искал тебя. Да, так же он просил тебе передать, чтобы ты к нему зашёл и получишь выговор за то, что он не смог до тебя дозвониться.
– Ладно, я всё равно телефон забыл в комнате, – Давиан привстал с лавочки. – Схожу, посмотрю, чего он от меня хочет.
– Всё-таки пойдёшь к нему?
Вопрос девушки вызвал у Давиана негодование, загоревшееся в нём ярче звезды, и он еле как себя сдержал, чтобы не излить ярость, досаду и злобу по отношению к Директорию на Юлю, понимая, что она ни в чём не виновата, а его ненависть рождена не вопросом.
– А у меня в это истинно свободном мире, оплоте власти народа и его демократии есть вообще какой-то выбор?
Часть вторая. Алое зарево равенства
Глава двенадцатая. Монолит
– Да здравствует Столичная Коммуна! Да здравствуют все Коммуны!
Улицы неимоверно исполинского города заполнились выкликами и радостными молитвенными кличами, которые сотрясают само пространство от громкости. Сотни тысяч людей в едином порыве собрались на широченной, не вмещающий взгляд, площади. Она так огромна, что если смотреть от одного края в другой, то её конец утопает за линией горизонта. Такой эффект получается от того, что площадь сделана в виде небольшой, едва ли заметной, волны, чей гребень перекрывает возможность увидеть ругой край.
– Все бесклассовые объединяйтесь! – прозвучал металлический гогот, пронёсшийся вдоль освещённых маленьких улочек.
Площадь настолько огромна, что вместила сотни тысяч человек, в одинаковой одежде, будто бы люди вышли из-под копировального аппарата – столичном праздничном наряде. Брюки, рубашка и пиджак, разделённые на две части. Справа – серый цвет покрывает одеяния, а слева оттенок крови залил наряд.
– Мы есть монолит! Мы есть неделимое единое существо, имя которому – народ коммунистический! – голос разнёсся из всех динамиков и колонок, которые стоят на площади, возносясь далеко вверх и касаясь самых крыш небоскрёбов.
«Монолит, это уж точно». – Такая мысль пронеслась в голове человека, который ушёл от безумного празднества, не стал принимать участие в сходке тысяч человек, из которых сделали не просто один механизм… в этой части мира людские души переплавлены в единый монолит.
За оконной панелью возвышается фигура юноши, облачённого в беспросветный, как бездна, балахон, подпоясанный алым ремнём, расчертившим яркой лентой полотно бездонно чёрной ткани. Его подтянутое и усталое лицо скрыто за широким капюшоном, а тёмно-голубые глаза взирают из темени головного убора. Ноги утянуты остроносыми туфли, чуть прикрытыми штанинами бесцветных брюк.
– Мы едины в нашем равенстве! – прозвучало яростное подобие клича, и он тут же отразился гулкими выкликами толпы, которая его в целый голос стала скандировать.
Губы парня, взиравшего на действие, не исказились в неприязни, как-то было раньше. Теперь он привык, он знает, что лучше так не делать, ибо на этот раз за ним смотрят сотни «народных очей» и каждое действие тут может истосковаться как «ярое лицевое противодействие народной политике».
«Единый сбор, единая цель, единые эмоции и мысли. Всё едино в коммунизме» – антипатией в сердце отразилась эта мысль в голове юноши. И только силой воли он удержал себя от того, чтобы не сплюнуть на пол.
– Сотрём все границы неравенства между нами! – снова воздух сотрясают лозунги, за которыми стоит чья-то народно-партийная воля. – Долой стыд и мораль! Они проводят между нами различие в идеях! Долой классовость! Они разделяют нас по труду и достатку!
За спиной юноши один за другим у стен возвышаются флаги Директории Коммун, её истинные знамёна, принятые не столь давно. Бетон стен покрыли свисающие с креплений у потолка кроваво-алые полотнища. На каждом штандарте багрового цвета трепещется символ, знак партийной империи – два бледных крыла несут на геральдическом щите восьмиконечную звезду, внутри которой покоится сжатый кулак. Весь коридор заполнен стягами страны победившего равенства, которые были приняты не так давно, на всенародном референдуме.