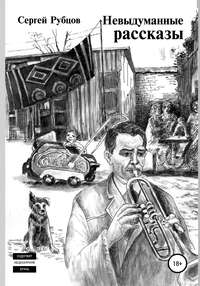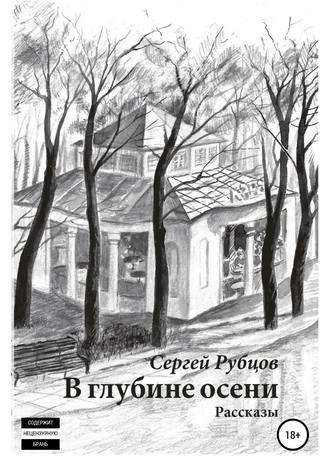 полная версия
полная версияВ глубине осени. Сборник рассказов
«Чёрт возьми, чего ей надо?» – раздражённо думал Николай, но так и не мог угадать причины её отчуждённости.
Елена была полностью увлечена работой и на ухаживания Николая смотрела как на что-то не очень важное и мешающее серьёзному делу, которым она в этот момент занималась. Ей пришлось практически заново учить Резцова говорить, читать и писать.
«Больной Резцов А. В., 42 года (история болезни № 1419), получил 29/06.19… г. диаметральное пулевое ранение черепа, с входным отверстием в задних разделах левой височной доли, на границе с затылочной областью. После ранения длительная потеря сознания…»
Работа с Резцовым увлекла Елену. Было трудно, но постепенно, шаг за шагом, она продвигалась вперёд. Речь пока что давалась Андрею с трудом. В остальном же состояние улучшалось – природное здоровье брало своё. Раны на голове затянулись. Переломы руки и ноги срослись без осложнений, и гипс уже сняли. Она проводила с ним ежедневные восстановительные речевые и письменные занятия по методикам, разработанным полвека назад во время Великой Отечественной войны.
Елена перечитывала свои записи в истории болезни:
«Вначале больной Резцов А. В. мог повторять отдельные слова, не всегда понимая их значение. Ему удавалось правильно произнести, написать и прочитать отдельные буквы, но в написании слогов он менял местами и путал согласные с гласными, и вместо «ал, ап, кот, тру, ул, тру, зуб, кто» – писал «ла, па, кто, тур, лу, буз, кио». Произнеся звук «л», он уже не мог переключиться на следующий звук «м», сам по себе ему доступный, и начинал беспомощно повторять:
– Эх… вот… эх…
Если ему ещё удавалось повторение таких пар слогов, как «па-ба» или «да-та», то повторение серии трёх слогов «би-ба-бо» было недоступным для него и вызывало лишь стереотипное «ба-ба-ба», с постоянной попыткой отделаться от насильственно повторяющегося приступа. Он повторял «Катя» как «тятя», «дорога» как «дода», или после длительных проб и повторения «до-pa» никогда не мог дать адекватного воспроизведения серии из трёх слогов. Характерно, что инертность установки отражалась у него не только на персеверации слогов внутри слова, но и на невозможности произнести следующее слово (например, «дорога») и, повторив слог «до», он был не в состоянии повторить последующие два – «ро-га», воспроизводя его как «до-да». При попытках назвать предъявленные ему предметы эти трудности заметно возрастали, хотя по своему типу оставались прежними.
Естественно, что даже простое сочетание двух слов или элементарная фраза оказываются недоступными больному, фраза «дай пить» повторяется им как односложное «тить», причем сам больной (сопровождая это слово характерными реакциями «Эх… да… эх…») даёт понять, что он недоволен своим повторением, но не может отделаться от насильственного штампа».
На этом этапе лечение затормозилось.
– Что, Елена Михална? Какие дела? Как там наш Резцов? – спросил Лурье, едва Лена в очередной раз вошла к нему в кабинет. – Присаживайтесь. Рассказывайте!
– Пока тяжело, Иван Степанович, ничего у меня не выходит, – чуть не плача, пожаловалась она.
– Ну, ну, ну, полно, Леночка. Успокойтесь! Давайте по порядку.
– Практически топчемся на месте.
– Так! Покажите мне, что Вы ему сейчас даёте?
Елена развернула свои записи и пододвинула их к Лурье. Он внимательно пробежал глазами мелко исписанные страницы.
– Так. В принципе, всё правильно, но Вы явно торопитесь. Попробуйте сочетать написание отдельных букв и слогов не только с их голосовым повторением больным, но одновременным обведением контура букв карандашом. Особенно тех звуков, в которых он путается. И, главное, не волнуйтесь. Я вас уверяю: у Резцова не самый тяжёлый случай. Способности человеческого мозга к восстановлению динамических и речевых функций поразительны. Я вот вспоминаю войну. Такие, я вам доложу, тяжёлые ранения были. Осколочные, через весь мозг, навылет! С поражением всех жизненно-важных центров. Казалось, что пациент если и выживет, то останется «фруктом». Но мы нашли новые методики, запустили близкие по функциям мозговые центры взамен поражённых, и к раненым возвращалась речь, они могли разговаривать, читать, писать. Вот так-то! Всё разработки я Вам дал. Их надо только умело подобрать и применить к данному конкретному случаю! – Лурье разволновался, долго искал что-то. Наконец, нашёл пачку сигарет. Жадно затянулся. – Ещё эта зараза! Других ругаю, а сам никак не могу бросить! – он глянул на сигарету. – И пожалуйста, Елена Михайловна, будьте спокойны. Диктуйте, без нажима, не торопясь, шёпотом, вполголоса. Постарайтесь внушить больному уверенность в том, что он полноценный человек и что он обязательно будет нормально говорить. И ещё, проявите к нему неподдельный интерес, узнайте, что он любит, чем интересуется, что его волнует, отнеситесь к нему как близкому человеку. Представьте, что это ваш брат… или муж, – Лурье улыбнулся.
– Скажете тоже, – Лена смутилась.
– Я серьёзно. Без глубокого проникновения в личность больного вылечить его будет ох как трудно. Поговорите с ним о его семье. У него, кажется, есть жена и дочка. Поспрашивайте о них. Необходимо отвлечь его от постоянной фиксации на дефекте. Вообще побольше с ним разговаривайте. Ничто так не лечит в подобном случае, как душевная беседа. Добейтесь его доверия, расположите к себе. С Вашей красотой и умом это будет не трудно сделать. Ну что, договорились?
– Хорошо, я попробую, – ещё немного сомневаясь, согласилась Елена.
– Вот, может, пригодится, – Лурье вытащил из ящика и протянул Лене фотографию. – В сумке у него нашли.
На фото большеглазая, красивая женщина, в берете и в осенней куртке, держала на коленях миленькую девочку лет пяти. Обе они улыбались.
Но когда Лена на следующем занятии невзначай показала фотографию Андрею, то он весь задрожал, подскочил, замахал руками. Покраснел. Волнуясь, стал выкрикивать:
– Я ска-ал… ха-тит это… гда э-то… ко-чит э-то… что вы ле-ете не ту-да… у-хо… ди-те от-су… да… э-то не леч-чеб-ное…
Он вырвал из её рук фотографию и выбежал из кабинета.
Для Елены реакция Резцова на фото жены и дочки оказалась неожиданной и непонятной. Вероятно, что отношения у него в семье были сложными. Надо было посоветоваться с Лурье.
Иван Степанович выслушал Елену спокойно и посоветовал не волноваться:
– В нашем случае любая реакция, положительная или отрицательная – уже хорошо. Наша задача – вывести его из заторможенного состояния. Этого мы добились. Теперь, я думаю, что обучение пойдёт быстрее.
Лурье и на этот раз оказался прав. На следующем сеансе Резцов хоть и был несколько возбуждён, но уже не проявлял признаков негодования и агрессии. Он изо всех сил старался выполнять задания и ни словом не обмолвился о вчерашнем случае.
Лена тоже решила пока не заводить разговора о его близких.
Рекомендации Лурье скоро принесли результаты. Обводя буквы карандашом, Андрей стал лучше артикулировать звуки и вскоре уже мог довольно уверенно произносить слова из трёх слогов. И тут выяснилось, что он, оказывается, ещё и прекрасно рисует. Как-то Елена ненадолго вышла из кабинета, а когда вернулась, то увидела, что Андрей смотрит в окно и водит по бумаге карандашом. Она мельком глянула через его плечо и застыла в удивлении: на листе бумаги она увидела то же окно и часть больничного двора с деревьями и живыми облаками. Рисунок был выполнен быстро и профессионально. Елена попросила Андрея Васильевича (как она его называла) подарить пейзаж ей. Резцов сделал это с радостью.
Лена сразу же показала подарок Ивану Степановичу.
– Прелестно, прелестно, – удовлетворённо пропел Лурье, – так он у нас художник. Чудесно! Леночка, это обстоятельство значительно облегчит восстановление и активизирует мелкую моторику. Нужно использовать его природные способности.
Лурье развалился на стуле, задумчиво посмотрел в потолок. Потом порылся в карманах пиджака и вытащил старый потёртый бумажник. Раскрыл и протянул Лене купюру:
– Вот Вам, Елена Михайловна, деньги. Прошу сегодня же купить нашему Рафаэлю альбом, акварель, кисточки… ну, и что там ещё нужно для рисования. Этого, я думаю, хватит. Только чек не забудьте взять – денежка счёт любит, – добавил он, смешно выпучив глаза.
С этого момента лечение пошло веселее. Елена с Андреем подолгу задерживались после занятий в кабинете, не могли наговориться. Он тем временем рисовал.
Андрей стал как-то мягче и откровеннее с Еленой. Из его, пока ещё сбивчивых рассказов, она узнала, что когда-то Резцов учился в художественной школе, его хвалили преподаватели, он выставлялся и, как художник, подавал большие надежды. Работал оформителем, но потом женился, родилась дочь, надо было решать проблемы с жильём, зарабатывать и с мечтами о карьере художника пришлось расстаться.
Внешне Андрей оставался спокоен, но когда рассказывал о том времени, в его серо-голубых глазах появлялась тоска, и Елена видела, что он сожалеет об утраченных возможностях. О жене он не говорил, но когда вспоминал о дочери, взгляд его теплел и губы улыбались.
Их беседы становились всё более откровенными. Приходя после работы в свой пустой дом, Лена за мелкими хозяйственными делами на время забывалась, включала телевизор, но ловила себя на том, что не понимает, о чём говорят все эти люди из ящика, и мысленно возвращалась в больницу, в кабинет, где она разговаривала с Андреем, видела его рисующим за столом, вспоминала его лицо, глаза, руки. Сначала ей казалось, что её интерес к Резцову чисто профессиональный, медицинский, но позже она поняла, хоть и не хотела признаться себе в этом, что с утра торопится в больницу не просто потому, что её интересует работа и состояние пациентов, но для того, чтобы поскорее увидеть Андрея.
В один из дней, когда Андрей уже почти совсем оправился от травмы, к нему в больницу приехала жена с дочкой. Елена из окна своего кабинета с волнением наблюдала, как они сидят на скамейке во дворе. Андрей, переговариваясь с женой, пытался усадить дочку на колени, но она всё время вырывалась, чтобы погоняться за голубями. Елена рванулась, ударилась лбом о стекло, схватилась за больное место. «Господи, да что это я…» Девочка громко засмеялась. Слёзы брызнули из глаз Елены.
Поздникин не оставлял своих попыток завоевать её. Самолюбие его было задето, и он решил во что бы то ни стало добиться своего. Он уже не раз провожал Лену, пытался напроситься на «чашку кофе»», но каждый раз она отказывала ему, ссылаясь на занятость и усталость.
В этот вечер он поджидал Елену на улице около её дома. Волновался, курил одну сигарету за другой. Был слегка навеселе. Купил букет ярко-красных роз, шампанское, коробку дорогих конфет. Звонить по телефону не стал, по опыту зная, что, скорее всего, получит очередной отказ. Он встал в тени деревьев между домами так, чтобы его не было видно с улицы. Примерно через полчаса увидел идущую по улице Елену, но она была не одна – рядом с ней шагал невысокий усатый мужчина. Николаю он показался знакомым. Он видел его в больнице: кажется, врач. Они подошли к калитке, постояли минуты две и расстались. Провожатый повернулся и уныло поплёлся в обратном направлении.
«Что? Тоже получил отворот-поворот!» – злорадно подумал Поздникин и направился к дому Елены. Он подошёл, потрогал калитку – она была открыта. По дорожке, выложенной тротуарной плиткой, двинулся к дому, у входных дверей увидел звонок. «Была не была! Фу!» – выдохнул он и нажал на кнопку.
Наступил день выписки Андрея. Всё, что на сегодняшний день могла медицина – было сделано.
Резцов проснулся рано. Не спеша помылся в душе, сбрил бороду, которую отрастил за месяцы, проведённые в больнице. Собрал немногочисленные вещи. Оделся в чистое – жена привезла ему одежду. Потом прощался с соседями по палате, с которыми успел подружиться. Он хотел, но в то же время боялся увидеться с Леной. Знал, что расставание неизбежно – и от этого ему становилось ещё тяжелее.
Андрей решил попрощаться с Лурье, подошёл к кабинету, негромко постучал, услышал знакомое «войдите», открыл дверь.
– А, Резцов, заходи! – Лурье призывно замахал рукой. – Смотришь молодцом! Жалобы на нас есть?
– Что Вы, Иван Степанович! По гроб жизни вам обязан!
– Это ты не меня – Елену благодари. Прекрасный из неё врач получится, как думаешь?
– Конечно, уже получился, – подтвердил Андрей.
– Да, завидую я тому мужику, чьей женой она станет! – как бы невзначай произнёс Лурье. – Эх, мне бы годков тридцать сбросить – живой бы не ушла. Да что там! Так говоришь, жалоб нет? Головные боли не беспокоят?
– Иногда бывают по ночам, а так терпимо.
– Тогда, значит, на выписку! Подержим тебя годик на третьей. Работать сможешь, только смотри, без тяжелых нагрузок. Пока придётся поберечься.
– Спасибо, Иван Степанович!
В дверь постучали. Вошла Лена.
– Здрасьте, Елена Прекрасная, она же Премудрая! Легка на помине, а мы тут её ждём – не дождёмся, – как всегда шутливо, приветствовал её Лурье.
Лена поздоровалась с мужчинами. Чуть задержалась взглядом на Андрее. Он тоже смотрел на неё.
– Что, Леночка, документы на его выписку готовы?
– Да, Иван Степанович, вчера уже всё заполнила.
– Извините, я на минуту, – Резцов стремительно вышел из кабинета. Лена с Лурье недоумённо переглянулись. Через несколько минут Андрей вернулся. В руках у него был прямоугольный свёрток, сверху упакованный в газетные листы и букет каких-то маленьких белых цветов.
– Это тебе… вам, Лена! – он протянул ей подарки. Она чуть покраснела.
– Спасибо, а можно развернуть, посмотреть? – ей было любопытно.
– Даже нужно! Давайте я вам помогу, – он снял несколько листов газеты. Под ними оказался портрет Елены. Андрей рисовал его по ночам, втайне от всех, и раньше времени никому не показывал. Он изобразил её стоящей у окна в прозрачном шифоновом платье с распущенными волосами.
– Ух ты, а ведь похожа, очень даже! Талант! Вот чем тебе надо заняться, Резцов. Неплохие деньги на портретах можешь зарабатывать, – Лурье смотрел то на портрет, то на Елену. Вдруг спохватился, хлопнул себя ладонью по лбу:
– Ё моё, совсем забыл. Меня ж шеф вызывал! Всё бывай, Андрей, – Иван Степанович быстро вышел из кабинета.
– Что же, Елена Михайловна, понравился Вам портрет?
– Да, очень! Спасибо! Только почему ты вдруг перешёл на вы? Прошу, называй меня Леной.
– Это знак благодарности и уважения! Можно?..
– Что?
– Я поцелую твою руку? – он приблизился и припал к её руке.
– Смешной! Какой ты всё-таки смешной! – она провела ладонью по его густым чёрным волосам. – Совсем всё заросло и не видно ничего. Так и в душе всё зарастёт и всё забудется!
Андрей поднял голову и посмотрел в глаза Лены. Они были полны слёз. Она попыталась смахнуть их ладонью, но не успела – и две прозрачные капли почти одновременно сорвались и, чуть коснувшись щёк, упали на крахмальную ткань халата.
– Ведь ничего изменить уже нельзя! У тебя семья, дочь! Ты им нужен!
Лена достала из кармана халата сложенный листок бумаги.
– Это мой адрес и телефон. Может… когда-нибудь…
Андрей хотел было что-то сказать. Лена приложила ладонь к его губам.
– Не надо, не говори ничего и ничего не обещай, Андрюша!
Она отняла руку и нежно поцеловала его в губы.
– А теперь иди! Прощай!
Андрей попятился к двери, развернулся и выбежал из кабинета. Лена стояла у окна и видела, как он, перекинув через плечо зелёную спортивную сумку, шёл к больничным воротам. Он не оборачивался. Она больше не сдерживала слёз.
Лена отпросилась у Лурье и ушла домой пораньше. Она как будто онемела. Села в кресло и закрыла глаза. Тишина. Слышен только привычный ход настенных часов. Внезапно пустоту прорезал звонок. «Кто это?» Она никого не хотела видеть. Звонок повторился. Пришлось идти открывать. На пороге стоял Андрей.
– Ты?! – Лена беззвучно пошевелила губами. Он переступил порог и обнял её.
Поздникин прятался между домами. Видел, как Лена вернулась домой, как неожиданно появился Резцов, позвонил в дом – и Лена его пустила. Приближалась гроза. Потемнело. Редкие крупные капли дождя стали бить по листьям клёна – и вдруг дождь хлынул сплошной стеной. Поздникин пробежал по лужам через калитку к дому Лены. Он не стал звонить. Повернул ручку – дверь открылась. Стараясь не шуметь, он прошёл внутрь. Николай уже бывал здесь и знал расположение комнат. Прокрался по коридору, остановился у закрытой двери спальни. Прислушался. Тихо. Он расстегнул кобуру и достал пистолет.
Андрей и Лена спали. Андрею опять снились зелёные холмы и черепичные крыши, извилистая река, мосты, полёт. Потом он опять оказывался в поезде. Под перестук колёс разговаривал и курил в тамбуре с кавказцами. Там же девушка Галя, соседка по купе, рассказывала ему, что едет к жениху, выходит замуж, предлагала напоследок перед свадьбой развлечься. Ему стало противно, его рвало. Он стонал во сне. Остался один. Потом в тамбур пришёл покурить Алексей – «человек божий». Стояли, смеялись. Алексей вытащил зажигалку – точная копия пистолета Макаров. Андрей хотел прикурить. Вспышка. Лицо обдало жгучим ветром.
Пустыня. Темень. Ночь…
«Би-ба-бо… би-ба-бо… би-ба-бо…»
5. Лица
Семейный альбом
Время топчется на месте, иногда ползёт еле-еле, переходя на ускоренный шаг, а то вдруг начинает ударять в иноходь или галоп. Как ни крути, оно неизбежно движется, а стало быть, уходит, исчезает для меня и вместе со мной, подчиняясь хоть и относительному, но железному закону. (Вот и я как-то незаметно прожил свои шестьдесят два года.)
В молодости нет ни времени, ни желания оглядываться назад. Молодость стремительна, легкомысленна, кажется, что впереди если не вечность, то бесконечность дней и лет. Приближение неизбежного конца само по себе не страшно, но я боюсь, что вместе со мной растворятся в небытии судьбы и лица моих близких: прадедов, дедов, родителей, друзей – словом, мои корни.
Так возникла мысль – написать «Семейный альбом». В нём, как в обычном альбоме семейных фотографий, могут быть на одной странице прадеды и правнуки, выпадать не вставленные в уголки фотографии далекого прошлого и сегодняшние, забытые события, даты, лица.
Это не парадные портреты, а скорее эскизы, наброски. Эти короткие записки – лишь слабая мимолётная тень, оставленная родными людьми в моей памяти.
И ещё мне хочется, чтобы «перелистали» этот альбом те, кто так тоскует по «твёрдой сталинской руке», чтобы пошатнулась в них уверенность в том, что рука эта не коснётся их самих, их родителей, их мужей, жён и детей.
Патриарх
Мой прадед со стороны матери – Фрол Востриков. Фигура колоритная. Был высок ростом, жилист и силен. Характер у Фрола властный, жёсткий, а порой и жестокий. Жил и хозяйствовал в Тамбове. Он сам и старшие сыновья, в том числе и мой дед Василий, занимались извозом, то есть перевозили на лошадях грузы. Упорным каторжным трудом прадед поставил своё дело, как сейчас сказали бы «бизнес», вырастил дюжину детей, построил два дома, полные невесток, зятьёв и внуков. Всё бы ничего. Только к власти пришли большевики, а такой чумы не дай Господь никакому народу. К концу 20-х годов, после относительной свободы и оттепели нэпа, товарищи коммунисты стали «завинчивать гайки». Отобрали один дом и большую часть лошадей. Глядя, как рушится дело всей жизни, как труды его, кровь, пот и слёзы превращаются во прах, Фрол возопил и затосковал, подобно ветхозаветному Иову. Сердце его не выдержало страданий, и он в скорости отдал Богу душу.
Судя по фотографии и со слов родни, я лицом похож на него.
Дед Иван
Сведения о нём у меня скудные. Знаю его только по рассказам отца. Предки Ивана Филипповича были волжскими казаками, бежавшими от голода и осевшими в тамбовской деревне. Роста он был невысокого, жгучий брюнет и носил здоровенные казачьи усы. Дед сапожничал: строил обувку, тачал сапоги и боты. Следуя ремесленной привычке – любил выпить. Как рассказывает отец: курил трубку, но никогда не затягивался. Во хмелю был драчлив и скандален. Тогда доставалось моей бабке Хавроше, иногда и до крови. Бил тем, что попадётся под руку. Перепадало и детям.
Пьяный, задирался с соседскими мужиками, за что был ими нещадно бит, но, как правило, спасал от увечий его закадычный друг и собутыльник, забойщик скота – «боец», как называли его в деревне – мужик огромного роста, неимоверной силы, с пудовыми кулачищами, которого боялась не только деревня, но и весь район. История не сохранила его имени.
Дед приучал и моего отца к сапожному ремеслу, но обучение было жёстким, так что не могло понравиться мальчишке. Крепко досталось отцу, когда он от почти готовых сапог отрезал кожу с голенища, чтобы смастерить рогатку. Отходил его дед шпандырем так, что он запомнил это на всю жизнь. Для тех, кто не знает, шпандырь – это ремень, которым сапожник крепит работу к ноге. Отсюда – хлёсткое словцо «пришпандорить». Отец мой почувствовал это словцо на собственной шкуре.
Перед войной семья из деревни переселилась в райцентр, в Токарёвку, благо, она находилась в двух километрах от деревни, на Пушкинскую улицу. Здесь и провёл дед Иван свои последние вольные дни. В начале войны, осенью 1941-го года, его посадили.
Дело было так.
Началась война, и со всего района стали собирать призывников в райцентр, где формировали команды и отправляли эшелонами на фронт. Пока шло формирование, призывников размещали на постой по домам, в которых было хоть сколько-нибудь свободного места. Поселили и в дом деда, и в соседние по улице дома. Место по хатам хватало, а вот спать ребятам было не на чем – на голом полу не положишь. Вот и придумали некоторые «смышленые головы» выход. За окраиной Токаревки начиналось колхозное поле. Хлеб летом 1941-го скосить-то успели, а обмолотить, по причине нехватки мужиков и лошадей – их позабирали на фронт – ещё нет, и хлеб стоял на поле в снопах. Вот эти снопы и стали таскать по домам на «подстилку» для солдат. Конечно, все понимали, на что идут, и про «закон о колосках» знали, но по русской привычке надеялись на авось. Может, пронесёт, призывников отправят, а зёрнышки можно будет обмолотить и смолоть муку – вот тебе хлеб да лепешки! Такая вот крестьянская хитрость. Только деду Ивану эти зёрнышки очень уж дорого встали: увидел колхозный бригадир, как дед тянет сноп домой, – ну и доложил куда следует. Таскали многие, а попался он. Время сталинское, злое, военное – загремел мой Иван Филиппович на три года срока. В какой лагерь он попал и как умер, неизвестно. Только получила бабка Хавроша весной 1942-го года справку, что такой-то умер тогда-то. И всё – ни места захоронения, ни причины смерти. Можно только догадываться о причинах. Все возможные варианты подробно описаны Солженицыным в «Архипелаге». Вышло, что вся цена человеческой жизни – сноп колосков.
Бабушка Хавроша
Так её звали все соседи в Токарёвке, тамбовском районном центре. Была она мала ростом, быстрая в движениях. С татарским разрезом глаз. В вечном зелёном клетчатом платке и в потёртом, траченном молью и временем пальтишке. Нюхала табак – ноздри у неё постоянно были в серой табачной пыли. Родила она с моим дедом Иваном восемь детей, но пятеро умерли ещё в детстве. Отец мой – Валентин – был назван в честь умершей любимой дочери деда Ивана – Валентины. После её смерти дед сказал: «Кто родится следующим – назовем её именем». Родился мой отец.
Дети постепенно разъехались кто куда. Осталась Хавроша одна. Помню, приезжали мы к ней в гости, когда жила она в райцентре ещё на Пушкинской улице, в старом домике с соломенной крышей, из которого забрали по «закону о колосках» её мужа Ивана, моего деда, под арест, на суд, на этап.
Хавроша всегда загодя готовилась к нашему приезду. Покупала для меня мёд, варенья, конфеты, а отцу водочки. Сейчас я удивляюсь, как она всё это делала на свою нищенскую пенсию в 10—12 рублей. На радостях, за приезд, бабуся опрокидывала стопочку и начинала с прибаутками и частушками плясать: «Эх, и татушнички, и мамушнички!» – хрипловато выводила она, притопывая босой ногой. Жаль, что был я мал и не запомнил её репертуара. Были у неё частушки, как я теперь понимаю, и не совсем приличные.
Я был ещё маленький, но уже шустро бегал. Родители вместе с бабушкой сидели за столом на кухне. Я играл какими-то игрушками в комнате. Между кухней и комнатой висела занавеска. Хавроша, желая угостить нас своими соленьями, полезла в погреб, который находился посередине кухни. Открыла крышку. Спустилась по лесенке. Там, в глубине, стояли бочки, кадушки, вёдра и банки. Я, сидя в комнате, этого не видел. Не успели родители сообразить, как я вылетел из-за занавески, пробежал несколько шагов по кухне и полетел в открытый погреб.
Не знаю, кто из нас испугался больше: я, когда неожиданно полетел в темноту и неизвестность, или бабка, когда я упал ей на спину? Только я упал молча, а она истошно закричала: «Чёрт! Чёрт!» – приняв меня за врага рода человеческого. Отец вытащил меня из погреба бледного и еле живого от страха. Спасла от увечий бабкина спина, так что отделался я испугом.