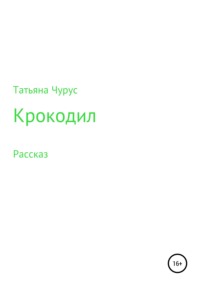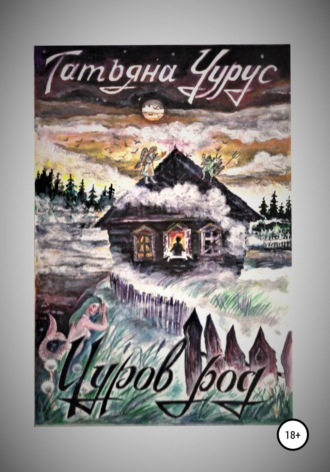 полная версия
полная версияЧуров род
– Не слышу! – огрызнулась Катя, на баушку зыркнула.
– Так ты слушай ухом, а не брюхом! Хивря! И послал же Господь на старость-то лет! – и почитай уж вдогон крикнула: – И хто б они ни были – всё не нашенски, не коченёвские!..
Ах ты баушка Чуриха! Как носом чует: чур-чур-чур, никак Косточка! Да ручонкой сухонькой и манит – никшни́, никуды и не денешься!
– Киньстиньки́н, а Киньстиньки́н? А чей ты будешь-то? – Косточка и озирается: Катиной защиты-заступа взыскует – та лишь зардеется, глазёнки опустит: стыдается девица. – Ну что бельмы-то свои вытаращил? Я говорю, хвамилие-то твоё как будет?
Он и скажи… Да и сам-то дивится-удивляется: ишь ты! А и чудно, ей-божечки!
– Дурит ишшо! Фа́стает! Бахвалится! Да нету таких хвамилиев!
– Как же, баушка…
– Нет как нет! Бу́рковы есть, знаю. Вон у нас Бу́рков один был, дядя Герва́сий, дурачок коченёвский… ага… А что красивый был! Ой, мамушки мои! Но дурачок, прости Господи мою душу грешную, совсем дурак никудышный! Идёт, бывалоче, слюни распустит – усе мысалы в соплях!.. Мы да мы… всё мычал, сердечный, никто от его и слова-то доброго не слыхивал, прости Господи… Всё девок шшупал, охальник… ага… об чём эт я… а! Вот то Бу́рков был, дядя Герва́сий, дурачок… царствие ему небесное… Ти́слины есть… А ты что мне тут плетёшь, антихрист, путаешь-то мене? Ты слушай, что люди-то старые говорят! Не знаю я таких хвамилиев! Чуди́новых – знаю. Вон у нас ишшо Мавра такая была, чумичка, у Кочумаевки живала. Взамуж пошла за Бу́ркова… но не за того: тот-то дурачок был – хто с им жить-то станет – за другого Бу́ркова, кузнеца. В город Камень пошла – потому тамошний он, каменскый, был… Погодь-ка, погоди, а иде он ей заприметил-то… не упомню чтой-то… Взамуж-то вышла – а чрез три-то дни и возвернулась: что такое? Да помер, грит, кузнец-то (старый старик он уж был), вот… Но так Бу́рковой записанная и жила. Сваталси опосля к ей кой-то… энтот, что ль… ой, не упомню… прости Господи… вот… – смолкла старушка. Катя обернулась – а она уж носом клюёт. Поманила тихохонько Косточку пальчиком… – Так, гришь, как твоё хвамилие? – баушка Чуриха очнулась, встрепенулась – и сверлит круглым птичьим глазком Косточку: страстушки!
– Да тьфу на тебя! – эк разухарилась Катерина-то!
– А ты прикуси язычино-то! – и Косточке: – Слышь, и отец у тебе, что ль… прости Господи, с таким хвамилием… язык покарябаешь… тьфу!
– И отец…
– И дед?
– И дед…
– И в метрике прямо так и прописано? – Косточка плечиками пожимает, мается, да меж тем с Кати очей-то не спускает – подымает.
– Ну, это, стало, дьячок понапутал! – Костя на Катю – а та молчок!
– Какой дьячок?
– Ну, понавроде писаря: в метрику он запись записывал. У нас такой дьячок коченёвскый был – уж что пропойца, что матерщинничал… Царица Небесная! Подопьёт – да с пьяных-то глаз и понапишет что ни попадя: кому каку буквицу от себя присовокупит, а каку и выпустит… пьяные твои глаза… Понапутает, антихрист, анафема такой… Ох и злился на его батюшко Серафим, ох и серчал… Да ты ж не деревенскай? – и воззрится на Костю, нежданного гостя, – а тот к Кате жмётся, что нож к скатерти, дитё малое – к матери! – И отец твой городской не то? – Кивнёт Косточка. – И дед?.. Ну, разве что в городе…
Вот время идёт – баушка Лукерья знай своё толкует, своё ведёт:
– Киньстиньки́н, а Киньстиньки́н…
Родимес его возьми…
А Катя-то наша припомнила ему тот случа́й, ой припо-о-омнила! (Это уж опосля, это уж он, Косточка-т, женихаться стал!) Подошёл раз к ей:
– Кать, а Кать? Вот поженимся – и здесь, – шапка набекрень, в пашпорт пальцем тыкает: кобенится! – и здесь будет записано… – и хвамилие свое выкликнул, а сам сейчас задохнётся: так и заходится! Глаза, того и гляди, повыскакивают! А она ему, Катя-то наша лукавая… лакомая:
– Да нету таких «хвамилиев»! – и косится… русалка, ну чистая русалка!
– Ну Катя! – ишь, разобиделся!
– Да не знаю я таких «хвамилиев»! – и ну хохотать-похохатывать… охотница-хыщница… – Нет, ну правда! – а саму ровно бес кружит по комнате: раскраснелась-то что – и не приснится экое! – дышит – не надышится! Ядрёная-а-а девка! – Дьячок-то, видать, и впрямь пьян был: чуешь, буквицу-т присовокупил лишнюю, не то! – и хохочет звонким русалочьим хохотом, похотливая!
– А у Боборыкина «то»? – и сверлит глазами бесстыжую Косточка – всю душу она ему вымотала! – У Сашки Заиграева «то»?.. – А Катя пуще прежнего куражится: того и гляди, разорвёт её от смеха-то! Ой и Катя, ну Катя…
– Буквица эта ровнёхонько шишка на языке: и сплюнул бы – ан нет: что мёртвой хваткой вцепилася!
– Опять ты, Катя, по-коченёвски заговорила!
– Ну ладно тебе! – и теребит Косточку, ластится. – Мы снова к тому дьячку пойдём – авось ещё что понапутает! – Вот и злись на ей опосля этого…
Пошли пешком, да на пашенку – а спешат-то-поспешают шибко! А на пашне-то на пашенке – пашеница-шептуница, да шапкою пышною… бесшабашная… тш-шш…
Пошто ты, душенька пашеница, пышешь, пошто дышишь…
Пасть ниц – да во пшеницу-шептуницу… и описать не опишешь-шь-шь…
… и сейчас мать, ровно бес её попутал, выхватила из Катиных ручонок недописанную книжечку – и пошла в лихоманчище её шерстить, пошла потрошить… шить… шить… шшш…
Катюшку нашу и закруж-ж-жи-и-и… Она плавнёшенько так приземлилась: чистёхонька, белёхонька… невинная… вырванная… страница…
И вот она писала – прятала, писала – прятала…
Ох и сладок запрет, до чего ж сладостен… Слаще пряников-оладьев, что на патоке (то тётушки пекут утречком: утри слюни-то – текут!), – куда как слаще!
Ух и сладок запрет, аль табу… будто по-учёному… по-печёному… слаще спелых терпких яблоков… ватрушек творожных… сочней… ну оч-ч-чень сладок…
А тут, что преступница какая, заметалась по комнатке – по светёлке по девичьей: взор рассеянный, руки чуж-чужи… замерла да призадумалась – очи в одну точку: глядят – не смигнут – а потом цоп свою драгоценную шкутулочку, шалочку на головку накинула, пальтишонко куценько нацепила на плечики, ноги в пимы сунула – и за дверь, за ворота́ – в темень, в стужу, в буран!
Бежит – не оглянется: зубы стучат, да ровно кто хватает за щи́колки…
Лишь бы шкатулочку не выронить – не сронить!.. А буран, ишь, любопытничает: так и норовит протянуть свою лапу стариковскую, да ледяную что, да колючую-скорченную к сокровищу-то девичьему!
Бежит-бежит наша Катя: наелась уж холодного угощения, задыхается… а куда бежит – и сама не ведает… Остановилась: местечко облюбовала-высмотрела – простор-то какой, и луна вон будто Катюше подмигивает: не робей, дескать, девица, не робей, красная!
Извлекла из-за пазухи своё сокровище – не налюбуется! И давай, что собачонка, снег рыть-разрывать, снег-снежок: ух он колючий-злючий! А рукавички-то колом встали, а ручонки-то что кочерёжки какие: не слушаются – куражатся!
Вот выдохнула чуть-чуток – и опять за работу: пошла рыть-разрывать! Уж и рыла она рыла, рыла-рыла, рыла-рыла – после погладила свою драгоценную шкатулочку, что малое дитятко, ровно прощалась с ней, ненаглядной, на веки вечные! – и схоронила в ямке, да снежком и присыпала. Бе-е-ережно так онемевшими ручонками белый холмик утрамбовала – к марту ручьями омоется! – воткнула для приметы колышек – посидела-посидела девонька, да домой и побрела, к дому Чурову…
Пис-с-сала – прятала, пис-с-сала – прятала, пис-с-сала – засыпа́ла песочечком-снежочечком… Снежок, он нежный, лакомый… но лакомиться опосля, опосля… Сопит-сопит, пустёхонька головушка, засыпает-засыпает… носиком шмыгает… заносит-заносит снежком-вьюжком… не видать ни зги, ни строчечки… Сгинули, сгинули…
И никаких сигналов: живы ли?..
Никаких сигналов – сгинули в снегу, как есть сгинули…
И на кого ж вы Катю-то нашу покинул-л-ли-и-и…
И что ж это: растает снежок – потекут ручьи – потекут ру́чьи словеса чернилам-м-ми-и-и… и засохнут, и забудутся… Ой и сгином сгинули…
Уж она рыскала-рыскала по белому по полю пустынному, уж она искала-искала: все глаза проглядела-выглядела – нет как нет холмика! И колышка н-не-е-ет!..
Уж она сокрушалась-сокрушалась, точно шалая, об своём об сокровище, уж она билась-билась головушкой – нет любого, нет желанного! Всё снег, окаянный, засыпал… Пропала, пропала её головушка!..
Опустилась наша Катя – бесси-и-ильно, словно колосочек подкошенный! – опустилась на снежное поле пустынное: раскраснелась, волосики взмокли, заиндевели, из-под шалочки поповыбились… а мокрущая вся, скомканная… Ах ты горемыка горемычная…
Так на снегу и сидела, ревмя ревела…
И вот сон Кате диковинный привиделся: вот будто свадьба, и будто ейна то свадьба, Катина, – она про то во сне ведает.
И вот свадьбу-то видит, а себя не видит: только на ноги свои и смотрит – белые туфлички, чулочки кружавчаты, платьице – всё как водится, всё как у людей – ан ничего-то боле и не видать.
Да и странно, жениха как нет – а гости едят-пируют и знать ничего не желают.
А он, жених-то, возьми да подойди к Кате с заду-то: подойди, да волосы-то свои ей на голову и накинь-перекинь! А волосья-то, слышь, так-таки и растут – прут что на дрожжах: седущие, длиннющие, колючие – личико застилают, по рукам-ногам вьются!
И тут чует Катя: прилепились к ей те волосья, как есть к головушке приросли! Откинула она их, девица, белой рученькой – жениха высматривает, а его и след простыл!
А кой-то из гостей и крикни: дескать, и как ладно, что у невесты-то волос седой, – эдак-то и хваты́ не надобно! Крикнуть-то крикнул – и дальше пир ведёт. А Катя и впрямь ровно в фате: щупает кудри свои новые – а они точно шелко́вые сделались, да там мягкие, да пушистые…
А после и видит она: гроб на столе – как заместо угощения – а в гробе в том упокойница, младая невестушка! А уж что волосья-то у ей белым-белы, лицо закрывают, что тебе саваном…
И проснулась Катя, так и подскочила девчоночка… только и свистнула… а ужас-то что священный… страсти страшные…
– А ну, сказывай сон! – тётка примою, тётка темою! И заглядывает в глаза тёмные Кате полоротой, одурманенной-придурочной.
– Да на ей ить лица нет! – друга тётка второю, контрапунктою! Экый какой канон чудной!
– А я что говорю? Сказывай! – Ну, Катя и рассказала всё как есть, ничего не утаила девонька. А тётки только руками-то и всплеснули, да запричитали, да заахали! О-хо-хо, что ж это будет-то?
– Так, гришь, девка, волосья седые? – и качают головами, переглядываются. – Ой, не к добру это, не к добру…
– Ну ладно! – тётушка сердобольная!
– Да что ладно-то? У нас вон одна во сне волос седой увидала, Кривошеина-старуха, скотница…
А другая тётка встревает риспостою… супостатка постылая… пропасти́на:
– «Скотница»! Птичница она: у ей петух ишшо вырвался да промежду пальцев и кукукнул! – и ухмыляется: дескать, туда ж!
– А-а! – протянула наивная тётка. – Твоя правда, сестра, кукукнул так кукукнул: раскукукнул… ага… и не соврёшь… Так она, Кривошеина-то, птичница, – я и говорю, – а только увидь она во сне волос седой – жёсткый, ну что свинячий кабудьто!
– Да ты-то шшупала нешто? – другая тётка! И головой мотает!
– Да ну тебе совсем… Так она, птичница-то, и овдовела… а ты говоришь… так-то вот! – ух, победила! Довольнёшенька! Губу закусила!
– У-у, полно брехать-то! – не унимается тётка-правдолюбица. – Овдовела-то она уж через три года!
– Эх, сестра! – и выдохнет, и головой качнёт: дескать, и не разумеешь-то ты ничегошеньки! – Дык ить сон-то и обождать может!
– Это как? – не утерпела Катя: глазёнки вон выпучила.
– Да как: обождёт-обождёт – а опосля явью и явится… вона как…
– Чего ты девчонке голову морочишь? Чего мордуешься? Она и так сидит глуподурая! Ну пошто рот-от раззявила? – Кате-то. – Полоротая.
– А ты помнишь, сестра, – зачнёт снова-сызнова тётка пропостою, – у нас погорельцы стояли?
– Это мужчины всё такие видные, полные, бородатые, а меж их одна только женчина, погорелица? – другая тётка.
– Они самые, погорельцы погорелые. Стояли у нас, ага.
– Ну как не помнить – помню-мню, – и поглядывает на сестру недоверчиво, глядит неласково: дескать, уж памятью она не мается – не сумлевается!
– Так она, погорелица-то, тоже вот волос седой во сне увидала…
– О! Ты-то всё про всё знаешь, чего и быть не было, ведом ведаешь! – и дуется на сестру!
– Дак она сама сказывала: волос, грит, такой длиннющий видала – к чему бы, мол, этакой сон? Ну, мы ей сейчас и надоумили: ступай-де к отцу Серафиму (то поп наш, батюшко Серафим был: видный такой мужчина, полный, бородатый – и жена у его была, у покойника, попадьица, и дочерь, поповна…). Она, погорелица-то, и пошла к ему – он это сны оченно чинно истолковывал. Вот приходит она к ему в и́збу-то, а он, батюшко-от, тольки что откушал – бородёночку-то оглаживает, роток крестит. Так и так, мол, здорово живёшь, отче Серафим, – а он ей: дескать, ты уж звиняй мене, дщерь моя, а не зову тебе с собою трапезы трапезова́ть – сама, мол, видишь, тольки откушал, – да крошечки-то со стола смёл, да в роток и закинул. Ну, погорелица и давай ему сон свой сказывать, а отца-то сморило: сидит зевает, брюхо поглаживает… ага… Ну, он, правда, всё честь по чести выслушал: это, грит, тебе вдоветь иль гореть, дщерь моя! – и глазищами ка-а-ак сверкнёт – мамушки родные! – и погорелицу-то перстом огненным и окрестил! Что ж это, батюшко, я, грит, уж и вдовая, уж и погорелая? А отец Серафим эдак усмехнулся и ответствует: оно, грит, ничего, оно, грит, бывает: это, мол, сон жизню догнал! Изрёк – да и почивать пошёл. А только попадья, поди ты, сейчас погорелицу и манит пальчиком: ты-де не слушай его – он всем одно и то ж сказывает – ты мене слушай… – тётка вдруг прикусила язык: сидит, будто баба каменна, обернуться не обернётся – потому точно спиной что чует… Царица Небесная!.. И другая тётка: побледнела-то, толстогубая, вон ровно белёное полотно! Что такое?
– Нет, ну ты глянь-ка, а? – баушка Чуриха!!! – Я по всей избе веретеном верчусь: иде девки, куды запропали-попрятались? – а оне ту́тотко! У, халды, вещуньи проклятущие, пустоязыни чёртовы! Дела им нету, халдюжницам! – Тётки глаза поопускали стыдливые, сидят не шело́хнутся – не дохнут! – Ягод эдакую прорву понарвали-понабрали! Я уж и перебрала, и понамыла, и огонь зажгла: иде девки? У, халдюги! Окны вон понаоткрывали – сейчас пылища налипнет-насядет – будете хрустеть-скрыпеть, зубьями скрежетать, уголь жрать-жевать… Ишь, язычинами-то пошли чесать, вещуньи проклятущие!.. Тольки вот хто бу́ит спрядать да вервие свивать?..
Диковинными, ой диковинными послышались речи те детинушке нашей Катеринушке – она возьми да и вскричи:
– Я свивать, я спрядать буду! – а сама и не ведает, про что речь-реченьку ведёт: так напужалась, к подушке прижалась – дрожит ровно осинов лист!
Тут баушка на дурищу и оглянись – да ка-а-ак цыкнет, ка-а-ак зубьями-то скрыпнет – из неё, из Кати-то, вмиг вся хворь да дурь и выскочила: что колом тем осиновым её и поповышибло!
Тётки – варенье варить, а Катя-то ка́ко же? Катя-то сызнова в неведении?..
Так она, Катьша-то, что́ удумала, экую страсть: словеса-то, ровно волоса, поповырастают, опосля выпадают, а иные, дескать, и седеют!
Что деется-то с девкой! И ведать ни едина душа не ведает!
И на какую лавку в избе ни присядь – а у ей, у Катерины нашей, книжка везде припрятана (когда и раскрытая, книжка-то) – вот она сейчас и закраснеется, Катя-то, – книжку цоп, да и приберёт, да и просунет меж книг иных… а и чего краснела-то – ин жаром каким пышет! – и чего книжку-то эту самую таила-утаивала: книжка, она и есть книжка! – и сама знать не знает: руки, что плети, опустит и стоит себе алеется, цвет маков!
Эвон, пуще прежнего зардеется!
– Делом займись! – тётки ей.
И пошто вы, тётушки, причитаете-перешёптываетесь, почто пошли точить читательницу нашу нерадивую?..
И нешто неприличие какое сказывают в книжках тех? Аль стихов хитросплетенье узорчатое, что и не разобрать глазу немудрствующему? А расплети ты их – слова как слова? Русые да простоволосые?..
И никто-то, ни един-едина душа, не мял ейна тела рыхлого да белого, что пышичем пышет, ароматом ароматным морит, – и томилось тело белое, румяное до поры до времени, задыхалось наливное спелое яблочко!
И никто-то во всём свете белом не испил сока, что источала наша лапушка, – и бродили соки, перебраживали, сбитнем сбивалися!
А уж что томилася милая, что маялась маем наша красна девица: изошла на муки мученические, изболелась болью тягостной, страдалица горемычная! Ныла кажная клеточка, кажная косточка, кажная жилочка-прожилочка, волосиночка самая малая, родинка еле приметная… родимая ты головушка… свет Катеринушка… душенька чистая… Потерпи-стерпи часок-другой, повремени времечко временно… потерпи… пока раным-ранёшенько… ты покуда детинушка…
Смилостивились тётушки добрые: только баушка Чуриха глаз сомкнёт, носом заклюёт – почивать почивает – сейчас за околицу, да Косточку – а тот уж и ждёт-пождёт, дождаться не дождётся! – да за белы рученьки, да тайком-тайнёшенько провожают до кровинушки свет-Катеринушки – а что Катьша-то наша зарумянится-зардеется, очи долу, голубица ты ясная, девица красная, стыдливая родимая головушка!
Ох и тётки вы, тётушки, подруженьки-наперсницы, и опасную игру вы затеяли – не испужались бы, не оступилися!
А уж что шумят-то, шебуршат, шушукаются у дверей у заветных у Катиных! Родимые матушки! Шуметь шумят – а войтить не войдут: слово дадено!
Катюшка же наша – вот ведь русалка бесстыжая! – почитай пред самыми очами разлюбезных тётушек с голубком своим милуется-целуется – а поцелуи те что подснежники нежные, золотистым апрельским солнышком подрумяненные!
Миловаться-то милуется с Косточкой, а думу тайную, сердечную бережёт для отца его, для Павла для Фёдорыча, и послания шлёт ему девичьи невинные уж который срок! Аль то мнится ей толь, мечтательнице…
А и ведать не ведает наша Катя ласковая, что послания те не дойдут до друга разлюбезного, что Косточка допрежь того раскрывает листки белые, распечатывает, его душенькой-голубушкой испещрённые!
Распечатает, прочтёт… и в печь… ох, горе горькое… неизречённое… И сызнова за околицу… Чуров дом отовсюду виднеется…
А открой баушка глазок, открой другой – сейчас Косточку и за порог, да когда ещё и прикрикнут, когда и цыкнут на мальчонка: дескать, ходют тут всякие-якие! Эх вы тётки сметливые! И что удумают! Аль сама она, Катя, удумала?..
А только тут Катюшка-то наша шумливая точно язык и проглоти: нешто тишак ей, девчончишку, в язык-то щелканул – как есть, щелканул!
Сама Катя-то тише тихого, а глазом раскосым знай за Косточкой доглядывает. Долго ли коротко ль в гляделки играть игралось: знамо дело, долгонько – не стерпела Катьша наша, никак с большущей тишиной не обыкнется:
– А что у Кати есть? – так, знаешь, и выкатилось из роточка камушком! – Словцо заветное – вот что! – Косточка и обороти к ней личико своё заворожённое: пропал, пропал пропадом мальчишечко!
– И ты его ведаешь?.. – и выдохнуть не выдохнул, а Катюшка уж зашептала шепотком, да на ушко́ – и послушал бы, да не слы́шечко!
И какими-такими оборотами речь свою оборачивала Катерина наша затейливая – одному Господу то ведомо, да только с тех пор Косточка-то-Константин что дурень будто сделался: нешто при́воротнем приворожила его Катя-то?..
Взмокла, смолкла: дождь не щадил – душил, сёк, косой…
Косточка глянул ей в очи – тонет, тонет… конец… Волосы – волн барашки: вот-вот накроют тебя, пловец… барахтайся-барахтайся…
И не поймёшь ты ей, не спознаешь – не сведаешь: аль она взрослая девица – али дитятко малое, неразумное?
Вот Косточка хвастать:
– А у меня папа…
А Катитка ему:
– Подумаешь! А у меня папа… – и только глазёнки закатит, только удумку какую створить замыслит – сейчас баушка Чуриха пред очами явится – ровнёхонько она ловит Катюшкины словечки! – и зашипит:
– Катьша! Ишь, вещунья проклятая! – и пойдёт шерстить девчушку нашу речистую-пречистую! – Чур на тебе, прикуси язычино!
– А у мамы-то у моей глаза такие… ну вот что немытые виноградины… – и застыдается: можно ль так говорить о матери? Ох и грех, ох и тяжка-а-ай! Грех грызёт орех… – Вот как у куклы Зорьки, когда мы её в лужу окунули… – и запылала что маков цвет! И пошто маму в лужу окунули… жалко… Она обмоет… омоет…
– И ноет, и ноет! Житья ж никакого! – А Катя уж закатилась: э-эх!..
Лишь единожды переступал порог Чурова дома почтеннейший Пал Фёдорыч, один разочек – и то, взошед на приступочек, так с приступочка и вещал, тишайший Пал Фёдорыч. И молвил он:
– Авдотьюшка, Глашенька, соседушки! – и страшны́м-страшно́ зажурчали речи те в ушках малышки Катеринушки – и зажала она ушки, не вынесла: защемило сердечко у малой детушки! – Баушка Луша, душенька! – и молил, и взывал, и алкал алчбою бесстыдною! – В гошпиталь, в гошпиталь свезти бы Катюшину матушку! Баушка Луша, уж лучше… – А Чуриха шелуху-то с губ сплюнула, да и шепнула: «Пёс шелудивый»! – Баушка Лукерья… – Лукавый его попутал – и кулёчек-то пустёхонький скомкала, да просителю, другу ситному, в макушку, в самую что маковку и запустила.
– Изыди, злыдня, изверг ты! Не то толкану – свету белого невзвидишь! – изрыгнула; сама что злоехидна ягинишна, старуха старая Чуриха! Загородила все входы-выходы, руки, точно ветки сухие, скрюченные, крестом раскорячила!
Увезли-свезли Катюшину матушку, не послушали баушки Чурихи, увезли-свезли за речку за Кочумаевку, за Чуров дом, за Коченёвский край. А как возвернулися, и не видал никто: тьма тьмущая, кромешная…
Лишь единожды перешла порог дома славного Пал Фёдорыча баушка Чуриха…
– Зарезал!!! – и ручонкой окрест себя замахала, и тихохонько под нос зашептала… чур-чур-чур… Прокляла проклятием, что печатью припечатала, место сие окаянное!
Смерть матери страшна… шш…
Уж куда как страшна смертуш-ш-шка, да родимой да матуш-ш-шки… тш… шш… шш…
Вот альбом возьмут – большущий, глянцевый! – так из рук салазками и выскальзывает! А уж что красота, красотища что! У нашей Катьши глазёнки-то и забегают: вот бы ей, да похожей стать, да на…
– Ты какую выбираешь сторону? – крикнет Катерина наша нетерпеливая. Костя толь плечики эдак сведёт: дескать, и не всё ль равно? – Ну, какую? – не унимается Катя.
– Любую? – а сам любуется на нашу румяненную, кудрявенную головушку! Ах ты куколка!
– Ну, я так не играю! – губушки расквасит, глаз свой хитрущий сощурит! Ах ты! – Кто чурачил, тот и начал! – и считать примется: а считалочка страшная-престрашная – то Катю сама баушка Чуриха выучила! Ой и страшная! – Чуши-боры, ки́шки перепрели – собаки поели! – выдохнет, тряхнёт головёнкою. – Тебе левая… нет, ещё разок… Чуши-боры, ки́шки перепрели – собаки поели… правая…
Вот примутся листать альбом-то: всё, что слева, – Катино, а всё, что справа, – Костино. Вот листают-листают: у Катюшки глазёнки горят, щёчки пылают, волосёнки взмокли… до чего ж ладно… красиво до чего… А Костя знай своё: какую картинку увидит – всё на Катю на его похожа! – сейчас и кричит отцу:
– Пап, а правда Катя на инфанту Маргариту похожа?
– Правда, сынок, правда, – отец ему из соседней комнаты. Вот дальше листают.
– А на Марию, что во храм вводят?
– Угу…
– А на Венеру боттичеллеву? – и стыдливо-невинно очи опускает.
Растёт наша Катя, растёт: день ото дня всё краше и краше! Вон как заалелась-то, бедовая головушка! Локон на пальчик накрутит, а он, локон-то, что змейка золотистая, обовьётся вкруг пальчика вкруг розового! Ух и Катя!
Растёт наша Катя, да всё хорошеет… Только она того и знать-то не знает, и ведать-то не ведает по-прежнему! Ах ты Катя ты раскатя… А тут тётки ещё научают: дескать, чего девка не знает, то её и красит. Вот оно как…
– А это, – Пал Фёдорыч подойдёт к нашим голубкам, – мама твоя… И что-то странное мелькнёт в очах почтеннейшего Пал Фёдорыча, что-то диковинное… Катя бровки-то вскинет – а он уж ушёл в соседнюю комнату… И зажмурится, зажмурится Катерина наша непутёвая, эдак зажмурится, что увидит там, на самом дне глаз… Ой, страшно… Матери-то она совсем-совсемушки не помнит! Не помнит лица её… только вот этот портрет… откуда-то из глубины вынырнул: доченька… нет, нет… страшно… И уткнётся мордочкой Катитка в картинку глянцевую…
– А что у Кати есть? – и на Косточку глаз свой русалочий скосила, а самой уж и невмоготу! – Бежим на Кочумаевку!
– С тобой хоть на край света! – только и выговорит Косточка – и бегом во весь дух за Катею! Ах ты Катя ты Катитка, Катитка-волхви́тка, буйная головушка! Бежать-то бежит, да сама себе под нос и бунчи́т скороговорку какую важную, бунчит, что палочками по барабану выстукивает:
– Секре-е-етик сокрыт, а та-а-айна истаяла, секре-е-етик сокрыт, а та-а-айна истаяла… – Эх ты Катя ты Катя! И что это она вечно удумает! Удумщица мудрёная, дурёшка шумливая… – Вот… только ты глаза закрой… не открывай, не открывай!.. – и сейчас землю рыть! – Не смотри… не смотри… – Костя и глянул: картинка – та, что Пал Фёдорыч Кате подарил, – под стёклышком под зелёным схоронена. – Только никому! – и грозит грязным пальчиком. – Это секретик… – и на ушко́: зашептала-то, зашептала: – Матушка… Зачурай, зачурай… Чур-чур-чур… – и примяла землицу ладошкою.