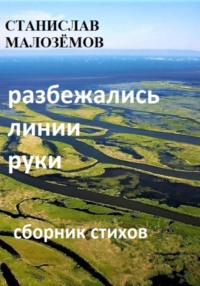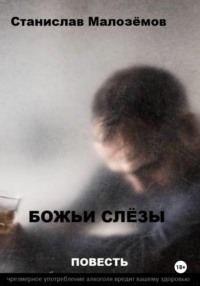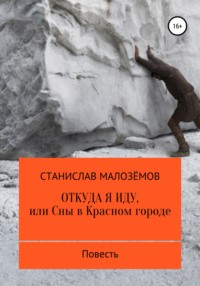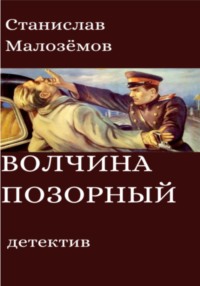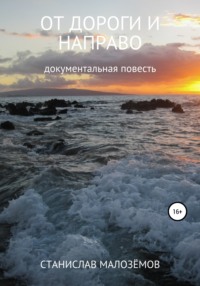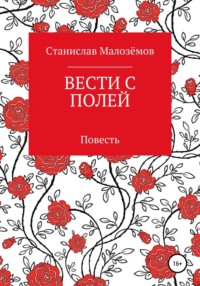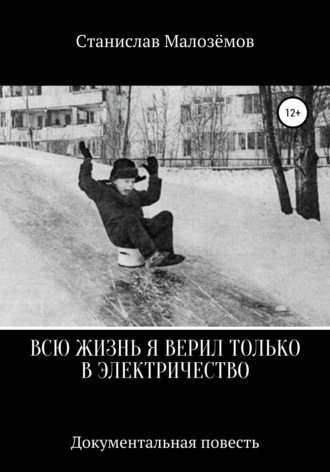 полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
Вечером, когда стемнело и заскрипели цикады, когда между травинками стал прохладно сочиться сладкий аромат глубины земной и половина луны начала своё медленное плавание в океане небесном с одного края горизонта на другой, мы все занялись самым приятным. Едой, питьём и разговорами.
Прогорел костер и мы в живой ещё золе напекли картошки с полведра. Дядя Гриша прошлогоднюю прихватил. Напились до упора чая с плюшками бабушкиными. Деды влили в себя по паре кружек браги, а после всего этого все расслабились и легли вокруг костра боком на подставленные локти.
Прямо над головами, чуть не погасив костер ветром от крыльев, как призраки пролетели большие, совы.
– Неясыть бородатая, – как-то определил дед.
Вокруг нас всё время двигалась и летала всякая живность. Чуть поодаль, возле озерка, свистела с завыванием большая, видно, птица, свистели суслики и как дети маленькие плакали зайцы. Никто их не обижал. Просто они так разговаривают.
– А чего зайцы такие трусливые? – задал я вопрос коллективу. Как оказалось – глупый.
– Зайцы – ещё те звери! Бельтюки у их вроде косые, да? Ан нет! Это у них ноги разные. Правые длинше. Потому они по кругу-то и шарошутся, – засмеялся дядя Гриша. – Сами смирные, не нападают, но дерутся хоть с кем. И часто огарнуют даже больших зверей. Выигрывают. У нас один дурак поймал сетью зайца. Вытащил его за уши. Дружкам-охотникам показать ясыря(пленника) отловленного хотел. А пленный ясырьный заяц, вот те крест, извернулся, да забрухал задними лапами мужику пузо до самых кишок. А потом вырвался и замурил ходко. Токмо его и видали. Еле спасли мужика, лотоху ентого, в больничке совхозной.
– А сигает, однако, как! – вставил Панька. – Метра на три вверх почитай без разгону. Под фарами тикать могёт шибко ночью на дороге. Давишь акселератор, стрелка к восьмидесяти подходит на спидометре, а заяц чикиляет себе ровнёхонько и хрен догонишь. Бывалыча и мясо сырое они едят. Капканы зорят охотничьи. Так что, это только в сказках он такой миленький как плюшевая игрушка. А в жизни хоть и не волк, но зверь не слабый. Чумач ещё тот!
Дядя Гриша еле дослушал про зайцев до конца. На лице его, покрытом оранжевыми бликами от вяло горящего костерка, было крупными буквами написано, что пришла пора петь. Потому, что хорошо. Никто не поёт, когда плохо. Он откинул назад плечи, уперся руками позади себя в холодную траву и запел:
Ой, то не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Ой, да во сне привиделось.
Ой, мне во сне привиделось…
Тут в дуэт своевременно вплёлся Панька с грубым вторым голосом. Пели они просто замечательно. Говорили, что у казаков душевно петь – от природы. Как у цыган. Панька тоже выбросил назад руки, выпрямился, освободил голос:
– Будто конь мой вороной
Разыгрался, расплясался,
Ой, разрезвился подо мной.
Ой, налетели ветры злые
Да с восточной стороны.
Ой, да сорвали чёрну шапку
С моей буйной головы!..
Песня была длинная и драматическая. Бражка не только помогала петь, но и будила потаённые чувства. Деды пели и костер высвечивал в трех их глазах маленькие слезинки, которые не скатывались по щекам, а замирали в глазах. Это и были нежные чувства суровых казаков, почти никому не видные. Слезинки выкатывались стеснительно и сдержанно. По-мужски. Они светились, жили отдельно от грубых крестьянских казачьих душ и застенчиво дрожали в ночном воздухе.
Пели они долго. Казачьи, само-собой, песни, которых мы не знали. А подпеть хотелось. Наконец они передохнули, выпили по кружке и с суровыми лицами исполнили «Летят перелетные птицы». Тут и мы с Шуркой вписались, хотя не знали всех слов. Но всё равно песня удалась.
А после этого все молча начали вспоминать каждый своё, то, что исподволь навеяли песни. Молчали так долго, что у меня первого силы сидеть как на поминках кончились.
– Панька, а Панька! Дед! А вот арбузов тут море целое. Мы же всю бахчевню объехали. Их в город свезут на базар? И почем продавать будут? Я пацанам скажу, чтобы ваши покупали. Больно вкусные. Сладкие. Маленькие, а куда вкуснее, чем нам в Кустанай из Ташкента привозят по пять копеек за килограмм.
– Ташкентские! – от души захохотал Григорий Гулько. После чего сказал, как отрезал: – Скуснее астраханских арбузОв не бывает в природе. Вот сюды забей себе, пацан! И вы ноне астраханские ели. Мы с Панькой тридцать, почитай, лет тому, когда с Урала-то ноги уносили, сховали и свезли всё. Неделю цельную гуртовали обоз свой. Забрали и семена от арбузОв. От нас там Астрахань была недалече, если мировыми масштабами судить. Посадили тут. Марь была, конечно. Неуверенность. Мы ажник чуток замельтишились, шугнулись. Думали, что не примет их эта земля. А оно вон как обернулось. Потом с первого урожая семян собрали прилично, со второго. Совхоз вон сколько земли отмерил нам. И дыньки-колхозницы местные садим. Тоже растут. АрбузЫ, правда, размером да весом не выходят как под Астраханью да на Урале. Но вкус тот же.
– А арбузЫ эти мы не продаем,– Панька скрутил «козью ногу» и задумчиво затянулся. – Я тогда ещё прежнему директору совхоза, царствие ему небесное, затесал мысль, что люЯм нашим надо радость нести, подарки делать, коли уж власть у нас ради народа существует. Золотых побрякушек да автомобилей мы всем подарить не могём пока. Не поспело время это. А по мешку арбузОв астраханских местного изготовления – запросто можем завезти в каждый дом. И все три директора, которые правили пока мы тут живём, ни разу и не пробовали наше арбузное производство прижучить. Наоборот. В запрошлый год вон ещё три гектара добавили. У нас две тысячи человек, если детишек не считать. И всем в достаток хватает. Даже бабе Стюре твоей в город свозим. Солит она их.
Я вспомнил солёные с капустой вместе бабушкины арбузики и сглотнул слюну. Безусловный рефлекс сработал.– Люди-то довольны как! – закончил повествование дед. – Оно-то да. АрбузЫ вкусные. Но не в арбузАх дело-то. В уважительности совхозной к людям своим дело. Настоящей, не для отметки в райкоме партии. Там, кстати, ни хрена про это и не знает никто. Директор наш не говорил никому. А и на фига бы? Дело наше, семейное, Владимировское.
Сейчас позволю себе небольшое отступление для некоторых уместных тут разъяснений.
Обратите внимание: удивительная была речь у стариков наших. Они и свой привычный казачий говорок естественно вплетали в простую крестьянскую речь. И матюгались безбожно, но беззлобно, не вкладывая в матюги ругательного смысла. А просто соединяли один способ изложения мысли с разными другими. Они читали много всяких газет и книжек, что не было чем-то необычным. В деревне нашей очень многие читали всё почти так же, как городские. Газеты, журналы, книги. Панька и детей своих приучил читать. А они потом выросли и все почти, кроме младшей Валентины, получили высшее образование и трудились на уважаемых интеллигентных работах. Потому временами и Панька, и родственники его излагали вполне уместно свои мысли, цитируя заученные большие фрагменты статей газетных, политических лозунгов и философских изречений, или книжек мудрёных. Выходило, со стороны наблюдая, что деды наши держат руки на пульсе всего самого актуального и современного, знакомы с философией и вообще могут свободно говорить на нескольких русских языках. На матерщинном, на простонародном, а также почти литературном, на родном казачьем и городском, в меру культурном. Лично я за долгое время общения с ними и сегодня довольно квалифицированно и свободно говорю минимум на пяти русских языках. Что временами шокирует родных и близких. Ну вот. Конец отступления
– Ты, Павел Иваныч, про корейцев забыл сказать, – дядя Гриша тоже свернул цыгарку и зашабил с удовольствием. – Их, когда сослали с мест родных в наши края, то они у совхоза зАраз землю запросили под лук да морковку. Ну да, не спорю, они продают своё. В город таскают. Но по мешку лука в каждый дом осенью завозят. Дарят. Потому как люди они не только трудящие, но и добрые. Порядочные. И ведь ничего за свои подарки у правления не просили никогда. Живут, как могут в своём закутке возле околицы. Сейчас у них уж домов сорок, не меньше.
Панька почесал под повязкой место, где когда-то имел глаз и вспомнил.
– Немцев, Гришка, поволжских, переселили к нам, помнишь когда? Только война началась. Вот как построили они во Владимировке свою игрушку-деревеньку, аккуратную да чистую, всю в цветочках, и сразу пошли в правление. Под них конкретно свиноферму сделали. Потом ещё одну. Потом ещё. Сейчас их три. Колбасный цех сделали. В городе хорошие сосиски днём с огнём народ ищет, а у нас их девать некуда. А окорока! А сало копченое, слоистое, сырой и сухой засолки! Работящий народ – немцы. И честный. Не схалтурили ни разу.
Всё, что они в наше сельпо сдают – полный обгимахт. А вот на Новый год и они детям нашим всем, которым до десяти лет исполнилось – тоже бесплатно развозят в каждый дом по ящику с колбасами, сосисками и салом всяким.
– Ну, так идём, значит к коммунизму, – сказал я, не успев подумать.
– Не идем мы никуда, – Панька поморщился. – Из головы выплюнь глупости всякие. Доброта, порядочность и уважение к людям честное, не показное, оно не имеет отношения к капитализму, социализму, коммунизму… Это всё от души, от совести идет. У любого народа совесть есть и честь своя. И тот народ, который уважает себя, который совестливый, не надо заставлять или упрашивать делать другим добрые дела, не требуя взамен ничего. Он сам тратит на других и совесть свою и честь и добро. Так и должна быть устроена хоть какая жизнь. Хоть где. Не только у нас.
– А что, только у нас во Владимировке люди добрые собрались? – хмыкнул Шурка.
– Да нет, конечно, – дядя Гриша сказал и задумался. Потом не очень уверенно закончил: – Так должно быть. По-божески. По совести. И есть, конечно. Но Земля большая. И социализм с коммунизмом не везде приспособился. Не у всего народа. Вот чего жаль. Социализм, он не даёт развиться грехам смертным. Жадности, зависти, гордыне. Вот победит коммунистическая сила везде – будет во всем мире как у нас.
Мы ещё долго говорили о чем-то похожем. О честных правилах житейских, о милосердии и несовпадении человеческих помыслов и представлений о чистоте жизни.
Я до этого дня и представить себе не мог, что мои родные, простые работяги, битые не раз судьбой до полусмерти, имеют философские взгляды на существование и могут рассуждать почти как ученые о сути хорошего и плохого. И о смысле жизни, который никак не удаётся понять, потому как не везде жизнь бежит в одну сторону и несёт на себе только доброе и светлое.
Мы с Шуркой пошли спать под телегу. На травку. И пока не уснули, думали о том, что услышали. А деды наши тихо спели ещё пару песен казачьих. И, видно тоже задумались над тем, что давно уже знали и испробовали. А, может, и уснули. Как-то незаметно ночь уже медленно перетекала в близкое утро. И костёр наш погас…
Ровно половину следующего дня с шести утра Мы с Шуркой выполняли самое ответственное поручение дедов. Обошли всю территорию бахчей с бумажкой и карандашом химическим. Слюнявили его и как чернилами записывали количество арбузов на каждой делянке. Считали маленькие и целые, отрывали подпорченные и подгнившие, больные, бросали их в мешки, поправляли ползущие друг на друга плети с большими листьями, чтобы они не застили арбузикам солнце. Потом относили порченные арбузы подальше, метров за сто, высыпали их там и оставляли пропадать окончательно на жаре. Мы три раза сбивались со счёта, потом додумались писать на арбузе цифру, его номер порядковый, втыкали возле него прут, которых наломали штук двадцать с ближайших к бахчам кустов. И вроде бы пошло дело. Подсчитали почти точно. Росло и наливалось сладким соком двадцать четыре тысячи триста двадцать восемь арбузов. Шурка записал цифру внизу на листке, а я на ладони. Правда, раздавили мы нечаянно на ходу штук двадцать, не меньше. Бродить по арбузному полю не такое уж простое дело. Иногда просто не видно, куда наступать.
Доложили Паньке, бумажку дали, а я для верности ещё и ладошку показал.
– Слышь, Гриня! – крикнул дед дяде Грише, который осматривал подсолнечный глубокий частокол. – А на ентот год пошибче выходит урожай.
По мешку в каждый дом закатим точно. Нам с тобой и Васькой где-то по три, да в город Славкиной бабушке тож три мешка посолить-поквасить будет. Ну, потом точнее прикинем, когда созреют. В прошлом годе арбузОв с мяч футбольный размером половина почти была. Так что, мешков, глядишь, и поболе надо припасать. Где брать? Нашить, что ли? Купить в сельпо три рулона мешковины, да пусть Фрося, Стюра да Валюха Васькина, дочка моя младшая, пошьют. Машинки у всех добрые старые «Зингеры», какие я им всем пять лет назад на восьмое марта сгоношил. Валька, так вообще – полог брезентовый мне сшила из шести кусков, да обметала. Вот я им такое и пропишу задание-то. Ага.
– Панька, ну а нам чего дальше считать или, может, поливать? – присев на корточки отвлёк я деда. – Руки-ноги чешутся, работу ждут.
– Та не бреши уже ты! – крикнул по пути от подсолнухов Григорий Гулько, утопая копытом протеза в рыхлой земле бахчей. – Ничего у вас больше не чешется? Работать они хочут! Ишь, передовики! Свободны на сегодня!
– Вон, идите, сок березовый подоите с больших деревьев, где не вся листва проклюнулась. В новоростах-то сок прошел ужо. Бидончик ентот возьмите, люминевый. – Панька показал пальцем куда нам идти. – А поработали вы дельно. Уважение вам от нас. Да вечера гуляйте. Корзинку возьмите тож. Грибов синявок полно ентой весной. Костяника опять же. Тоже штука. Нам чуток принесёте – не обидимся.
Мы всё взяли и пошли в лес. Освобожденный от рабочих забот и боязни не точно выполнить указания деда, я стал видеть окружающую действительность, слышать сотни всяких звуков и чувствовать аромат светлой жизни природы, исходящий от всего живого. А неживого нет ничего в природе. Даже старые, разваливающиеся на щепу пни, живут, потому, что из глубины, из-под чёрной земли сквозь плотный ковер трав и прошлогодних листьев прорываются на белый свет сильные, настырные ростки от расползшихся по сторонам и ещё не умерших корней бывшего дерева. Я шел в лес по перламутровому от молодого пушистого ковыля лугу, стараясь не наступать на отцветающие поздние маки, у которых уже отогнулись к земле потемневшие и больше не алые лепестки. Я обходил высокие белокурые букеты луговой ромашки и цветущие неестественно белыми листиками кусты вишарника, убегающего чередой с луга в глубину леса.
Через меня перепрыгивали, задевая за плечи и волос, огромные кузнечики с розовыми изнутри крылышками. Падали сверху и неожиданно зависали над желтыми шариками ещё не распушивших причёску одуванчиков большие чёрно-желтые бабочки с фиолетовыми разводами на крыльях. Низко над травами и цветами летали с трескучим шумом коричневые толстые жуки, а над ними, расслабив длинные острые крылья и растопырив раздвоенные хвосты парили быстрые ласточки. На секунду они снижались, забирали клювами жуков и улетали в лес, на ветки. На обед.
Разнотравье притянуло к себе столько диких лесных пчёл, что перед самым лесом мы с Шуркой остановились и посмотрели друг на друга.
– Продеремся через эту пчелиную армию? – засомневался Шурка.
– Так уже ходили недавно сушняк рубить. Мы их и не заметили. А они нас. Плевать на нас пчёлы хотели. Нужны мы им! Им цветы нужны. Сам не наступишь, они отвлекаться от работы не станут.
Я пошел дальше, огибая цветы с пчелами и ещё какие-то одинокие стебли с небесно-голубыми большими цветами, над которыми висел аромат шоколадных конфет. В лес мы вошли под аккомпанемент неслаженного хора птичьего. Птиц на каждом дереве, похоже, было по десятку, не меньше. Некоторых можно было разглядеть. Маленькие и побольше, серые, пестрые и голубоватые с оранжевыми грудками и хохолками на голове. Черные и сизые, с длинными синими раздвоенными клювами, а еще с красными, похожими на нос Деда Мороза. Они перелетали с дерева на дерево и постоянно переговаривались. Шум от них стоял такой, что мы с Шуркой кричали друг другу то, что хотели сказать. Хотя шли друг от друга в двух метрах. Прошли мы березовую полосу и попали в осинник. И стало тихо. Сюда птиц почему-то не заносило. Наверное, потому, что трава тут была пониже, редкая, и живности мелкой, козявок и жучков не видно было вообще.
– Эй, глянь! – Шурка вытянул руку и пальцем ткнул под толстый ствол метрах в пяти.
Ну! – сказал я, но ничего не заметил и пошел поближе. Рассмотреть
-Дурак ты! Куда!? – Шурка схватил меня за рукав и оттащил назад. – Смотри прямо под ствол.
И я увидел наконец. Большая серая с бежевыми узорами по всей спине змея уползала от ствола вглубь леса.
– Гадюка?
– Она, зараза, Сама не нападет, но рядом лучше не проходить. Испугается и хватанёт. Лечиться долго потом. Если успеешь до больнички доехать. А мы на Булочке не успеем точно. Пошли обратно. В берёзовый колок. Грибы поищем, – Шурка повернулся и быстро, глядя под ноги, пошел из осинника, а я за ним, след в след.
В березовом лесу мы пробыли часа два, набрали примерно две кружки сока, корзинку грибов и совсем немного костяники. Деды хлебнули по глотку, похвалили сок, нас и грибы.
– Костяника не поспела ишшо, – выплюнул ягодку дядя Гриша. – Но грибная поджарка на ужин будет знатная.
И точно. Грибов этих вкусных необыкновенно мы наелись так безрассудно, что ночь спали не целиком, а с перерывами на забеги в темень, но именно туда, где днём видели большие лопухи.
А утром в девять приехал дядя Вася и сказал, что мы с Шуркой вертаемся домой.
– Тебе задание. Бабушкиных коз попасти после обеда на лужайке возле нашего ближнего колка. Там трава нетронутая. А бабушке надобно в город ехать. Ей сегодня с утра домой пенсию принесли. Поедет покупать деду Паньке электрическую бритву на день рождения, который уже вот-вот. Через две недели. Я её в город и закину.
И мы поехали. Шурка вышел прямо возле начала нашей улицы, а мы дальше погнали. На МТС. На собрание по итогам месяца.
– Там быстро всё будет, – сказал дядя Вася. – А потом поедем позавтракаем. Я после этого мотнуся в город с бабой Фросей, а оттуда в Семиозёрку. Они нам кое-какие запчасти должны отдать. И сразу обратно. А ты до вечера, до сумерек с козами попасешься заодно, травку пощиплешь.
Юмор я оценил и смеялся до самых ворот на МТС. Хорошо, когда весело и радостно. А что? Два дня пролетели как в сказке какой! Много увидел, сделал и послушал. И всё на пользу. Здорово.
В воротах МТС стояла тётка с блокнотом и записывала приезжающих.
– Хлопчик с тобой будет на собрании, Василий? – мимоходом поинтересовалась она, записывая номер машины.
А то! – ответил дядя мой и воткнул первую передачу.
Мы въехали в новый для меня мир рабочих людей, техники, станков и разных машин. Где всё не так, как на бахче или нашей улице. Где происходят запредельно загадочные для меня события: собрание в честь победителей социалистического соревнования. И одно из них сейчас мне посчастливится увидеть и услышать.
Как прекрасно текла жизнь. И как легко и радостно мне было по ней плыть к счастливому, естественно, берегу.
Глава двадцать восьмая
Ой, многие из нынешних стариков в детстве своём, в пятидесятые и первые шестидесятые годы, уверен я, никогда не попадали хоть на какое-нибудь городское или деревенское производство или в любой ремонтный цех. Не были никогда на фермах и даже в советских учреждениях. Потому никто из них не может верно представить себе, ориентируясь только на собственную бытовую жизнь, что же это такое было на самом деле – социалистический труд. Газеты наши, радио, да и подоспевшее позже телевидение, конечно же, ретушировали его, подкрашивали, сочиняли про социалистический энтузиазм волшебные сказки. Но потрясающе другое: реально украшать-то и приходилось самую малую малость. Скорее, для пущей важности и хвастовства перед проклятой буржуазной заграницей.
А я своими глазами видел как работают строители коммунизма. Да, не я же один. Вспомните все, кому довелось хоть и не оценить, но просто увидеть труд работника, действительно вдохновленного тем, что светлое будущее делает вместе с остальными и лично он. Что он не винтик № 564398613 в машине, как обожали обзывать рядовых рабочих диссиденты. А именно он, и на него похожие, приближают обещанный коммунизм, который советский народ построит своими руками. Сегодня, конечно, любой тридцатилетний может справедливо издеваться и смеяться над наивностью той политики и трудового населения. Но, поверьте, на девяносто процентов СССР в то время состоял из людей, живущих искренней уверенностью в завтрашнем дне и в удивительном светлом будущем – коммунизме. Как это удалось сделать коммунистам – вот абсолютно неразгаданная сегодня загадка. Но у них получилось. И с середины двадцатых до середины шестидесятых скептиков и полностью отвергающих социализм почти не было. Основной народ, большинство простых людей, не просто верили в коммунизм, а искренне изо всех сил старались работой своей помочь стране до него добраться.
Это уже позже, с начала семидесятых, когда жизнь на глазах становилась тяжелее и хуже, родилось и недоверие к призывам прежним, к соревнованию трудовому, в котором побеждали не лучшие, а выбранные парторганами. Им создавали особые условия, обеспечивали всем новым и лучшим, тащили за уши вверх и делали из них героев, как в тридцатые «сделали» Андрея Стаханова Алексеем, но ошибку исправлять незачем было. Пойдет и так. Не это же главное. И подняли его выше всех трудящихся, не только шахтёров. Он был первой «звездой». Ещё Паша Ангелина, в КазССР – Камшат Доненбаева. Много было, не стану перечислять. Из хороших трудящихся делали почти богов, они уже и не работали почти, а исполняли роли Героев на форумах, пленумах, в президиумах и за рубежом.
А вот так скоренько и неотвратимо труд начал обесцениваться, соревновательность стала проформой, нужной только для отчетов с приписками. Потому именно энтузиазм народный и превратился в ироническое отношение и к строю, и к обещанному светлому будущему. Но это было потом. И я об этом не пишу. Моя тема – пятидесятые и начало шестидесятых. Я рос тогда. Мне было едва за десять. И я передаю свои детские впечатления. Детское чувство той эпохи. Я не пишу профессиональное историческое исследование, которых по-научному сотворено навалом и без меня.
В общем, возвращаемся в моё детство.
***
Мы проехали в самый конец двора МТС. Навстречу нам шли люди со своих рабочих мест. Кто-то на ходу протирал руки и лицо большой чистой тряпочкой. Стирал следы мазута, машинного масла, копоти и солярки. Некоторые, не останавливаясь, отряхивали с комбинезонов металлические опилки или стружку от дерева. Почти все на МТС – мужики. Форма на всех имелась всего двух видов – спецовки и комбинезоны. Под ними обязательно были рубашки. У кого в потаённую мелкую смушечку, у кого – в крупную и мелкую клетку. Но рукава все без исключения закатывали чуть выше локтя и кепки носил весь мужской коллектив, причём козырьком назад.
Дядя Вася пошел в контору какую-то бумагу выписать, а мне посоветовал не парить зад на сиденье, а погулять по МТС, в цеха всякие заглянуть, машины разные посмотреть. А через двадцать минут приходить и садиться незаметно на пустой стул сзади, когда все рассядутся напротив стола. Он был покрыт торжественным красным материалом, с графином посередине и стаканом в подстаканнике, да с кипой всяких красных и золотистых треугольных лоскутов, обшитых тесьмой, которая заканчивалась как петля. За неё можно треугольник или всё время держать, или на что-нибудь повесить. На столе том, но по другую сторону графина, лежала, придавленная сверху пресс-папье, не очень высокая стопка каких-то красивых бумаг похожих на почетные грамоты, какие я видел на стенах в комнатах дядь Васиного дома. На самом краю выделялся матовым солидным отливом медный или бронзовый колокольчик. А позади него – флаги из кумача и бархата. Они были вставлены в специальные маленькие флагштоки и на одном из них я издалека прочел крупные золотистые буквы «Переходящее красное знамя»
По всему, что происходило вокруг стола и стульев, было понятно, что сейчас произойдет что-то очень нужное, важное и долгожданное. Пока я ещё не нырнул ни в какой цех и успел легко заметить на лицах многих работяг волнение, которое они пытались погасить шутками, подколами и криками типа: «А Прошкин где? Опять опаздывает! Ему же отчет по кузнечному делать. Вот пентюх!»