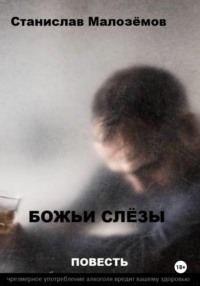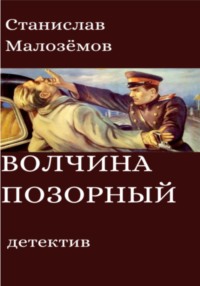полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
Все замычали одобрительно. А из них один только вопрос задал:
– Служил, Славка?
– Конечно служил,– смутился я. – Два года как дембельнулся.
– Молодец, – тихо сказал другой: – Отслужить мы обязаны. Родина – не корова. Сама не отбодается. Садись рядом, хлебни пивка.
– Он спортсмен, – вступился дядя Миша. – Это дело под запретом у них. А то чемпионом не станет.
– Стану! – сказал я нагло и все громко и весело засмеялись. Смеялись и пили. Потом пили молча. Я отошел в сторону шагов на десять, прислонился к забору и смотрел. Мужики о чем-то неслышно толковали, рыбный и пивной ароматы делали обстановку уютной и чинной. Аккордеонист с трудом нацепил ремни своего красавца «вельтмайстера» на плечи, но он все равно задевал его обрубки мехами. Но Генаха прогнулся спиной назад, закрепил инструмент на груди и стал играть красивый фокстрот «Цветущий май». Мужики выкатились из-под столов, хватали друг друга за руки и кружились на тележках по двору, задевая соседей, стучась об столы, переворачивались на бок и тут же поднимались на колёса сильными руками партнера.
Танцевали долго, потом снова пили, болтали и грызли раскрошенную рыбку.
Я смотрел на Михалыча, счастливого и милого, как невеста на выданье. Он что-то шептал тихонько. Так, что не слышал никто. И в глазах его отражались кружки с пивом и хорошие, старые друзья по счастью.
– Нашу споём?! – не то спросил, не то приказал Генаха.
– Спрашиваешь! – возмутились все и на тележках образовали несколько кругов, обнявшись за плечи. Генаха выпил, утерся рукавом и откашлялся.
– Ты, Славка, иди,– Михалыч попросил меня нагнуться и сказал шепотом.– Ребята когда эту песню Утёсова поют, то плачут всегда. Перед своими им ничего, а тебя стесняться будут. Ольге моей скажи, что я поздно приеду. Нам вон с тем Андрюшкой по пути. Он за нами, за углом живет. Год назад из Ленинграда приехал. Не может там. Ну, иди.
Я незаметно вышел за ворота, прошел немного и сел на цементную основу, рядом с утопленными в бетон прутьями забора.
Аккордеон сначала сыграл вступление и потом все стали как умели петь знаменитую песню, которую исполнял Утёсов – «У меня есть тайна».
Я долго слушал и попутно думал об этих людях. Нет. Не так. Я просто думал о людях. Обо всех, кому повезло жить. Даже если они были никчемными, пустыми и бесполезными на земле. Даже им кто-то Великий, какая-то сила, правящая всем на свете, подарила эту случайную прекрасную возможность: побыть какое-то время здесь и успеть удивиться жизни. Невозможно было жить и не удивляться, не наслаждаться этим подарком. Судьбы тех людей, кого я видел сейчас, одним махом искалечили их. И этим простили им все грехи. Вольные и невольные. Бывшие и будущие. Смыли их грехи их же кровью. И их же кровью умыли и очистили души и совесть. Наверное, так.
– У меня есть сердце,
– А у сердца песня.
– А у песни тайна.
– Хочешь – отгадай…
Плакал аккордеон. Слышались смущенные, но ничем не удерживаемые всхлипывания старых изувеченных мужчин, которые уже не боялись ни смерти, ни жизни.
Мои мысли как будто замерзли, заледенели и прекратили существование. Наверное, от того, что глаза мои вдруг заболели, подбородок стал подрагивать и я неожиданно для себя заплакал.
И сразу же быстро побежал вниз от базара, от пивной, от Михалыча, от звуков аккордеона и от людей, то ли проклятых своей судьбой, то ли, наоборот, сделавшей их самыми счастливыми.
Глава пятнадцатая
Самолет с трудом удерживал равновесие и шел на посадку. Ветер, подвывая и посвистывая, несся с запада, гоняя как растрёпанные куски ваты низкие облака. Они путались друг с другом, ныряли на огромной скорости к земле и, натыкаясь на невидимые никому препятствия, отталкивались от них. Потом так же быстро подпрыгивали к небу метров на двести, пулей улетая на восток. Самолет кренился то на левый бок, то на правый, он опускал хвост, потом нос. Он усмирял болтанку, скручивая взбесившийся воздух ноющим от борьбы с ветром пропеллером. Картина эта, обычная для кустанайской степной равнины, была всё-таки ужасна. Причем только потому, что «АН-2», и без того потрёпанный ветром, имел ещё одну неприятность. Она была куда хуже и серьёзнее мелких воздушных ям, углового сноса и уставшего хвостового руля горизонтального поворота.
Этой неприятностью были мы. Четыре двенадцатилетних придурка, которые очень хотели вырасти поскорее и стать летчиками. А потому почти каждый день по несколько часов торчали на аэродроме. Нас там знали все. И летчики, и техники, заправщики аэропланов керосином, кассиры и буфетчица. Диспетчеры, и то нас знали и временами звали к себе, в стеклянный купол над крышей аэропорта. Мы ухитрились нытьём и всякими клятвами убедить начальника аэропорта в том, что собрались поступать в лётное училище. А летать потом на кустанайских самолётах по важным делам и нужным маршрутам над родной казахстанской землёй.
В этот апрельский день после школы прибежали мы на грунтовую взлётную полосу и, согнувшись под ветром, глазели на два огромных полосатых черно-белых мешка без дна. Они указывали направление ветра, распухая от скорости воздуха либо еле-еле, либо как сегодня – торчали вроде твердых толстых шлагбаумов строго параллельно земле. Смотреть и восхищаться ими в профиль удобнее всего было только с полосы. Зрелище было завораживающее. Мешки вели себя как живые. Они вихлялись, опускались концами вниз, потом подпрыгивали и надувались почти как воздушные шары. Ветер так резвился в тот день, так громко пролетал рядом с ушами, что голоса мотора «кукурузника», который с короткого и крутого виража внезапно пошел на посадку, мы не услышали. Громче него оказался крик техника Сергея со стоянки. Он бежал к нам против ветра с большим уклоном к земле, он прямо-таки лежал на летящем воздухе грудью, но всё равно приближался и орал громче ветра и мотора:
– Бегом с полосы, идиоты! На траву бегом! Убьет! Ах вы, козлы малолетние!
В это время мы уже остолбенели и глядели на самолет как на гипнотизёра, усыплявшего сознание. Двинуться с места мешало величие огромной машины с четырьмя крыльями, которая в воздухе, но уже почти на земле, смотрелась грандиозно. Это был уже не маленький «кукурузник», а огромный лайнер. Он не просто подавлял величием. Он заколдовал нас, превратил в окаменевшие статуи, у которых были открыты рты и протянуты вперед, к самолету, руки.
– Ах вы ж, мать вашу так и распратак!!! Нагнулись и побежали! Ниже, ещё ниже нагнулись! – техник Сергей как-то смог растопыренными руками прихватить нас всех и уронил на полосу. Сам тоже упал на колени. – На четвереньках, на руках и ногах – побежали! Не успеем, мля!
Только-только упали мы носами в траву, как сзади на землю громко опустилось несколько тонн дюралюминия, стекла, резины и амортизаторов из нержавейки. Пыль от колес метнулась против ветра и нас достала. Поднялись мы желтые со спины и зеленые спереди от сочной апрельской травы.
– Дураки, мля! – подвел итог событию техник Сергей. – Скажу начальнику, чтобы гнал вас к едреней матери. Хорони вас потом с оркестром за счет аэрофлота. Разорите, мля, аэрофлот. Хороший духовой оркестр рублей триста берет. А скажешь им, каких идиотов хороним, так все пятьсот и запросят. И всё. Аэропорт закрываем. На что керосин покупать?
И он вразвалку, качаемый ветром, пошел обратно, отряхивая с колен пыль и пытаясь стереть зелень пырея.
«АН -2» подрулил к стоянке, техники кинули под колёса красные подставки к шинам, чтобы они удерживали машину от случайного самоходного движения. Подъехал заправщик, появились ещё три техника и начали обходить аэроплан со всех сторон. Один из них пошел в салон. Все они делали свои дела, хотя, казалось, что просто прогуливаются, изредка дотрагиваясь до чего-нибудь.
– Дядь Коль! – я подошел к командиру. – Вот Вы какой крен выправили! Градусов двадцать, да? И сели как на перину. Здорово. Ветрище-то вон какой! Деревья, небось, ломает. Сверху не видели?
– Это хорошо, что мы вас, дураков, на полосе вообще заметили. – Командир улыбался, поднимая и опуская левый элерон. Проверял. – Ты, Славка, главный в вашей гоп-компании. Вот ты за нарушение регламента и будешь отвечать. Мы с Петром, когда вас увидели почти под винтом, то Петя сказал, что ты это специально придумал – торчать на полосе, чтобы посадить нас с Петром и штурманом-радистом в тюрягу лет на пятнадцать. А? Хотел?
– За что, командир? – удивился Жук. – Мы сами чуть не погибли там все.
– Это суд не учтет, – дядя Коля засмеялся в голос и пошел двигать элерон на правом крыле. – Вы диверсанты. Чтобы вывести из строя рабочую единицу гражданской авиации и навредить государству вы пошли на смерть. Диверсанты часто в войну так делали. И получилось бы, что мы и вас убили, и машину кокнули. А она миллионы стоит. Государству, стало быть, экономический урон. Нас, значит, в тюрьму, а вас в братскую могилу.
– Чего это в братскую? – тихо возмутился Жердь.
– У нас родители есть. Похоронили бы всех отдельно. С памятниками,– влез в обсуждение Нос.
– Ага!– второй пилот дядя Петя аж зашелся в хохоте. – А на памятниках надписи: «Он вел подрывную деятельность против советской гражданской авиации. Угробил тридцать самолетов на сумму пятьсот миллионов рублей».
А мы бы на нарах померли от туберкулеза.
Смеялись долго все. И летчики, и техники, ну и нас прихватило. Тоже скромно похихикали.
– А Вы в войну на чём летали? – я тронул командира за рукав.
– С сорок второго по сорок четвертый на «ПО-2». Поликарпова машина. Похожа на вот эту, на нашу. Я разведчиком летал и ночным бомбардировщиком. Тихая машина. Тише нашей. За пятьсот метров не слышно. Летали низко. Почти возле земли. А ночью чуть повыше. И бомбы руками кидали двое. Они в заднем гнезде сидели. Передние фронтовые укрепления разрушали в основном. Я мальчишкой был тогда. Двадцать три года… Подстрелили нас в декабре сорок четвертого на обратной дороге. Ничего, не упали, доковыляли на бреющем на свою территорию.
– А я не летал. Пятнадцать лет только набежало мне в войну. – Петр вздохнул.
– Ладно лясы точить. Пошли обедать.– Командир постучал по фюзеляжу и твердым военным шагом пошел к аэропортовской столовой.
– А можно мы в самолете посидим? – жалобно крикнул я ему вдогонку.
– Оторвете чего-нибудь, то ремонт за счет твоих, Славка, родителей, – весело ответил дядя Коля, не оборачиваясь.
– У нас у всех родители хорошо зарабатывают, – похвастался Нос. -Отремонтируем.
Опять-таки, не оборачиваясь, командир погрозил нам кулаком. Что означало окончательное разрешение посидеть в кабине красавца «кукурузника».
Мы как в музей – на цыпочках и почти не дыша втиснулись вчетвером в кабину. Это было сказочное пространство. Кнопки, стрелки, круглые и квадратные оконца, за стёклами которых были изображены загадочные знаки, фигуры и пересечённые линии. От потолка до самых педалей всё было утыкано переключателями, колёсиками, тумблерами. На сиденьях лежали большие наушники, к которым спереди на заводе приделали маленькие микрофоны. Жук и я убрали наушники на спинки сидений и аккуратно уселись в кресла. И замерли. Это был высший момент наслаждения. Мы держались за штурвалы и, не сговариваясь, стали рычать. Изображали, как могли, работу мотора. Сидели так минут пятнадцать. Потом вместо нас уселись Жердь и Нос. И тоже зарычали. Ну, а мы с Жуком пошли в салон и стали разглядывать землю в иллюминаторы, представляя, что трава – это далекий дремучий лес из могучих деревьев, над которым мы высоко летели по очень значительным делам.
Техники сделали свою работу и ушли. Заправщик тоже уехал и мы остались одни. Раза по три ещё поменялись местами в кабине и в салоне. Хорошо было. Уютно и приятно. От самого факта хотя бы такого, воображаемого, причастия к лётному делу.
Через два часа вернулись летчики, постучали по колёсам, покрутили рули высоты и поворота, проверили какие-то красные крышки, ввинченные в крылья и из самолёта нас выгнали.
– Нам лететь надо в Тарановку, – сказал Пётр. – Сейчас машина подойдёт. Загрузят запчасти для тракторов. И повезём. Стоят трактора-то.
Мы попрощались со всеми и пошли домой. Чтобы послезавтра снова вернуться.
Сядем как всегда за полосой на траву. Разложим на газете хлеб, лук, соль, яйца вкрутую и бутылку с водой. А картошку из мешочка вытряхнем, разожжем костер из мелких веток и прошлогодней сухой травы. А потом будем её печь в куче горячей золы. И смотреть как взлетают и садятся «АН-2», «ЛИ-2», «ЯК-10» и огромные современные «ИЛ-14». У нас даже вертолет один был. «МИ-1». Санитарный. Когда он взлетал или садился, мы подползали поближе с разинутыми ртами. Самолеты были нашей любовью, а вертолет – чудом, к которому вместо любви чувствовался самый священный трепет всех лучших наших чувств.
Я не помню когда меня настигла потрясающая эта мысль – быть только авиатором. Читал я, конечно, про всех отважных летчиков, которым просто необходимо было подражать и завидовать. Это и Маресьев, Талалихин, Нестеров, первым крутнувший «мертвую петлю», это и Водопьянов, Уточкин, один из самых первых российских лётчиков. Ну и, ясное дело, асы войны – Кожедуб и Покрышкин. А ещё великий испытатель Коккинаки. И других имен знал много, но эти просто заколдовали меня своими подвигами. Я прочел много книжек про авиацию, которых в наших библиотеках имелось в достатке.
Выучил все типы и виды самолетов, от военных до гражданских. Об иностранной авиации в этих книжках почти ничего не писали и мне думалось тогда, что куда там им, англичанам всяким да французам, до советских конструкторов и их великих самолётов. Смущало немного, что первыми в воздух поднялись американцы братья Райт. Да нет же! Немного не точно. Строили самолеты и до них, даже взлететь пробовали, но те аэропланы не летали. А братья Райт первыми сделали полет управляемым и долгим. Отсюда и попёрла вперёд и вверх авиация. А меня она начала звать к себе ещё когда мне только восемь лет пробило.
Я покупал в «Детском мире» конструкторы «Юный пилот» , которые состояли из разнообразных фанерных деталей, чертежа и специального клея. Это были штурмовики «ИЛ-2» и знаменитый «зверь» «ИЛ-10», гражданские «ИЛ-14» и «ЯК-12». Я их собирал, мучаясь над чертежами подолгу, но у меня всё равно получалось. Самолёты висели на веревочках, прилепленных к потолку пластилином. Никто в доме страсть мою не трогал, не отвергал и не разубеждал. Потом я налепил штук сорок разных самолётов из пластилина. Меня радовало то, что половина из них была моей личной конструкции. Аэропланы, рожденные моим воображением, смотрелись настолько оригинально, что отец, обычно молча разглядывающий модели известных самолётов, за ужином спросил, показав пальцем на мои изобретения:
– Сам придумал?
– Ну, да! – небрежно, но гордо промычал я, дожевывая котлету.
– Эти не полетят. – отец поднялся и пошел в сени наливать в стакан чай.
– Чего это они вдруг не полетят?– заступилась мама. – Славик всё сделал по законам аэродинамики. Да, сын?
– По самым законным законам!– я тоже взял стакан и побежал за чаем. -Я же не просто лепил. Сперва всё рассчитывал, потом уже делал.
– А, ну если сперва рассчитывал, то они у тебя и нырять в море смогут. – Отец тремя глотками выхлебал чай, хмыкнул и спустился во двор.
Я не обиделся. Чего зря нервничать? Впереди большие дела. Учеба в летной школе, потом в Академии. А дальше – небо, высота, полёт, счастье!
Незаметно подкрался июнь. Я заканчивал шестой класс и до конца школьных «радостей» оставалось каких-то пять лет. Я тогда просто не предвидел, что в 1966 году одиннадцатый класс отменят. И после десятого аттестат зрелости мне тожественно сунут в руки и взрослую жизнь к нему в подарок.
Но в страшном, самом кошмарном сне не могло присниться мне, что любовь и страсть к авиации, единственная мечта – стать летчиком сотрутся уже в десятом классе как какая-нибудь заковыристая формула, написанная мелом на школьной доске. Одним махом влажной тряпки. Но всё это будет потом. И пройдет расставание с мечтой о небе безболезненно и легко. Как будто мечты той и не было.
А пока она жила! Она давала мне радость читать всё, что можно было найти об авиации, о летчиках и о будущем воздухоплавания. Она дарила мне и моим дружкам, тоже, в мечтах, летчикам свидания с аэродромом, которые случались если не ежедневно после уроков, то уж через день точно. Аэродром расположился сразу за железнодорожным вокзалом. Пройдешь пять рядов рельс, и ты уже возле аэропорта, куда пассажиры добирались по мосту через железную дорогу. Мы по мосту не ходили. Потому, что пассажирами себя не видели даже в далёком будущем. Только летчиками. А лётчикам на работу можно ходить, как захочется. Хоть через рельсы, хоть через кладбище слева от взлетной полосы.
Мы вчетвером шли на свое насиженное место со свертками, скрывавшими от посторонних луковицы, хлеб, бутылки с водой соль и картошку. Иногда мы складывали всё это в кучу на траве и делали обход вдоль стоянки, разглядывая в сотый раз знаменитые «кукурузники», которых было в Кустанае семнадцать штук, большие, опущенные на маленькое заднее колесо серебристые «ЛИ-2» конструктора Лисунова, который переделал его по лицензии из знаменитого американского «Дугласа ДС-3». Их в порту было шесть всего. Потом мы проходили мимо огромных высоких красавцев «ИЛ-14».Три самолета всего досталось Кустаную. И летали они куда-то далеко, Даже в Москву и Алма-Ату. После обхода мы ложились на траву и следили за всем, что происходило в порту, за взлетом и посадкой машин, ходили здороваться со всеми летчиками, техниками, диспетчерами и даже с буфетчицей. Она, кстати, часто наливала нам бесплатно по стакану лимонада и всегда спрашивала, хорошо ли мы учимся в школе.
А я уже и тренировки легкоатлетические стал пропускать, драки совсем забросил район на район и на лучшие кинофильмы, которые крутили в нашем клубе не успевал. Мы допоздна торчали возле самолётов. Авиация смогла выдавить собой из наших жизней почти всё остальное, казавшееся попутным, второстепенным и незначительным для будущих наших судеб.
Начались каникулы, но я даже во Владимировку поехал только через пару недель. Взял у тренера двухмесячный план индивидуальной работы, сдал все книжки библиотечные, набрал новых на всё лето и продолжал мотаться с друзьями на аэродром. А тут как раз началось строительство новой взлётно-посадочной и рулёжной полосы из бетона для новых, очень больших самолетов-турбовинтового «ИЛ-18 Б» и реактивного «ТУ- 104». Бетонные полосы делали подлиннее, чем километр. И мы бродили среди всех этих многочисленных бетономешалок, людей с огромными лопатами, машин, привозивших мешки цемента, песок и гравий. Было очень интересно. Никто нас не гнал, не ругал, никому мы не мешали и не отрывали от ответственной работы. И мы ходили внутри влажного, слегка дерущего горло воздуха, довольные тем, что никто из наших кустанайских пацанов, да и большинство взрослых никогда не видели такой масштабной бетонной работы. Этот материал в 1961 году был всё же редкостью в нашем зелёном и уютном, но не особенно цивилизованном городе.
Надышавшись цементной пылью и сырым душным бетоном, сели мы на свою маленькую полянку, съели лук с хлебом, запили водой и пошли к стоянке, где столпилось человек пятнадцать в синих форменных костюмах и высоких того же цвета фуражках с блестящими на солнце кокардами. Они ходили вокруг бывшего «Дугласа», размахивали руками и разговаривали наперебой, поэтому издали было не понятно ничего из их явно серьёзного обсуждения. Зашли мы сбоку, сели под фюзеляж и только тогда до нас дошло, что спорят начальники и лётчики о том, как надо провести испытание самолета, на котором поменяли сразу много деталей. Я посидел, прицелился, навел глаз точно на командира корабля Григория Ивановича, поймал дырку в его перепалке с начальством и как привидение выпорхнул из-под живота аэроплана прямо к нему под нос.
– Драсти! – протянул я руку командиру.
– Драсти! – передразнил меня дядя Гриша. – Отвали, Славка, на полштанины. Вот разгребём сейчас с руководством кучу дерьма. Тогда они победят нас и, счастливые, по кабинетам рассосутся. А мы полетим испытывать – порвутся тросики на рулях или нет. Мы их просили тросики сечением 2,3 достать, а они припёрли 1,7. Говорят – это новая сталь, особенная. Немецкая трофейная технология. Втрое прочнее старых наших. Мы им говорим: полетели вместе. Вмести и гробанемся, если что. Никто не в обиде. Кроме жен с детьми. А они говорят, что у них в кабинетах поважнее дела, чем дурью маяться сорок минут кругами над городом. Что, мол, за сорок минут они там кучу наших же проблем порешают в нашу пользу. Тьфу.
– Григорий! – басом сказал начальник с тремя золотистыми треугольными нашивками на рукавах. – Давай, лети, Гриша. Мозги мне –..-..-!
– Слушаюсь! Чего я тебе, Витя, ещё могу сказать! Ты начальник – я дурак. Или покойник. Но учти: машина стоит двадцать три миллиончика. Сам отдашь Хрущёву если вдруг не дай Бог.
– Мля!– сказал с отвращением начальник и пошел в кабинет – А ещё летчик- истребитель. Два ордена у него. Тебе вон куда надо. Бетон месить.
Последние слова он брезгливо произнес, исчезая за углом. Разошлись и остальные. Кроме экипажа. Мужики разом закурили и пошли по новой крутить рули.
– Смазали вроде хорошо.– похлопал ладонью второй пилот по элерону. Петли, шарниры. Тросики смазаны. В принципе – потянут, не гробанемся.
– Пацаны!– вдруг ожил штурман и уперся в нас весёлым взглядом.– А давайте с нами прокатнёмся все вместе. Нам с вами не страшно будет. В вас много жизни будущей залито. Так и прёт из вас близкое и далёкое будущее. С вами мы точно не грохнемся. Будете у нас талисманом. Семь кругов над городом.
Мы остолбенели и ответить ничего не смогли. Я, Жук, Нос и Жердь никогда в жизни не летали на самолете.
***
Самое высокое место, с которого мы видели под собой землю – это опора электролинии ЛЭП-500, стоящая в степи по дороге к военному городку. Мы в городок ходили, ездили на велосипедах и на лыжах зимой довольно часто. Однажды по пути повернули к этой опоре. Был теплый май. Посидели под ней, разглядывая гирлянды изоляторов и провисающие до следующей опоры провода.
– Слабо залезть наверх?– спросил Жердь ехидно, ни к кому не обращаясь. Просто так сказал. Свежему воздуху.
Ну, мы, конечно, оскорбились и все по очереди сказали ему, что он полный придурок и провокатор. Чего тут лезть-то? Шурик, батин брат младший, электрик в то время, вот он мне говорил мимоходом, что высота опоры всего сорок девять метров. Это разве высота? Вон по ней электрики лазят как гиббоны, да ещё как-то по проводам ухитряются бегать. Когда ток отключен, естественно.
– И вообще, – не один раз за жизнь напоминал мне Шурик – Электричество – это главное и единственное, во что можно и нужно без сомнений верить. В нём вся сила и вселенская энергия.
– А полезли! – я первым подпрыгнул, подтянулся на нижней перемычке и сел на неё верхом. А дальше надо было просто руку протянуть и перебраться на узкую лестницу. Конечно, если это взрослый электрик. Пацану пришлось до лестницы прыгать. Я уже шел по ней до крохотной первой площадки и только тогда внизу сразу трое моих друзей запыхтели, засопели и, нечленораздельно выражаясь, вроде как погнались за мной. Минут через двадцать почти альпинистского восхождения мы вчетвером с храбрыми лицами стояли на решетке последней площадки и боязливо глядели в пустоту под ногами, намертво вцепившись в трубу ограждения. Земля лежала страшно далеко. В карьерах, где добывали железную руду, мы тоже смотрели в глубокий, под сто метров провал. Но стояли-то наверху, на твёрдой почве и вниз смотрели с уважением к глубине, но без страха. А на ЛЭП-500 почвы под ногами не было и мы впервые неожиданно испугались высоты и прониклись к ней уважением. Сверху всё смотрелось грандиозно. Всего было много. Больше, чем на земле. Воздуха, света, солнца, ветра, пространства. И только отсюда, вглядываясь в гнутый горизонт, дураку было ясно, что Земля круглая. Чему в древности верили не все. Одного даже сожгли за такую неожиданную правду.
Раньше я лазил на разной высоты деревья. И даже прыгал в листья с высоких веток. Волю тренировал. Это сейчас я так думаю.
Но с деревьев ни черта видно не было. Только такие же деревья. С гнёздами и без них.
Спускались мы с вышки электрической раза в три дольше, чем взлетали наверх. А в жизни обычной скатиться можно очень быстро, а вверх – наоборот лезть тяжко. Это понимаешь далеко после детства. К сожалению.