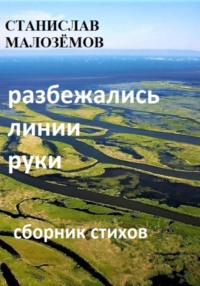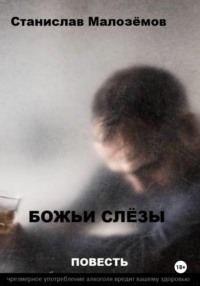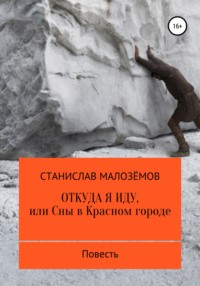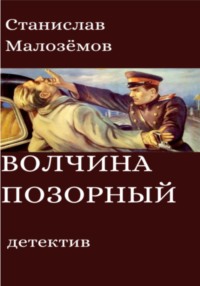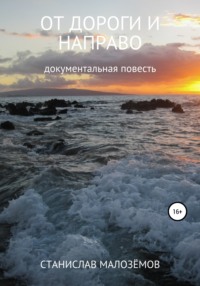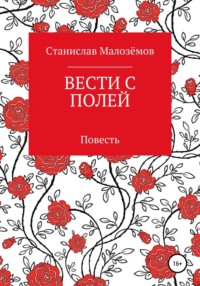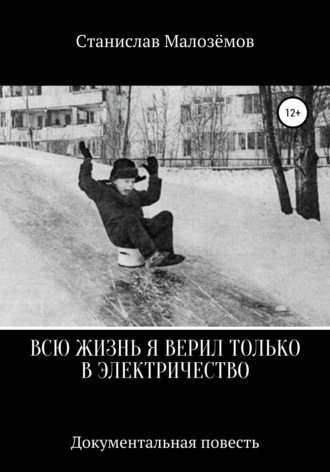 полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
– Ты держись! – я отпустил руку и побежал. В этот момент небо снова застонало, загудело и взвыло. Взрывы слева, справа и сзади заставили меня пригнуться, но не снижать скорости. Рядом со мной так же быстро, дыша надсадно и перепугано, бежали ещё человек пять-шесть.
Но тут кто-то огромный, имеющий силу нечеловеческую, толкнул меня сзади так сильно, что я пролетел над землёй метров пять, грохнулся грудью и лицом в месиво из травы и исковерканной почвы. И потерял, похоже, сознание.
Потому, что когда снова стал понимать, что я есть и лежу навзничь, боковым зрением увидел, что воздух очистился и в нем, чистом, далеко-далеко висело небо, а перед глазами моими в нечеловеческих позах валялись мертвые и загребая пальцами землю с травой пытались сдвинуть себя вперед раненные. Некоторые даже пробовали встать. Я решил лечь на спину и осмотреться. Но перевернуться не получалось. Что-то слишком тяжелое придавило ноги и лечь на спину не давало. Тогда я пополз вперед на локтях. Винтовку бросил. С ней двигаться не получалось. Боли не было, страх прошел, мины уже не летали, и метров за сто перед собой я видел майора, одного лейтенанта и несколько наших мужиков, уже добежавших по команде.
Сколько бы ещё я тащил своё онемевшее и тяжелое тело, а, главное, дотащил бы – не знаю. Когда стало тихо и мирно, будто никакого обстрела и не было, от села побежали в нашу сторону с десяток санитарок и все мужики, стоявшие рядом с майором. Первой до меня добралась по изрытой почве молодая девчонка в стёганой военной телогрейке, из-под которой почти до земли доставал белый халат. За плечами у неё болталась большая холщовая сумка с красным крестом и полумесяцем. Она долго разглядывала меня сверху донизу, потом достала резиновый жгут, стянула вместе обе ноги и перевернула меня на спину. Я видел, что она достаёт из сумки толстые мотки бинтов, вату, пузырек с йодом и ножницы. Больше ничего видно не было, а когда санитарка нагнулась к ногам, то исчезла с глаз окончательно. Её не было видно довольно долго. Потом она встала и спросила:
– Зовут как, герой?
– Михаилом кличут, а что?
– Ничего особенного. Меня Валей зовут. Я хотела сказать, что тебе повезло, Миша. Жить будешь дальше. Это же хорошо?
– Ясно, что хорошо, – ответил я и всё вокруг поплыло, потемнело и исчезло.
Очнулся в санитарном автобусе, которого раньше в нашем расположении не было. Со мной возился какой-то пожилой доктор в очках и белом колпаке. В руках у него была окровавленная пила странного вида, на носилках рядом с доктором лежали зубило, молоток, какие-то пузырьки.
-Ну?– спросил доктор.– Дышится как? Ноги не болят?
– Пальцы ломит. И пятки горят, – я приподнял голову. Но доктор осторожно надавил мне на лоб и опустил на надувную подушку.
– Михаил Михайлович Цуканов, рядовой. Год рождения 1908. Комиссуетесь из рядов Красной Армии в связи с утратой обеих ног в ходе неравного боя. Будете представлены к правительственной награде. Я, полковник медицинской службы Орешников, ходатайствую за вас перед командованием. Через два дня Вас отвезут в Челябинск. В госпиталь. Для прохождения лечения и реабилитации.
Я пролежал в деревенской хате ещё три дня. И только слышал, но увидеть не сбылось. Не вынесли меня в тот раз на улицу. Четвертого августа начался страшный и убийственный штурм наших регулярных войск. Освобождали Орел. Били врага со всех флангов, ну, и с нашего тоже. Сначала отработала артиллерия, которую перебросили на позицию из укрытия за ночь. Потом, за ними пронеслись над крышами штурмовики. Дальше с обеих сторон деревни с радостным для всех нас, выживших пятидесяти семи солдат, с бесстрашным грохотом пронеслись танки, за ними мотоциклы с гранатометчиками и грузовики, тянувшие легкие пушки, потом пошли грузовики с пехотой в кузовах, после них снова самолеты. Бомбардировщики, похоже. И всё это исчезло в пространстве, ведущем к городу Орел, за который немцы держались зубами.
Мы свою работу сделали. Отвлекли на себя заградительные силы, заставили их израсходовать почти весь боеприпас, пробили дорогу регулярным обученным частям и создали для себя несколько братских могил.
Утром шестого августа к нам прислали шесть больших грузовиков. В каждом кузове сидело по восемь солдат. Колонной командовал капитан в фуражке, надетой набекрень, скошенной к левому уху. Меня прямо на носилках вынесли на улицу и поставили рядом со строем ребят, оставшихся жить.
Капитан доложил майору нашему, что пятого августа город Орел силами частей с трёх фронтов был полностью освобожден от фашистских захватчиков. Мы троекратно прокричали «ура» и «Слава товарищу Сталину!»
После чего машины со спецбригадами поехали в поле собирать трупы и тяжелораненых. Трупов набралось пять кузовов доверху. Их накрыли брезентом и куда-то увезли. Раненых осталось четырнадцать. Двоим, как и мне оторвало ноги и ими занялся доктор Орешников, трое остались без какой-нибудь руки и встали в очередь к нему же, перетянутые жгутом на конце обрубка. А тот, кого ранили в плечо, успел заткнуть осколочную рану травой, которая оказалась целебной. Ему помыли рану, впрыснули в неё спирт. Солдат ревел как голодный бык, но вытерпел. И медсестра сказала, что через месяц рука будет как новенькая.
В общем, повоевал я. В Челябинск доехал в кабине грузовика вместе с медсестрой. Она сидела на кончике сиденья, а я с перевязанными бинтом культями лежал поперёк, головой к двери. В госпитале она сдала меня и документы мои какому-то лейтенанту и меня унесли в палату. Там лежали семь раненых. Безногих и безруких калек. Ребята лечились уже три недели, к отсутствию конечностей привыкли и вели себя весело. Травили анекдоты, цеплялись с заигрываниями к медсёстрам, хорошо ели и втихаря пили водочку. Её те же медсёстры и приносили незаметно для начальства из жалости, причем за свои деньги. Водка не стоила почти ничего.
Я отлежал месяц. Потом мне принесли обрезанные шины от лёгкого грузовика. В шины были вставлены ремни с застежками. Ремни застёгивались крест накрест за спиной на пояснице. Я три дня поползал в них по палате, приноровился. После чего лейтенант принес мне документы мои, бумаги о лечении, справку о боевом ранении высшей степени и справку о выписке. Мне дали военную форму без знаков отличия и без погон, под него нательное бельё и выписали. Я сам выполз из госпиталя, спросил на дороге, где вокзал, как до него добраться и долго полз к остановке трамвая. В него меня аккуратно занесли трое молодых парней, они же и вынесли на вокзале.
– А куда едешь, отец?– спросил один.
– Не знаю… – откликнулся я растерянно.– Сам из Вологды. Но туда не поеду. Напишу родителям, что остался на сверхсрочную здесь. Отсюда, с вокзала и письмо пошлю. Возьмут у солдата треугольник без марки? Денег нет у меня.
– В Челябе не оставайся, товарищ солдат.– Один из парней присел на корточки напротив.– Тут инвалидов очень много. И все ищут место под солнцем потеплее да поярче. Новеньким тяжко приходится. Перекрывают кислород те, кто давно тут. Ни к церквям не прибьешься, ни милостыню просить на перекрестках. Езжай в городок поменьше. Там, на вокзале, карта на стене большая. Выбери сам местечко потише. В маленьком и работу найти можно, а в Челябе не возьмут. Тут здоровых беглецов набралось с Украины, Белоруссии и из России. Девать некуда.
Они пожали мне руку и ушли. А я за первый день ходьбы по вокзалу и тротуарам руки в кровь снёс. Костяшки пальцев на кулаках и даже ладони. Сел на перроне и поезда выбирал. Понравилось мне название одного города – Копейск. Решил, что при таком названии без копейки там не останусь. Показал все бумаги проводникам, они меня подняли в вагон, чаю дали и два куска сахара. В Копейске вынесли меня на перрон, пятнадцать рублей дали на еду и первое время. Я поползал по городу и он мне не понравился. Куцый, неряшливый, население – одни шахтёры. Уголь добывали. Весь Копейск – помешан был на угледобыче. А мне, калеке, какое щахтерство? Да и народ, я за день насмотрелся, пьяный, хамоватый, заносчивый. Да и калек безногих не встретил ни одного. На трамвайной остановке подполз к женщине одной, доброй на вид. Разговорились. Она мне и посоветовала поехать в Кустанай. Рядом совсем. Людей ссыльных много. Всяких много. Но городок зелёный, культурный, доброжелательный. И к инвалидам там по-людски относятся. Особенно к военным. У неё там двоюродная сестра живет.
Автобусом я добрался до Кустаная. Шофер от денег отказался и посоветовал прямо на автостанции посидеть и покричать: – Кто инвалиду войны угол сдаст?
Подошла ко мне тётка лет пятидесяти спросила: – Когда напьешься – буянишь? Дрова колоть будешь? Куриц моих кормить-поить не откажешься?
– Обижаешь! – я отвернулся. – У меня ног нет. А руки целые. Голова не контуженная. Делать всё умею. И не пью до слюней изо рта. Немного пью. Для спокойствия души после войны своей. Вишь, как она для меня закончилась?!
Прожил я год у этой тётки. Подружились. Я ей по дому здорово помог. А по субботам ползал на базар. Недалеко от дома. Там, на окраине большого базара была отдельная пивнушка. Именно для инвалидов. Столики были низкие, окошко для выдачи пива – метр от земли. Кружки брать калекам удобно. Съезжались туда безногие на тележках самодельных. У одних вместо колес – подшипники, у других большие, от детских колясок колёсики. А на руках у каждого – притянутые резинкой толстые вырезки их мотоциклетных шин. И руки у всех без мозолей, ран и ссадин. Познакомились со всеми быстро. Там все свои. Одни и те же. Ещё с сорок первого года калеки да новые, образца сорок третьего. На вторую же субботу один из них, Валера – матрос, он в тельнике и при бескозырке всегда был, привез мне свою старую тележку на подшипниках. И шины на руки почти не стёртые. Валере оторвало ноги выше колена, как и мне, когда на Балтийском море под Кронштадтом в сорок первом их послали на трёх шлюпках разминировать проход от Таллинна. Ну, там их, почти всех, море и приняло, похоронило в холодных глубинах. Несколько матросов, и Валера среди них, зацепились за обломок шлюпки и почти замёрзли к тому моменту, когда подошел катер и тросом дотащил их до берега. Ноги у Валеры были раздроблены миной в клочья. Но холодная вода сосуды сдавила и крови он потерял не до смерти. В Кронштадте ноги ему отпилили, подлечили месяц и отпустили. Сам он был призван из Кустаная. Сюда и вернулся.
Пивнушка базарная инвалидская была таким клубом, что ли, местом встречи друзей по несчастью, которых объединяла и телесная боль, и душевная, у которых были примерно одни заботы и способы выжить.
Я много ездил на тележке по базару. Пробовал все, что попадалось с прилавков и из мешков, да с тележек. Все торговцы были дружелюбными, улыбчивыми и всегда давали что-нибудь с собой в газете или тряпице. Хотя я сам ничего не просил. И вот однажды в субботу я остановился возле красивой молодой женщины. Она продавала солёные огурцы и квашеную капусту. Просидел я возле неё весь день, и следующий день тоже. В общем, месяц постоянно возле неё сидел с разговорами про всё, шутками и сомнениями про светлое будущее, которое нам давно и честно обещали. Звали молодую красавицу Ольгой. Вот к ней я переехал. И теперь уже тридцать один год она – моя жена, тридцать лет нашему Толику. И здесь мой дом до смерти. И жизнь до конца.
Сейчас – семьдесят четвертый год идет, мне шестьдесят шесть. А жить я буду минимум до девяноста. Заработал. Он засмеялся и похлопал себя по обрубкам. – Жизнь хороша не тогда, когда у тебя ноги здоровые, а когда душа не болит. Вот с Ольгой жить хорошо душе моей. Тепло, уютно и ничего ей не страшно.
Дядя Миша допил вторую бутылку марочного и глубоко вздохнул. Ему было хорошо. И мне тоже было радостно.
Сидели мы во дворе перед палисадником и дышали свежестью трав из его глубин. Михалыч давно огородил его высоким штакетником, за которым росли цветы, редиска, лук, редька и огурцы с помидорами. Моя бабушка и тётя Оля за всем этим радостно ухаживали. А ближе к забору баба Стюра и я посадили берёзку в 1955 году. Она доверяла мне её поливать. Делал я это добросовестно и она с каждым годом становилась всё раскидистей и выше.
– Михалыч, а сходим вместе в клуб ваш, в пивнушку? Как тогда, в пятьдесят девятом. Помнишь, я возил тебя на тележке, а ты орал, чтобы я не нёсся как истребитель, а то колёса отлетят? Есть она, пивнушка та, сейчас? – я подумал, что зря спросил. Поумирали, наверное, почти все калеки.
– Да хоть в эту субботу!– Михалыч обрадовался. – Покажу тебе наших героев. Они герои, Славка! Потому, что вытерпели и несправедливость и глупость командирскую, и бесчеловечное отношение к массе простых людей. Большие командиры нас считали мусором и все смерти равнодушно списывали в архив как травлёных тараканов в помойку. Всё! Идём в субботу! С такими мужиками познакомлю тебя, что век помнить будешь. Девяносто девять процентов – живые ещё.
И я стал трепетно ждать субботы. Мы ещё в шестьдесят пятом переехали в другой район города. Маме на работе дали трехкомнатную квартиру в новостройке. Там я завел дружбу с бандитами и надолго влип в приблатненную и корявую жизнь с хазами и малинами, да с гнусными делишками. Из житухи той неправедной я с трудом вырвался благодаря спорту, частым сборам и соревнованиям, армейской службе, ну и журналистским командировкам. И по какому-то «щучьему велению» не попал на кичу или на зону.
Но отдохнуть душой я всегда приезжал в этот свой старый дом, на любимую Ташкентскую улицу (сейчас это улица «5 апреля»), где все было устроено так, будто Бог тоже обожал это светлое место и замершее, уютное, доброе время.
А в субботу договоренную, в теплый и яркий день августа 1974 года, я пошел к Михалычу через центральный гастроном. Хорошие вина были только там. Купил две бутылки марочного ароматизированного « Букет Молдавии». Это вино ему нравилось. Времени у меня было много и шел я медленно. Шел мимо новостроек, тронувших центр города раньше, чем окраины. Брежневские семидесятые, особенно их первые годы, были посвящены кем-то, возможно, лично Леонидом Ильичом, разукрашиванию всего вокруг. Он, похоже, был закомплексован на обновлении внешнего вида жизни, усреднённой и обесцвеченной хрущёвской командой. Поэтому творческая часть населения откуда-то слизывала западные манеры всего подряд, а потом быстренько и неловко, кособоко, по-нашенски, вставляла в привычную окружающую действительность.
В Кустанае для начала раздербанили старый парк, любовь народную. Он был тихий, тенистый, с уютными старинными скамейками, добротными литыми урнами с узорами, с грунтовыми дорожками и озерком в центре. В нём плавали лебеди. Рядом сто лет стояла танцплощадка, на которой охмуряли девиц ещё прадеды наши. Её убрали первой. Все дорожки заасфальтировали, вырубили половину деревьев и рядом с озером разместили асфальтовую площадь со ступеньками, которые выводили народ прямо к Обкому партии. Что хорошо – осталась традиция. Раньше в парке всегда играл духовой оркестр на маленькой полянке, где народ ухитрялся ещё и кружиться парами в вальсах. В семьдесят четвертом и в 2019 оркестр всё так же и играл. Теперь уже на большой асфальтированной площади рядом с лебединым озером.
И лебедей оставили, заключив их в массивную бетонную ванну со смешным фонтаном и мраморной окантовкой по периметру. Красивый кованый забор вокруг парка выдернули и стала территория похожей именно на территорию. Она просматривалась насквозь с любой точки. С детьми маленькими там было гулять хорошо, дети были как на ладони. А вот уединяться и признаваться в любви на новых «под Европу» сколоченных, но неудобных скамейках, расставленных на самых видных местах, не хотелось уже. Появились в неожиданных уголках улиц всякие мелкие и крупные скульптуры в стиле «модерн», вокруг повсюду сносили старые здания и уродовали город архитектурным минимализмом. Это, видимо, обозначало стремление успеть за передовыми советскими мегаполисами и проклятым Западом.
А мне вспоминались заповедные места в нашем парке, где были потаённые местечки для разных людей и занятий. Не буду вспоминать всё. Много очень деталей. Но вот то, что в парке в 1958 году безногий мой дядя Миша играл с такими же калеками в настольный теннис, пропустить не могу. Кто сделал для них специально низкие теннисные столы, точно не знаю. Кто обрезал ножки у дорогого бильярдного стола ровно под мужчин с короткими культями вместо ног – неизвестно. Но это были не просто хорошие люди. Это были люди с чувствительными к чужой беде душами. Вряд ли они исполняли приказ органов коммунистической власти. Скорее, сами жили они во власти добра и уважения к людям, несправедливо обиженным судьбой. Кстати, в пятьдесят девятом мы часто всем двором нашим ходили в клуб смотреть кино. Кого-нибудь из мелюзги гоняли заранее за билетами, а потом почти семейной толпой шли приобщаться к важнейшему из всех искусств, во что верил вождь, Ленин Владимир Илиьч.
Михалыча заносили в фойе на его тележке и там он ездил, и здоровался с такими же, как он придатками инвалидных тележек, пил с ними лимонад и ел пирожные. Но самое главное было в зале с экраном. Его сделали с уклоном вниз, чтобы дальним было видно через головы ближних. Поэтому инвалиды на своих тележках просто скатились бы к экрану и, с трёх метров глядя фильм, быстро бы окосели. Так вот, для них через каждый ряд по обеим сторонам прохода к креслу внизу был вбит штырь с цепочкой. На конце цепочки имелся крючок, который инвалид цеплял за тележку и никуда не скатывался. Проход не загораживал и никому не мешал. Вот кто это сообразил сделать без указаний и команд от начальства? Уверен, что люди эти лучше и выше калек безногих себя не считали, а дома жили со своими семьями в любви и добре.
А я шел и вспоминал наш первый с Михалычем поход вместе в ту пивную на окраине базара в далёком уже 1959 году. На этом месте пиво пили только инвалиды. Для них выровняли плавный по подъёму въезд в ворота, сделали два высоких стола для тех, кто на костылях. И пять круглых, под два метра диаметром, столов низких, под которые заезжала половина тележки, а пиво пить было удобно, и сушеного кустанайского карася или щуку разделывать вполне хватало места. И я уверен, что базарное руководство не приложило сюда командного своего голоса. Всю сделали сами пивники. Для которых, кстати, недолив или разбавление пива водичкой не допускалось категорически. У них кроме хорошего пива и рыбы просто была нормальная совесть и чувство сострадания. В пятьдесят девятом я, держа тележку за ремень, бегом притащил его на место минут за десять, после чего Михалыч сказал:
– Я, Славка, сюда отдыхать душой еду, а не рисоваться, что у меня такой шустрый собственный конь есть.
Он, я помню, никому не рассказывал, где воевал, как ноги потерял.
– А почему никто про войну здесь не говорит вообще? И про увечья молчат? Два часа я тут сижу и ни слова о войне не услышал.
Меня это удивило. Я думал, что и собираются тут калеки, чтобы пивком помянуть тяжелые для памяти дни.
– Война прошла давно, пацан, – сказал тогда дядя Миша мрачно. – А какие увечья? Где ты там их видел? Нормальные мужики. Здоровые, сильные, дружные, умные. А увечье – это когда человек дурак и когда у него нет души и, стало быть, совести. Вот они – калеки. А мы живем. Всё у нас есть. Кроме мелочей, которых никто не чувствует и не замечает.
Михалыч уже ждал меня возле ворот. На нем была белая косоворотка, с левой стороны на груди медаль висела, брюки он надел тёмно-синие, твидовые в мелкий рубец и с тонкой серой полосой вдоль. Штанины тётя Оля не отрезала, а завернула их под обрубки. Снизу живота и по полу тележки пропустила синюю ленту и завязала мелким незаметным бантиком. На голове Михалыч имел тонкую белую фетровую шляпу с такой же синей лентой, какая была на штанах. Сам сшил. И, самое главное, тележку он взял парадно-выходную. С надувными резиновыми шинами, отполированную и покрытую плотным слоем коричневого лака. Ремни для ног – из дорогой кожи, из хромовой. Такой хром только на офицерских сапогах. А вот ремень, который мне надо было тянуть с Михалычем в тележке, был простой, сыромятный, старый. Я протянул ему бутылки. Он их взял, поцокал языком, обозначая высокий класс подарка, и крикнул во двор:
– Эй, мать! Поди сюды!
Выглянула тётя Оля. Она тоже собиралась уходить. В церковь, наверное. Тёмное платье было на ней и черный шифоновый платок. Полностью скрывший седой волос.
– Чего забыл, Мишаня? Щуку сушеную сзади тебя я в газетку завернула. Прямо под бортиком лежит.
– Бутылки вот эти домой занеси. На верстак поставь там. На поднос. Потом выпью. Мы, Славка, в пивной кроме пива не пьём ничего. И кроме рыбы не едим другого. Это ж пивная! Не кабак. Мы съезжаемся поговорить о делах своих и семьях, попеть песни хором, рыбкой похвастаться и поделиться. Каждый своей. Пивников похвалить за свежее пиво. Ну, основное, конечно, просто показаться друг другу. Увидеть, что живые все. А больше трёх кружек там никто не пьёт. Нажраться до соплей и дома можно, когда приспичит. А там у нас свидание. Кто ж на свидании надирается? Перебор всю любовь с уважением загробит.
А мы друг друга любим за дело и уважаем за всё доброе, что в человеках не сгинуло, не поломало жизнью. Поехали.
Я взял ремень и не спеша повез тележку с дядей Мишей на базар. Мы появились там, когда по двору уже катались тележек пятнадцать. Мужики жали руки друг другу, обнимались, хлопали друзей своих по спинам, весело перебрасывались шутливыми матерками, которые подчеркивали близость душевных отношений, острили и хохотали. Никто ещё пиво не пил. Ждали остальных. Они съезжались с разных сторон, кто быстро, кто не спеша. Двор довольно скоро заполнился широкими, но слегка согнутыми возрастом плечами, лысыми и седыми головами, красивыми тележками и выходной одеждой.
Я, пока длился ритуал долгожданной встречи, пошел за угол бывшего мясного павильона. Там пятнадцать лет назад дерущиеся петухи вытоптали большой круг. Он тогда был усыпан перьями, пухом и полит каплями крови. Вокруг петушиных драк собиралась толпа, смешанная из хозяев «гладиаторов» и любителей поглазеть на эту дикость. Сейчас петушиным битвам вышел запрет и с базара их выгнали. Теперь организаторы птичьих боёв носили своих драчунов в сквер, выращенный на месте снесенного старинного кладбища совсем недалеко от базара. Там я ни разу не был. Ничего кроме жалости к птицам и отвращения к их «тренерам» я не испытывал.
А в это время во двор пивной вкатился на белой перламутровой тележке, отталкиваясь от земли лыжными палками, дед в тельняшке и с офицерской фуражкой на кудрявой белой голове. За спиной у него на ремне висел тоже перламутровый с кофейным оттенком аккордеон «вельтмайстер».
– О-оо-о! – обрадовались без исключения все. – Генаха! Дорогой! Струмент – то не пропил! Значит потанцуем сегодня!
– Вы у меня сегодня, мля, не просто потанцуете, а порхать будете! – Генаха сгрузил аккордеон на стол и поехал обниматься со всеми. – Я, мля, неделю маялся, но фокстрот «Цветущий май» одолел-таки, как обещал! Выучил так, что хоть по радио с ним выступай!
Пивники, два здоровенных парня лет тридцати, бегом разносили по столам кружки с пивом. Как они умудрялись нести в каждой руке по три кружки – для меня осталось загадкой. Причем делали они свою работу так, что на бегу не только не натыкались на тележки, но даже пена, и та не выплёскивалась.
– Сколько с нас, Лёха? – крикнул огромный лысый мужик с большими белыми усами. – Пятьдесят два человека по три кружки.
Он подкатился к окну выдачи и подставил ухо. Потом подъехал к пустому месту на столе и оповестил катающихся друзей:
– Э, орлы! Вот сюда – кто сколько скинет, но чтоб было не меньше тридцати рублей. Это со скидкой.
Деньги сбросили, усатый рассчитался и все окружили столы, развернули, покрошили на газетки и тряпицы свои рыбные запасы и сгрудили их на середину каждого стола.
– Ну, со свиданьицем! – выдал тост их постоянный, наверное, тамада в белом парусиновом костюме и каким-то орденом на левом кармане. – Мир домам нашим, покой и достаток!
Далеко за забором базарным, наверное, слышен был приглушенный, но тяжелый удар одновременно сдвинутых бокалов. После чего все сделали по три глотка и расслабились.
– Свежак пиво-то! – крикнул кто-то.
– Нефильтрованное!
– Душистое пивко!
-В Кустанае нет лучше пивка, чем наше!
Пивники стояли сверху над калеками и с удовольствием на лицах впитывали в себя прелесть комплиментов.
– Пейте, мужички! – сказал один из них. – Пусть не во вред пойдет оно, а на пользу! Отдыхайте, дорогие!
– А это сынок моего приятеля-соседа, – Михалыч подтянул меня за штанину к столу. – С малолетства пацана перед собой держу. Вишь, вырос как! Хороший парнишка. Крепкий и жить не боится. Славкой зовут.