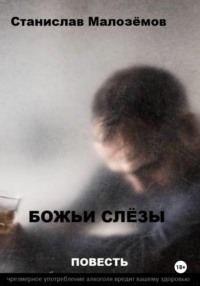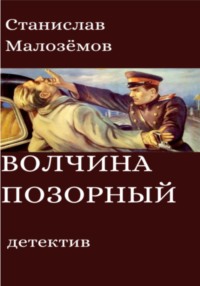полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
В этот раз ковш висел как раз над довольно пологим склоном, который опускался на дорогу, примерно на двадцатиметровой высоте. Забраться в него можно было только через стрелу. Её снизу поддерживали с двух сторон толстые круглые трубы, то есть, несколько поддержек до самого конца стрелы. Поэтому девяностометровая конструкция не могла ни согнуться, ни обломиться. Самая трудная трудность в нашем развлечении состояла из покорения длинной стрелы и спуска по двум канатам в ковш.
Мы сняли свои красивые, чистые школьные формы и аккуратно развесили их в кабине на разные рычаги и колесики. Фуражки сложили на широкое сиденье. Остались в трусах, майках и прочных как сам экскаватор ботинках, сделанных на кустанайской обувной фабрике. Их, похоже, шили по каким-то военным правилам, поэтому они не могли развалиться ни под какими пытками. Их можно было замачивать хоть на три дня в ведре с водой, бросать с километровой высоты, бить здоровенной кувалдой – ботинки продолжали жить как новые. Если, конечно, суметь их расправить после издевательств. Они могли только сгореть. И то, если бросить их в самый центр костра, в пламя. Мы и в прошлый раз прыгали здесь же в ботинках. Так родители наши вообще ничего на них не заметили. Ни царапины. Вот какая была тогда забота о людях. Купил раз в жизни ботинки, если нога уже выросла, и гуляй в них до пенсии, а то и до смерти.
Под сиденьем и в углу кабины мы набрали разных промасленных тряпок и намотали их на руки. Это чтобы не ободрать пальцы и ладони когда спускаешься по канату.
– Чарли, ты давай первым, чтобы мы видели, куда наступать и за что держаться. – Жердь ещё раз потряс руками, проверил как тряпки держатся. – Ты ж спортсмен. У тебя точнее всё получится. А мы следом.
По нижним, подпирающим стрелу трубам, лезть было нельзя. Опасно. Путь короче, но трубы без единого выступа. Гладкие, как бутылка стеклянная. Я поднялся по тонким прутьям, сделанным в виде лесенки, с площадки до стрелы. По ней обычно ремонтники забираются. Подшипники смазать на шкивах, натяжение тросов проверить или обследовать крепления деталей длиннющей конструкции, вдоль которой через специальные катушки с углублениями тянулись несколько тросов до конца. Сама стрела шла вверх и её высокий край от земли был выше метров на тридцать. Это издали только может показаться, что стрела – это просто подпертая снизу балками девяностометровая железяка. На самом деле балок две, они идут вперед параллельно и состоят из десятков пятиметровых отрезков лучшей по качеству стали. Руками не обхватишь по окружности. Скреплены между собой перемычками, прикрученными к основным балкам огромными толстыми болтами и гайками. Вот по ним, по перемычкам этим и надо было идти, а руками держаться за тросы. И всё. Мы медленно, как караван верблюдов, плелись вверх.
У меня было тогда уже и осталось до сих пор полное отсутствие боязни высоты. Откуда взялось – понятия не имею. Зимой я прыгал в сугроб с высокой крыши нашего двухэтажного дома, ухитряясь при этом делать оборот сальто. Прыгал с очень больших в нашем владимировском лесу и с любых по высоте обрывов на Тоболе, лазил на подъёмные краны в городе, доползая до самого кончика стрелы. В школе, уже учеником старших классов, когда громко поигрывали и булькали во мне разнообразные гормоны, я входил в класс как все – в дверь, а вот выходил только в окно при полном онемении учителей и визгах наших округлившихся формами девочек, ради внимания которых я и маялся этой дурью. Причем регулярно. С начала осени, зимой и до конца учебного года. Сейчас мне неловко. Даже стыдно. Но тогда я, как и ровесники мои, потихоньку созревал. Преобразовывался я на хорошей скорости в юного мужчину и мне чудилось, что я весь такой необыкновенный, смелый, сильный и решительный. Ранняя юность у парней, в которых плескался через край жаркий тестостерон, заставляла производить разные безмозглые и смехотворные поступки, а сопротивляться гормону было бессмысленно и бесполезно.
Отвлекся немного. Прошу не ругать. Много всего было. Вспоминается-то всего ничего из многолетней круговерти и кутерьмы. А уж вспомнится что-то внезапно, и жалко его упускать. Хоть словечком, но помянуть его хочется.
В общем, добрались мы до конца стрелы экскаватора. Она ощутимо раскачивалась от длины своей в стороны. А мы держались за тросы сидя на корточках и без страха (откуда ему взяться у десятилетних самоуверенных и пока глупых пацанов?) разглядывали землю с тридцатиметровой высоты. Отдыхали буквально пять минут. Потом я свесился со стрелы и двумя руками, завёрнутыми в тряпки, ухватился за трос, подтянулся на руках и стащил себя с железа. С минуту меня болтало на тросе, но я обвил его правой ногой и стал осторожно соскальзывать до шара, от которого тросы шли к углам ковша. Получилось. С длинного каната я, стоя на шаре, перелез на короткий, а по нему, закинув сверху ноги на трос, без проблем сполз и уперся в ковш. Он даже не шолохнулся. Потихоньку опустился до края троса. И спрыгнул в ковш. То же самое с разной скоростью, сопением, пыхтением и не детскими комментариями движения совершили Жердь с Жуком. Мы чувствовали себя в ковше как приговоренные к смертной казни, которые в камере мрачной с голыми холодными стенами ждут команды «на выход». В таком ковше мы стояли уже не один раз, но всегда громко отмечали его грандиозность. В него вполне могло войти две, а, может, и три машины «Волга М-21», которая с начала шестидесятых стала зваться «ГаЗ-21». Ну, если их, конечно, поставить одну на другую. Мы орали в три глотки отдельные гласные буквы. Они метались к четырем стенам и дну, отталкивались от них под разными углами и носились над нашими головами, усиленные гладким металлом. Это были уже не просто звуки, а страшный вой, похожий на стон ураганного ветра в печных трубах, который всё же опускался вниз, в комнату, и производил страшное ощущение подступающего краха всей жизни. Потом звуки наши вылетали из ковша на волю, в небо, и приходила тишина. Этот громадный кусок толстенного железа тоже почему-то слегка раскачивался на тросах, чего никто из нас объяснить не мог. Насладившись жуткими возможностями эха, мы стали готовиться к главному. К прыжку. Жук согнулся возле открывающейся створки, уперся в неё локтями и немного присел. По нему я поднялся на край борта и перевалился ногами наружу, на верхний широкий выступ. Прыгать надо было только с него. До нижнего края ковша с огромными зубьями опуститься не имелось возможности. Стенка высокая. Держаться не за что. Вот надо было задницы и ладони удобно разместить на борту, а ноги поставить на эту планку. И ждать когда шевелящийся ковш на секунду замрёт в мертвой точке. И тогда прыгать. Следующим вылез Жердь, потом мы оба легли на живот, опустили руки, Жук за них ухватился, а мы потихоньку сползли назад. По нашим рукам, упираясь ногами в железо, он поднялся до борта и вцепился в него пальцами как орел когтями в зайца. Повисел, выдохнул, подтянулся и сбоку закинул ногу на борт. И вот так минут через пятнадцать мы стояли на планке лицом к пропасти, придерживая за спинами верхний край шершавого металла.
Под нами было двадцать метров пустоты. А за ней мягкий длинный склон. Не стена вертикальная, а довольно пологий спуск к дороге. Сверху общая эта глубина завораживала и пугала. Страшна была не высота сама, а предчувствие падения. Не полёта, чего так хотелось бы. Именно падения, которое только воображением своим за две-три секунды можно было превратить в полет.
Я до сих пор не могу объяснить даже себе – зачем мне и друзьям моим нужны были эти и похожие на них азартные игры с погибелью. Никто из нас ни словом ни жестом не подал знака, который бы обозначил нас как храбрецов и
победителей слабости и обычной боязни человеческой. Мы играли во взрослых. Почему-то мне казалось, что каждый рисковый и опасный трюк делал меня взрослее, мужественней. А я ужасно хотел скорее стать мужчиной, чтобы никто ничего за меня не решал и чтобы за всё, что бы я ни делал, отвечал я сам. И никто другой.
Я выдохнул, отпустил руки, скользнул с планки и полетел к земле. Я стоял в воздухе и проваливался сквозь него одновременно. Секунды две я падал, вытянувшись в струнку и подняв руки ровно вверх над головой. И успел-таки поймать яркое и как молния мгновенное ощущение полета. Словами передать это чувство нельзя. Его можно только поймать и успеть пустить в душу. Кажется, я успел. Потом сжался в комок, обхватил ноги руками, нагнул голову к груди и стал почти круглым как шар. В таком виде меня земля и приняла. Я почувствовал сильный скользящий удар ногами, после чего покатился, кувыркаясь со скоростью оторвавшегося от скалы круглого камня вниз к дороге. Спуск к ней был пологий и длинный. Примерно на его середине я раскинул руки и меня тут же завалило на бок. Теперь и катился медленнее. Как бревно с сучьями. Их роль выполняли мои колени, ступни, локти и плечи. В общем, на дорогу я выкатился уже медленно, потому, что, вращаясь, успевал пальцами хвататься за мягкую землю. Полежал немного на дороге, передохнул и почувствовал, что крепче всего стучался о землю локтями и спиной. Они слегка побаливали. Я поднялся, сделал пять приседаний, нагнулся вперед и назад, покрутил руками и попрыгал на месте.
– Всё путём! – закричал вверх. – Нормально всё! Давай, Жердь!
Жердь спортом не занимался. Но от природы это был длинный жилистый пацан с хорошим запасом силёнки. Но, главное, он имел неплохой ум, что позволяло ему внимательно следить за другими и вылавливать у других всё дельное и правильное. Через пять секунд он уже скатывался, кряхтя, к моим ногам. Тоже полежал немного, потом сделал всё, что и я.
– Ничего? – спросил я.
Жердь почесал ушибленную коленку и ответил: – Пойдёт!
Жук был пониже и поменьше нас, поэтому летел на секунду дольше. Интересно снизу было наблюдать за падением с такой высоты. Любой посторонний воспринять со стороны прыжок с ковша иначе как верную попытку самоубийства вряд ли смог бы. Уж больно жутковато всё это выглядело. Но Жук благополучно докувыркался и докатился бревном до дороги, сразу же поднялся и потер ладонью затылок. Задел, видно, слегка.
Потом мы обнялись все разом и хором проговорили наше заклинание. Его мы всегда произносили перед или после любых идиотских выходок, в которых имелась опасность. Мы сказали дружно:-«Мать, мать, перемать! Нас ничем не запугать! Мать, мать, перемать! Нас ничем не обломать!» Кто нам это заклинание подсказал, а может кто-то из нас его придумал – никто не помнил. Вроде всегда оно при нас и было. Оно нас и хранило.
Потом мы ещё целый час по дороге шли до поверхности карьера и потом до экскаватора. Майки и трусы, естественно, разодрались в клочья, а ботинки остались как новенькие. Все уважали нашу обувную фабрику за добротную обувь. Мы надели формы и фуражки, выправили одежду под ремни и продёрнули стрелки. Осмотрели друг друга и подняли вверх большие пальцы. То есть в таком виде нас можно было без опаски отправлять на любой пионерский слет вплоть до всесоюзного. После всего, уже на пути к трассе, мы свернули в сторону, туда, где недавно взрывали породу для приготовления ровной площадки под такой же экскаватор. Мы долго ходили по взорванной и разбросанной породе согнувшись и перебирая землю, пропуская её сквозь пальцы. Скоро у каждого из нас было по несколько пиритов, камней, которые по виду ничем не отличались от крупных золотых самородков. Хотя на самом деле они были просто красивыми камешками. совершенно бесполезными наростами на пустой породе. Зато мы нашли с десяток ограненных самой природой полудрагоценных камней «гранат», две горсти мелких искристых, светящихся изнутри лимонной желтизной цеолитов и пяти пластинок камня «агат». Их красоту я описывать не буду, поскольку не сумею. Скажу только, что они были расписаны природой кругами и узорами таких необычных теплых и глубоких тонов, что из них можно было делать очень красивые вставки в очень дорогие предметы вроде шкатулок и поверхностей столов для начальников. Мы собирали камни часто, лет с семи. Знали, как их искать и куда девать потом. У меня гранаты продержались почти до пятидесяти лет, а потом исчезли. Как и не было их. Ну, да и ладно.
Ещё через полчаса мы стояли на трассе с поднятыми руками. Забрал нас здоровенный самосвал. Как у дяди Васи машина, УралЗиС-355 М, только с опрокидывающимся вбок кузовом.
Шофер дал нам по яблоку. Красные яблоки дал, позднего сорта, твердые и сочные. Мы приехали домой рано. Далеко было до вечера. Я забрал портфель и побежал то ли обедать, то ли ужинать. Но есть хотелось ужасно. Бежал я голодный и радостный. Если не сказать красивее – счастливый. Так сегодня хорошо суббота прошла. И уроки отменили, и с ковша прыгнули без осложнений! А камней сколько набрали прекрасных! Здорово день прошел.
А завтра будет он такой же замечательный. Потому, что я иду с утра к безногому мастеру дяде Мише и буду учиться столярному мастерству. Табуретку буду делать. Вот ведь повезло, что он сам меня позвал.
Дома была только бабушка. Она вкусно меня покормила, а потом объявила, что родители уехали с ночевкой во Владимировку. И ночевать мы будем вдвоем.
Было восемь часов вечера. В это время почти каждый день весь мой организм требовал через все преграды переваливать и исчезать незаметно из дома. Никто кроме меня не имел права даже предположить – куда меня несёт по вечерам. И что тайного могло появиться в моей явной, открытой всем радостям и печалям, жизни? А у меня второй раз за такой огромный десятилетний срок как лесной пожар разгорелась снова удивительная и вновь неповторимая, прекрасная любовь. Первая воспалилась в семь лет и выворачивала меня наизнанку до девяти. Я такое творил, возвышенный той первой любовью! Потому, что не понимал в любви ни фига. Она жила рядом, прямо напротив школы в своём домишке с родителями. Мне удавалось крутиться возле её дома на взрослом велосипеде. Она всегда играла с подружками возле ворот, а я ухитрялся крутиться между ними в идиотском виде, вывернутый дугой и скрюченный так, будто был тронут серьёзной болезнью всех костей и шеи. До педалей доставал только если ехал «под рамку». Потому и выглядел как прихваченный «столбняком» или, может, чем посерьёзнее. Но, тем не менее, остроты сыпались из меня как перезревшие яблоки с веток, а возлюбленную свою я высмеивал наиболее активно, ухитряясь попутно хватать за платье, косу или шлёпал её куда успевал дотянуться. Ей это всё нравилось. И я нравился. Видно же было. Она тоже надо мной хихикала и пыталась уронить вместе с моим тяжеленным двухколесным конём. Иногда мы грызли семечки вдвоем на скамейке возле их ворот и одинаково успешно остроумничали. Зимой я приезжал к ней на лыжах и долго показывал ей всякие фигурные финты. Потом она становилась на мои лыжи сзади и мы, синхронно двигая ногами в валенках, катались по кругу. Было весело, смешно, хорошо и я даже замыслил жениться на ней лет через тринадцать.
Но потом любовь сама по себе сгинула. Вот так сразу. В одно смурное осеннее утро. Я проснулся, подумал о ней и с ужасом понял, что думаю не то и не так. Потом целый день пытался растолкать в себе прикорнувшую любовь, но сильно ошибался. Любовь не задремала, не притихла, а испарилась. Или провалилась в глубины земли. На ровном месте. Без разочарований и болезненных стрессов. Как корова её слизала. Год я бывшую возлюбленную успешно избегал, хотя училась она в параллельном классе. За это время и она не подошла ни разу. Как-то трагически вышло: любовь покинула нас обоих без объяснений и причин. А через год меня поразило то, что я опять влюбился. Причем не сам факт влюблённости потряс мою юную чувственную душу. Мимо Таньки, соседки почти, я всю жизнь ходил как мимо винного отдела нашего магазина. То есть, без внимания и впечатления. Толпой мы, малолетки ошивались на их улице и упражнялись в разных играх, которые требовали сноровки, силёнки, ловкости, хитрости и умения хорошо бегать. Все вместе мы, пацаны и девчонки, играли самозабвенно в самую настоящую лапту, для которой сами делали биты-лопатки и мячики из каучука, которого почему-то в городе было много. Почему – вспомнить не смог. Да, в городки ещё играли. Отец , дядя Володя, на домашнем маленьком токарном станке вытачивал и «клёки» коротенькие для фигур, и биты увесистые. Ну, про такие скоростные игрища как «щтандер», «через дорогу» и «вышибалочка» вообще не буду рассказывать. Это были любимые развлечения тех лет всего могучего Советского Союза.
Вот в Таньку я влюбился внезапно, можно сказать, на большой скорости, на бегу и на скаку. Но любовь, как пуховое бабушкино одеяло с размаху накрыла меня мягко, нежно и тепло. Я ведь был взрослый десятилетний мужчина и вторую любовь подарила мне судьба не для юмористических упражнений и развлекухи, не для таскания любимой за косу, а для серьёзных чувств, переживаний, ревности и надежд. Не думал никогда – на что надежд, но само ощущение жило внутри и трепыхалось в такт нежным чувствам к любимой. Она была потрясающе красивой. Светлый и короткий, непривычный для тех времён белокурый волос, мягкая розовая кожа, радостная, искренняя белозубая улыбка и выше всех наших умов выделявшийся ум. С ней мы целыми вечерами говорили о разных разностях вроде бесконечности вселенной, вдумчиво глядя при этом на звезды и держась за руки. Мы спорили о прочитанных книжках, которыми обменивались постоянно, я учил её играть на гитаре, она показывала, как вышивать крестиком. До сих пор, кстати, умею. Она знала много стихов хороших, не детских, очень проникновенных. Я в то время тоже знал неплохие стихи. Читали друг другу, гуляя от одного угла квартала до другого. Вместе мы записались в четыре библиотеки и с радостью копались в рядах слегка пыльных книжек на полках. Бегали мы вместе со всеми на улице, играли во все игры, ходили в клуб в кино часто, на базар за семечками и в центр города пить газводу и есть мороженое. Но само главное – мы с ней часто и подолгу говорили на взрослые темы: о том, например, кем стать, когда вырастем. Я хотел только лётчиком, а она художницей. Рисовала, кстати, здорово. Мы три года ходили с ней заниматься в изостудию к известному ссыльному художнику из Москвы Александру Ивановичу Никифорову. А раньше, когда мы ещё не были влюблены, она училась со мной в одной музыкальной школе. Я играл на баяне, а она на фортепиано. Правда, через два года бросила. Ещё мы говорили о боге, по которого ничего не знали. Читали про него только в книге Емельяна Ярославского «Библия для верующих и неверующих», из которой ясно было, что его нет. А Танькина бабушка имела библию настоящую. Старую. Две даже. Ветхий завет и Новый. Мы её читали вслух на скамейке до тех пор пока не темнело. А потом спорили о том, кто больше прав: писатель Емельян или ученики Христа, апостолы, которые видели его и говорили с ним. В общем, была с Танькой у нас настоящая взрослая любовь. Не целовались, правда. Как-то не хватало духу. Наверное, все же ещё маленькие были и до поцелуев просто не дотягивали.
Вот к ней мне и надо было смыться сегодня вечером. Но бабушка могла не отпустить. И тогда я изобрел коварный, но стопроцентный выход. Я достал из шкафа толстую книжку Носова про приключения Незнайки и его друзей. Сел на кровать и долго с удовольствием читал. С удовольствием не только потому, что Носов писал интересно, а потому, как сравнивал их приключения с нашими. И наши были не хуже.
С этой счастливой мыслью, нарисованной на лице и я сделал вид, что уснул. Помню только, что бабушка вставляла меня под одеяло и охала, разглядывая разодранные мои трусы с майкой. А потом поправила под головой подушку, запела что-то тихо на родном польском, взяла спицы вязальные, пару мотков шерсти и ушла вниз. В подвальный этаж к тёте Оле и дяде Мише.
Я, как опытный вор, не скрипя половицами, на носочках подобрался к стулу, на котором аккуратно лежал мой спортивный костюм, прихватил его и кеды, а потом невесомо пересек комнату, сени и мягко сошел с лестницы. На улице сел на лавочку, оделся, обулся и, отталкивая от себя ногами землю, а руками встречный прохладный ветер, понесся к ней. К Таньке, которую только я мог называть именем Любовь. И это была чистая и светлая правда.
Добежал до дома за пару минут. Было почти девять часов. В окнах у них горели очень яркие лампочки. Электричество тогда почти ничего не стоило и отец Танькин прицепил эти лампочки в самые немыслимые места. Даже на стены. Любил он, чтобы и ночью в хате был яркий летний день. Я заглянул в промежуток между рамой и занавеской. Танька подметала пол, отец что-то писал своё, бухгалтерское. Мама Нина стирала в небольшом корыте полотенца. Я поскреб окно камешком, поднятым под завалинкой. Танька посмотрела на окно, поставила в угол веник, что-то сказала родителям и через минуту мы уже держались за руки. Не убирая рук сели на скамейку, прислонились головами друг к другу, глядя на холодное небо, которое ни луна, ни звёзды не могли сделать светом своим теплее. И так вот, ни слова не говоря, прижавшись тесно и держа четыре руки на её коленках, просидели мы до того позднего часа, когда мама Нина выглянула из калитки и сказала тихо:
– Славке ещё домой бежать вон сколько. Завтра договорите.
Мы сжали ладони друг другу и пошли по домам. Она, наверное, спать. А я побежал ещё быстрее, чем к ней, потому, что замерз в трико, да и побыстрее мечтал проскользнуть мимо спящей бабы Стюры, которая не хуже меня умела притвориться, что спит. А по правде, конечно, не спала она. Меня ждала, не подавая вида.
Я скинул трико и кеды, плавно втиснулся между периной и одеялом, уложил руки под голову и, глядя в желтый от луны потолок стал вспоминать весь сегодняшний замечательный день, радостный, удачный и счастливый. Школа, отпустившая нас на волю пораньше, грузовик, экскаватор, рисковые падения в пропасть, камешки дорогие нам и ценные вообще, удачную дорогу домой и мою любовь Таньку. Которая как-то по настоящему вскипятила в душе моей и любовь к ней, да ещё и к жизни любовь, и желание всегда быть счастливым. Как сегодня.
Глава тринадцатая
Снов я почти никогда не видел. Ни в детстве, ни сейчас. Отца спрашивал лет как раз в десять, в то самое воскресенье, когда собирался к дяде Мише: – Почему?
– А чего тебе видеть-то во снах? – он не очень любил со мной разговаривать.
С самого малолетства повернулось так, что с отцом мы друзьями не были. И до самой его смерти, когда мне самому было уже под шестьдесят, так и не сблизили нас высшие силы. Общались всегда в основном михоходом или по делам.
– Прошлого у тебя, считай, пока почти нет, будущее – тьма полная. А настоящее, спасибо скажи, что не снится. Кошмары и сумбур – твоё настоящее. Кто тебе в задницу шило воткнул – не знаю. Но ты с этим шилом ещё глотнёшь горького. Хорошо хоть книжки читаешь. Они тебе в голове незаметно знаки расставляют запрещающие и разрешающие. Если будешь их видеть и соблюдать движение по этим знакам, может, и не пропадёшь.
– С чего бы мне пропасть? – я нахмурился и засопел. – Я ж на вас смотрю и учусь как надо жить. Вы ведь, которые все наши, правильно живёте? Сам слышал от Паньки, что наш род живёт по-людски. Чего бы я вдруг стал пропадать?
Отец усмехнулся.
– Ну, может и обойдется всё у тебя. Но пока рано надеяться. Свободой народ оглоушили невовремя, да и свобода-то ненатуральная. Время такое. Люди после войны одурели: свобода, мир, строительство коммунизма продолжается! Да, обнаружилась после смерти Сталина какая-никакая, а свобода. На улицах не хватают и по домам ночью не шлындят на «черных воронках». Водку вон можно пить свободно хоть на работе. Участникам войны паёк дармовой к праздникам дают, в кино бесплатно пускают инвалидов. Всё это – и забота и факты свободы. И у нас с тобой поэтому свободы этой – хоть купайся в ней. Свободно газеты можешь любые выписывать. Какие партком с профкомом скажут. Сталина свободно ругай ходи, Ленина хвали и светлое будущее. Вон сколько свободы! Я вон свободно критические статьи пишу в газете своей на любые темы. Какие обком партии редактору разрешит или подскажет. Навалом свободы стало. Ты хоть понимаешь, о чём я?
– Ну! – приходилось активно мотать головой, хотя мало чего мне понятного отец говорил. Я понимал свою личную свободу. Вот она у меня была. Шурик, брат отцовский, проговорился как-то, что мне специально ничего не запрещают. Вроде бы это приём такой педагогический и воспитательный. Сам должен научиться отличать плохое от хорошего, доброе от злого, нужное от бесполезного. Вот я и жил свободно. Смотрел, думал, выбирал, ошибался и попадал в такие клещи, что до сих пор те места ноют, где жизнь прижимала, потом интуитивно или по подсказке чьей-нибудь сам находил полезное и правильное. Полз к доброму и справедливому, к знаниям и навыкам через такие непролазные противотанковые «ежи», что ошмётки шкуры своей позади и не считал, да и на боль уже не обращал внимания.