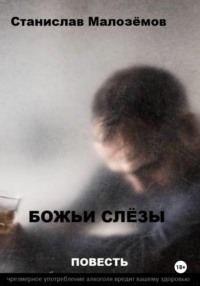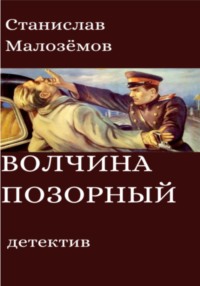полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
Отец мой с Шуриком, Володей и его женой ушли в умеренном подпитии часом раньше. Остались все мои знакомые дяди: Вася, Валера, Лёня, Костя и большой дядя Саша. Они не пили уже, да и еда в них, похоже, не вмещалась.
Так сидели, курили, болтали о чем-то. Не слышно было. Молодые отбыли на первую брачную ночь. Точнее, на брачное утро. Гармонисты допили всё, что стояло позади них возле соседского палисадника в ящике, хорошо поели и уснули сидя на траве, обняв гармошки, на которые они бережно сложили музыкальные свои руки и головы.
– Эй, живые кто, да поможьте мне, сукины вы дети!– донесся издали голос дяди Гриши Гулько. Голос нёс страдальческие, но сердитые интонации.
– А где орёт-то?– задумался большой дядя Саша. – Недалеко вроде.
Дядя Вася послушал минуты две и определил, что страдал свадебный Дружка у себя во дворе, то есть прямо за Серёгиным домом.
– Так он же рядом тут! – дядя мой почесал затылок и трехэтажно матюгнул дядю Гришу. – Находится рядом, мля, а громче позвать не желает. Начальник хренов. Пошли, что ли? Глянем, может культя отстегнулась у него, да по пьяне застегнуть не может. Было уже пару раз.
И мужики пошли во двор, где жили Гулько. Мы, естественно, бросили всё и побежали сзади.
Вход в сени их дома был с тремя ступеньками. От земли до порога. А от порога до пола в сенях шли тоже три ступеньки. Вход не додумались сделать пошире, потому, что по молодости все в семье были худые и решили, что меньше будет холода в сенях, если дверь сделать уже. Может, и правильно решили. Правда, дядя Гриша к старости сильно округлился. Но не переделывать же дом по этой несерьёзной причине
Дядя Гриша, видно взошел ногой на первую ступеньку, а протез с копытом донести уже физически не имел сил, потому как все их отдал яркой и умело сыгранной свадьбе. Он лежал наполовину находясь в сенях, а второй половиной свисал со ступенек, перебирал ногой и культёй, делал телом волнообразные движения, матерился, тянул себя руками, цепляясь за глиняный пол, внутрь помещения. Но силы первоклассной браги и мощь казацкая были всё же не равны. Проиграл дядя Гриша бражке вчистую.
– А чего домой понесло тебя, Гриня? – поинтересовался дядя Валера, наблюдая за бесплодными потугами свадебного старшины. – Там ещё и гости не все повыметались. Опять же – гармонистов надо стеречь, чтоб не уползли. Утром народ похмеляться пойдет. А музыка где? Нету музыки под опохмелку. Непорядок.
– …–.–.–…-..–..– , Валера!– откликнулся дядя Гриша.– Вам, мля, ндравится, что я тут как..–..–.-.-. ног болтаюсь!?
Стали вынимать его из трудного и компрометирующего ответственного человека положения. В тесную дверь, наступая на орущее тело, пролезли худощавые дядя Валера и Лёня. Огромный дядя Саша и мощный мой любимый дядя остались на улице. Процесс спасения человека, вызволения его из большой беды, длился около часа. Оказалось, что внести его на руках было невозможно. Задние здоровяки в дверь вдвоём не влезали. Пока заторможенные выпитым головы спасателей выработали единственно правильный план, дядя Гулько затих и уснул. Тогда его перевернули на бок и те, кто был в сенях, потянули его волоком, а уличные, приподняв задницу казака, впихнули его в дом. Дядя Вася притащил их угла две толстых коровьих шкуры. Одну постелил и на неё аккуратно сложили храпящее тело. Второй шкурой прикрыли сверху.
– А жинка его где? – спросил дядя Саша практически сам у себя. Поэтому сам и ответил. – А спит же, зараза. Тоже хлебнула немало. И вот так отлежал бы на неровностях мужик кости свои, да и помер бы вниз головой часа через три. А то и два.
И они пошли со двора. Я тихо , чтоб не скрипела, прикрыл дверь и мы тоже выскочили со двора.
Всё. Праздник на сегодня исчерпал и сам себя, и всех, кто был к нему привязан работой и отдыхом. Я съел большую шоколадную конфету и пошел домой. Залез к Паньке на печку и одурел сразу же. В пространстве печного лежака, занавешенного плотным ситцем, крутился, но не мог вырваться через ситец мощнейший перегар. Я приоткрыл занавеску, лег на шкуру, свесив голову в щель между стенкой и ситцем. Стало легче. Я ещё некоторое время вспоминал самые интересные сцены свадьбы и незаметно уснул. Утром, часов в десять, баба Фрося меня разбудила и я побежал убирать лишние столы вместе с пацанами, скамейки и помогал Шурику сматывать провода, выкручивать лампочки и уносить длинные шесты. В этом месте свадьбы больше не было. И следов не осталось. Тётки всё вычистили, вымели, пацаны выдернули колья и дорога снова стала дорогой, а не прекрасным уголком, в котором свершилось счастливое Серёгино и Наташкино таинство соединения в новую семью.
На вторую свадьбу у невесты во дворе я не пошел. Родители мои и баба Стюра уехали домой. Отец с мамой на мотоцикле, а бабушка с гостями из Кустаная и Затоболовки – в кузове грузовика. Мы с Шуркой, дружком моим, в лес сходили и валялись там в траве до вечера, набрав предварительно в майки вишню и костянику. Отдохнули.
Потом ещё четыре дня молодожены и их родители метались в день по трём-четырем дворам, куда их официально звали, чтобы оказать личные почести новорожденной семье. Это было настолько мучительно, что через неделю, когда я уже стал собираться ехать в город, потому как близилось 1 сентября и мы с Шуркой ходили попрощаться с молодыми и их родителями, на них без внутреннего содрогания и смотреть-то было невозможно. Это были похудевшие, измученные, тусклолицые люди с усталыми, но счастливыми глазами.
Я пробыл во Владимировке до отъезда ещё четыре дня. Мы с Шуркой от нечего делать болтались по поселку и за всё время не встретили ни одного взрослого мужика. Вообще, всё село выглядело довольно пустынно и только на немецкой его стороне стучали молотки, визжали пилы и тарахтели моторы. А на нашей послесвадебной территории видели только Сашку-пастуха, который понуро вечерком гнал коров по домам с пастбища. Коров на свадьбу не приглашали, а про то, что туда ходил их верный пастух, они не догадывались и на выгул уходили в свой час. Потому, что у Сашки была прекрасная сила воли, мощная жена и устойчивое желание получать зарплату в целости.
А когда до 1 сентября осталось пять дней, я уехал в город с Шуриком и дядей Васей на бензовозе.
Я плакал внутри себя. Я рыдал и душа моя не хотела смириться с тем, что теперь в родимую Владимировку я вернусь только после середины мая.
Утешало только одно. В Кустанае тоже шла жизнь и уже тогда, в малолетстве, я не чувствовал себя, в суете той, городской, нервной, бешеной и запутанной, лишним и жизнью моей не любимым.
Глава одиннадцатая
За пять дней до начала осени Кустанай 1958 года, в отличие от деревни моей любимой, уже полысел и пригорюнился перед будущей прохладой и долгими, низкими ветрами. Листья с тополей и клёнов валились как подстреленные. На фоне облысевших деревьев чётче обозначились грязные, крашеные охрой двухэтажные дома, натерпевшиеся от пыльных ветров и косых дождей, которые припечатали пыль к фасадам. Серым домам из штукатуренного кирпича везло больше. Пыль на них была просто не заметна. Зелёными оазисами радовали глаза только приземистые кусты акации и сирени. Но они были маленькие и не закрывали даже небольшие частные домики за низкими серыми дощатыми заборами. Весной их, видно, белили, а к сентябрю известка тоже нахватала пыли. Потому цвет всего нашего города напоминал поздние сумерки, будто всегда почти темно. Серым и черным становилось всё. Но я приехал утром и оно, тёплое и тихое, хоть и отгороженное от солнца почти фиолетовыми облаками, смягчало грусть, сочащуюся от домов и мрачного асфальта на больших улицах.
Никак не хотел Кустанай превращаться в город, похожий именно на город. Весь он был застроен собственными домами, домиками и землянками из самана от своих окраин и берега Тобола до единственной площади перед областным комитетом Коммунистической Партии СССР. Только здесь, в центре, да в районе вокзала он был и выше, и краше. Здания с лепниной под крышами и вокруг окон, цветочные клумбы, плотно утыканные бархатцами и бессмертниками, афиши про фильмы и театральные спектакли на огромных щитах, прибитых к вкопанным столбикам. Тележки на резиновых велосипедных колесах, разноцветные и размерами неодинаковые, тоже добавляли симпатичности улицам. С одних тележек продавали ливерные пирожки, с других газировку с тремя, на выбор, сиропами в стеклянных колбах, а ещё сок томатный, виноградный и яблочный. Газвода была похожа на настоящий лимонад, а сок по вкусу – один в один на тот фрукт, из которого его выдавили. Ну, ещё сахарную вату делали в алюминиевых чанах. И кроме всего этого продавали со столов, покрывающих тележки, разные бутерброды. Тут же стояли синие газетные киоски и той же краской покрытые будки телефонов-автоматов.
А чуть в сторону от центра и подальше от вокзала не было ничего и никого, кто бы чего-нибудь тебе продал. Про базар я не говорю специально. Тема отдельная. Базар – это самостоятельный город в городе Кустанае.
В общем, приехал я без настроения после вольготной и насыщенной деревенской жизни в обыкновенную суетливую повседневность, где надо было к восьми успевать в школу, после неё пристраивать себя к каким-то занятиям до самого вечера, а поздно, отгуляв на улице законные три часа, читать учебники и писать всякую всячину по предметам в тетрадки.
До торжественной линейки, знаменующей конец свободной жизни, оставалось три дня. Я после обеда взял портфель свой старый, доживший как-то до третьего класса, и через вечную дырку в заборе влез на школьный двор. Прошел, наклоняясь и нюхая любимые бархатцы на бесконечной клумбе, до огромной деревянной двери, свежевыкрашенной и покрытой лаком.
Вот только в этот момент почувствовал я как соскучился по всем нашим. Учителям, пацанам и девчонкам, по преподавателю уроков труда Алексею Николаевичу. Это был несгибаемый оптимист, который не терял надежды научить нас строгать доски и стамеской вырубать ровные пазы в будущих табуреточных ножках. По пустому коридору добежал до библиотеки и получил там все учебники для третьего класса. Достались мне книжки старые, разрисованные на внутренних листах обложки мордами всякими, машинами и револьверами. Опоздал. Новые учебники разобрали все, у кого не было родственников в деревнях. Ну, да и ладно. Новый учебник или трёпанный – учиться опять буду на одни пятерки. Это я знал заранее и наверняка. Сложил учебники в портфель и, перекошенный на правый бок, доплёлся до клумбы с бархатцами. Чем меня завораживал запах их листьев, острый и горьковатый, я так и не понял до сегодняшнего дня. Пытаюсь бесплодно разобраться сейчас. На даче у меня бархатцам отведено всегда много места потому, что без этого запаха я не могу жить. Как, например, без зарядки по утрам и ледяной воды в бассейне.
Дотащил я свой портфель с умными книжками до скамейки возле ворот нашего дома и сел. По улице гуляли, кланяясь, куры со всех дворов округи, между ними, как на пружинках, прыгали ещё не растолстевшие воробьи. Прохаживались, читая на ходу книжки и толкая перед собой коляску с дитём малым, мамы юные. По длинному скверу из кустов желтой акации с дорожкой посередине, похоронным шагом туда-сюда бродили пенсионеры. Отдыхали и набирались сил для остатка жизни. Всё двигалось ровно, размеренно, неторопливо. Даже машины по обеим сторонам сквера еле катились. Но в сравнении с темпом будня в старой Владимировке жизнь даже на нашей, удаленной от центра улице, бурлила и неслась как льдины на Тоболе в апреле.
Вот теперь мне и в школу захотелось, и в кружки всякие, и в музыкалку да на тренировки. Ну, ещё в изостудию прямо-таки поманило. К любимому Александру Никифоровичу. В этом году он обещал начать с нами курс масляной живописи на настоящем холсте.
Сидел я на скамейке и вспоминал себя в такой же точно форме трёхлетней давности, размером поменьше. Мне ещё не было семи, месяц всего оставался, но меня в виде исключения в первый класс приняли. И вот тут сидел я в новенькой свое форме мышиного цвета, сшитой из мягкой кашемировой ткани. На мне была почти военная фуражка с твёрдым черным козырьком. Тоже кашемировая, растянутая вверху в широкое кольцо пружинистым ободом. Над козырьком крепилась эмблема из твердой латуни, выдавленная в виде открытой книги. А опоясывал форму ремень, такой же, как солдатский. Только бляха была полегче, а над выпуклой пятиконечной звездой горел рельефный язык желтого пламени. Бляху я перед выходом намазал какой-то вонючей зелёной пастой. Называлась – паста Гои. Отец купил. А потом отполировал её фланелевой бабушкиной тряпочкой. Блестела бляха как во Владимировке медный Панькин самовар. Его он натирал этой же мерзкой пастой. А раньше, бабушка Фрося рассказывала, самовар до зеркального состояния доводила она разрезанным напополам помидором или смесью мела с уксусом.
Я тогда сидел на скамейке, потому, что раньше вышел. Ждал провожающих меня в первый раз в первый класс бабушку Стюру, маму и отца с братом Шуриком. Соседи по дому из других квартир, полуподвальних и «верхних», то есть, со второго этажа, уже меня благословили во дворе разными пожеланиями, которые заканчивались одинаково: « Ну, с Богом!»
Бога со школой я не мог связать никак, но всем сказал «спасибо» и всем, даже тёткам, пожал руки. Я очень хотел наконец пойти в школу. Читать и писать мама научила меня лет в пять, а отец как-то втолкал в мою голову таблицу умножения. Получилось так, что в первый класс я поступал пацаном, который уже читал книжки, писал, умножал, делил, вычитал и складывал. Даже маме втихаря помогал проверять тетради семиклассников и наугад рисовал в них пятёрки, двойки и тройки с четверками. Что-то даже писал им на полях. Что – не помню. Запомнилось только как отец, прослушав целиком мамину истерику, съездил мне три раза своим ремнем по голой заднице.
В общем, если рассуждать по взрослому, то в школе мне делать было совершенно нечего. Я уже всё умел. Но тянуло. Потому, что, во-первых, надо было носить эту прекрасную форму. И портфель сам по себе делал меня намного взрослее, когда я держал его в руке. А, во-вторых, в школе были парты, которые я раньше видел только через окно, когда мы с пацанятами малыми ставили под окна по три кирпича, взятых на время со школьной стройки огромного уличного туалета. Ставили их так, чтобы на руках немного подтянуться до стекла и увидеть класс. Коричневые парты и коричневая, исписанная мелом доска завораживали. Ничего похожего на парты никто из нас не видел и, тем более, на таком чуде не сидел. И вот поэтому тоже хотелось побыстрее стать для начала первоклассником. Первое сентября 1956 года я запомнил в деталях сам и никогда никого о моем первом школьном дне не расспрашивал.
Я два года назад сидел на скамейке только минуту. Сдуру сел, не подумал, что помну отглаженные мамой брюки и курточку, на которой тоже были едва заметные стрелки: поперек спины и вдоль рукавов. Потом на скамейке сидел один портфель, а я топтался рядом. Ждал. И наконец они вышли. Стояли передо мной, разглядывали и улыбались.
– Ну, внучок, дождался наконец учёбы!– сказала бабушка торжественно – Теперь ещё одним умником в семье станет больше!
Отец поморщился, но промолчал.
– А, может, я его все же отведу до класса? А то он цветы Александре Васильевне не донесет. Помнет ведь, – мама поправила на мне фуражку и проверила, хорошо ли пришила белый подворотничок. – А, Боря?
– Он мужчина уже! Детки ремни с такими бляхами не носят. Сам дойдет, – отец поправил пышную свою волнистую шевелюру. – Дойдешь сам или за мамкину юбку держаться хочешь?
– Сам, конечно! – гордо выпрямился я в струнку.
– Учиться как будешь? – мягко поинтересовался Шурик.
– Хорошо буду, – я просто обиделся за такой странный вопрос. – Не хуже всех.
– Не пойдет это «не хуже всех», племяш, – Шурик заулыбался. – Не хуже всех я сам учился. Поэтому работаю электриком, а не полковником милиции, кем хочу быть каждый день. С утра до вечера мечтаю. А надо-то всего было на отлично учиться. Поступил бы тогда в Москву, в Академию МГБ СССР и стал бы сперва лейтенантом милиции, а потом дорос бы до полковника.
– Дорос бы, – подтвердил отец. – Ты, Шурка, умный, это раз. И командовать любишь – это два. Поэтому вполне ещё можешь заочно отучиться. А потом постепенно дотянешь даже до генерала.
Шурик проглотил ехидство брата с непроницаемым лицом и снова переключился на меня.
– Пообещай, что всегда будешь отличником! По всем предметам и всю жизнь.
– Ничего себе, ты даёшь! – смешно мне стало. Я даже предположить не мог – сколько жить буду.
– Хочешь я тебя заколдую в вечного отличника? Самый момент! Ты идешь начинать учиться не только писать и потом физику учить с химией. Ты идешь жизнь понять из того, что узнаешь. Больше узнаешь и лучше других – значит, и жизнь когда-нибудь правильно поймешь. Так заколдовать тебя?
Будешь во всем, что полюбишь делать, отличником. А?
– Ну, ладно, – согласился я, чтобы поскорее уйти в свой первый «В» класс на втором этаже школы номер четырнадцать.
– Тогда встань вот так, – Шурик повернул меня лицом к школе. Её было прекрасно видно. Половина листьев, прятавших белое здание от глаз, лежала уж дней пять на земле.
– Давай, колдуй! – мне уже просто не терпелось скорее подарить цветы учительнице, сесть за парту и превратиться в школьника.
– Трах-тибидох! – вскричал Шурик заклинанием Старика Хоттабыча и влепил мне со всей дури такой пендаль под зад своим коричневым ботинком, что меня швырнуло метра на три вперед. Я с трудом остановился, обернулся и строго сказал.
– Нельзя так с детьми! Некультурно. А мама говорит – непедагогично.
– Следа не осталось на брюках, – засмеялась мама. И все тоже стали весело смеяться.
Я надвинул поплотнее фуражку, которая при пинке чуть не спрыгнула, и побежал, накрепко заколдованный, «в первый раз в первый класс».
Много лет прошло. Шестьдесят два с небольшим года. И вот вспоминаю я ту жизнь детскую и юношескую, да не даёт она мне верного ответа. Ведь если по науке – нет никакого колдовства. А с какого чёрта я тогда целых семь лет подряд был круглым отличником? И почему за длинную жизнь всё, что я любил делать, всегда у меня получалось легко?
Но мысли эти пришли недавно, после шестидесяти пяти лет. А тогда я просто легко жил, легко добивался всего, что хотел. Носило меня, мотало от хороших дел в очень плохие, от довольно серьёзных занятий живописью, музыкой, игрой в народном театре, спортом и литературой к опасному хулиганству, почти бандитизму. От интеллигентных, умнейших учителей, наставлявших ко всему хорошему, зашвыривало через старые связи двух авторитетных Иванов (Я вам о них рассказал раньше) на блатные «хазы и малины». Там, несмотря на то, что всегда было весело, остро и по- взрослому, пряталось всё самое плохое. Там постоянно торчали «жиганы», воры всех мастей, гоп-стопники, разбойники и соскочившие с кичи урки. И грех потому ношу я в совести до сих пор, что по дури своей и показной браваде ходил, бывало, с ними и «на дело». За те годы так свободно насобачился «ботать по фене», что и сейчас на неё срываюсь, когда сильно нервничаю. Хорошо только, что характер имею до того спокойный, что вывести меня из себя практически невозможно. Я давно уже почти ни на кого не срываюсь и не рву нервы. Но вот как Бог уберег меня от срока за решеткой, а привел в прекрасное ремесло – журналистику, да ещё в писательство и спорт? Нет ответа. И, видно, не будет уже. Кончается и моё время. Понял я только, что это и есть тайна судьбы моей и её суть. И то, что есть чудеса, понял. То, что есть колдовство. И что именно Шурик своим пинком шесть десятилетий назад придал мне и правильное направление движения, и нужную скорость. В общем, заколдовал на всю жизнь. О чем я теперь всегда благодарю его в день рождения и смерти.
***
Я ждал дня, когда мне станет целых 10 лет. Это уже большой срок. Столько всего прожито – замучаешься перечислять. Учился я уже в четвертом классе целый месяц, а до заветного праздника, первого юбилея, ещё девятнадцать дней оставалось. Но мне уже ясно было, что я очень повзрослел. Только усы ещё не росли почему-то. А я-то уже решил, что когда вырасту, буду потом всю жизнь ходить с усами. Как все наши казаки во Владимировке. Кроме отца и Паньки. Посмотрел в зеркало. Да нет, вроде. Подросток в школьной фуражке с лицом, на котором уже гнездились подростковые мелкие прыщи. И ни малейшего намёка даже на призрак усов. Но дядя Вася мой сам мне рассказывал, что усы у него полезли аж в шестнадцать. Это меня успокоило и все остальные дни до 19 октября я усиленно старался думать только о хорошем. О родителях и бабушке, обо всех родственниках из Владимировки, о замечательных городских друзьях и о том, что в сентябре я удачно прыгнул выше всех на городских пионерских соревнованиях и занял первое место. За которое получил красивую грамоту с изображением рвущего финишную ленту спортсмена. На грамоте стояла огромная синяя печать и большими красивыми буквами была написана моя фамилия.
А тут, наконец, и день рождения приполз. Юбилей! Отмахал я ужасно медленно целых десять лет от пелёнок до четвертого класса, куда ходил в кашемировой форме и фуражке с кокардой как у офицеров! С утра меня все перецеловали, от бабушки и мамы до всех соседей по дому. Что меня уже слегка коробило.
Для взрослого, уже ушедшего на второй десяток лет мужчины, телячьи эти нежности были излишеством. Дурной привычкой, прилипшей ко всем, кто жил в доме с ранних моих беспомощных лет. Но по глупому обороняться от поцелуев и кричать, что с этого дня мне надо жать руку и похлопывать по плечу, я не стал. По двум причинам. Первая: – во втором десятилетии я провел всего-то часа полтора, поскольку родился в восемь утра. Вторая причина: каждый поцелуй сопровождался вручением мне подарка. Не мог же я и подарок брать и одновременно уворачиваться от поцелуев. Ладно. Будет мне одиннадцать, сами перестанут держать меня за дитё малое.
Сразу же вся семья и соседи сели пить праздничный чай. Индийский. Три слона. Посреди стола лежало огромное хрустальное блюдо. А из него как гриб из хорошей земли после дождя рос высокий, не ниже чем настольная лампа наша, да сантиметров тридцать в диаметре, желто-коричневый, покрытый сверху розовым кремом и белыми сахарными цветами торт. В его кремовую шапку родители воткнули десять маленьких, похожих на церковные, свечек.
– Готов дуть? – спросил отец. – Силы набрал за ночь? Надо разом все свечки задуть.Тогда всё, чего хочешь, сбудется. Давай!
И он одной спичкой зажег все свечи. Стало тихо. Все, кто сидел за столом, заранее развели в стороны ладошки, чтобы похлопать и закричать что-нибудь вроде «Расти большой!».
Я встал на свой стул, нагнулся над кругом из огоньков и по часовой стрелке легко погасил эту красоту. Ну, все захлопали, закричали « С днём рожденья! Ура!». И бабушка красиво порезала торт на много одинаковых долек. Она разложила их по всем блюдцам, налила пахнущий сказочной Индией чай, и мы начали есть, пить и болтать. Из болтовни выяснилось окончательно, что теперь я такой же хороший, просто замечательный, но уже не мальчик, а подросток. Почти юноша. Что уже совсем близко к званию мужчины. Гости-соседи посидели с полчасика, наговорили всяких прекрасностей и разбежались. Все мои друзья сидели в школе, только мне учительница Александра Васильевна, позволила выходной. Я допил чай, съел уже с трудом второй ломоть торта и пошел к кровати, где лежали все подарки. Радоваться и разбирать. Удивляться и снова радоваться. Подарков было много. Стало быть, и радоваться предстояло по-крупному.
Сначала я достал прозрачный тонкий пакет и вынул из него пушистый бежевый шарф с тонкими белыми полосками по диагонали. Накинул на шею. Потом рука сама прицепилась к чему-то, плотно скрученному в трубку из толстой обёрточной бумаги. В нём была замечательная спортивная майка светло-синего цвета с белой вышитой буквой «Д» слева на груди. Настоящая динамовская майка. Я снял шарф, нацепил майку, а шарф снова перекинул через шею. Зеленый деревянный плоский ящик с ручкой и металлическими навесами, скрепляющими створку этого ящика, я брал осторожно, как будто он был слеплен из речного песка и мог рассыпаться на весу. Сбросил навесы, открыл крышку и остолбенел от поразившей меня счастливой неожиданности. В коробке, разложенные по отдельным отсекам, красовались настоящие столярные инструменты: лучковая пила, ножовка, несколько стамесок, тонкий наждачный прут для сглаживания углов, маленький металлический рубанок, тиски, угольник, измеритель уровня поверхности, долото, трафарет для распиливания дерева под разными углами, щипцы и деревянный молоток, который дед Панька называл киянкой. Мне тут же захотелось вылететь с этим набором на улицу и позвать всех друзей, а потом всем вместе во дворе сделать этими инструментами какую-нибудь красивую полочку для маминых духов, кремов и губной помады. Удержало меня только то, что все друзья сидели за партами, да и я ещё разобрал не все подарки. У окна сидела бабушка Стюра. Она поставила на стол локти, а в скрещенные ладони легла подбородком и глядела на меня ласково и грустно. Может быть своё детство вспоминала. От чего ей было ещё грустить?