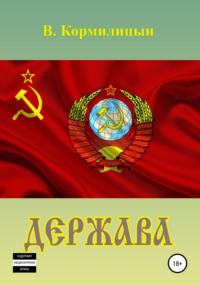Полная версия
Держава том 4
– Иван, вези на Марсово поле, в Павловский полк, – решил поужинать в офицерском собрании.
Компания подобралась большая. С одной стороны стола, во главе с полковником Ряснянским, сидели старшие офицеры и солидно обсуждали важные служебные вопросы.
На противоположном торце стола шумно ужинала полковая молодёжь – субалтерн-офицеры. Они не столько пили запрещённые напитки, сколько веселились, радуясь жизни, молодости и тому, что гвардейские офицеры.
Часто с их стороны раздавался нелепый возглас Ляховского:
– Кто виноват?!
В ответ молодёжь жизнерадостно вопила какое-нибудь женское имя. На этот раз прогорланили:
– Матильда! – и закатились хохотом.
Неожиданно для себя Аким позавидовал им, подумав, что с удовольствием бы поменял ордена и четыре звёздочки на погонах на беспечную юность. Чтоб всё было впереди, и он на этот раз выбрал бы… – услышал рёв подпоручиков:
– Натали!..
– Новую церемонию где-то подхватили, – ни то осуждающе, ни то одобряюще, покачал головой Гороховодатсковский.
– Подхватить, Амвросий Дормидонтович, кое-что другое можно, – тут же опорочил мнение штабс-капитана полковник Ряснянский. – А это становится полковой традицией. Пусть веселятся, пока молоды.
И ещё один человек страдал от осени, а может – от самой жизни.
Это Лев Николаевич Толстой.
Сдвинув занавеску, глядел в окно, пытаясь уловить мимолётную, но часто мелькавшую в предыдущие дни мысль.
Ночь… Дождь… Тоска…
И какая-то неуловимая, но очень важная мысль.
«Ну вот. Опять мерещится кабанье рыло», – вздрогнул от испуга и поднёс к стеклу тусклую свечу.
Но кроме своего тёмного отражения ничего не увидел.
Только: ночь… дождь… тоска…
И тоска ни какая-то обыкновенная… А чёрная, страшная, предсмертная тоска…
«Чёрная ночь, чёрная тоска и чёрное кабанье рыло сведут меня с ума… Если уже не свели, – сел на разобранную постель и задумался. – Днём, прогуливаясь по усеянным листьями дорожкам яснополянского парка, тоже видел мерзкую кабанью морду, выглядывающую из-за куста малины. И эти клыки. И страшный оскал пасти… Невероятно… Но я же видел, – вздрогнул, поймав наконец долго ускользавшую мысль. – Надо срочно… Не откладывая, ехать в Оптину Пустынь. К старцу. Как жаль, что умер Амвросий. Какую радость душевного общения доставлял он мне. Выходил из его кельи со слезами на глазах. Сейчас старчествует отец Иосиф. Он мне всё объяснит, всё расскажет и успокоит», – торопливо стал собираться в дорогу.
Надев пальто и шапку, опять задумался, тяжело упав в кресло и закрыв глаза – так яснее мыслится: «Хотя бы последнее, отпущенное Богом время – не знаю, сколько его осталось (а оставалось всего одиннадцать дней), следует прожить в простоте, занимаясь физическим трудом. А то даже последователи и единомышленники критикуют, – вспомнил поэта Добролюбова, опростившегося и странствующего по России без денег. – Он написал мне: «Лев Николаевич. Ты всю жизнь сражался за некоторую часть веры и за телесный труд. Ты близок к смерти. Потому подыми ещё раз меч за это. Разъясни свою ошибку, что не продал именья и не ушёл из барского дома. Не давай повод ищущим повода…» Не точно, но смысл такой, – провёл дрожащей ладонью по лицу: не давай повода ищущим его… Я уйду! – поднялся из кресла. – Непременно уйду, и остаток дней проживу в Оптиной Пустыне. Там хорошо и легко… И нет кабаньих рыл. Я готов выполнять любую работу вместе с монахами. Я должен, должен провести остаток дней согласно своему учению… и в душевном мире с собой», – в волнении, со свечой в руке, заспешил через анфиладу комнат вниз, в спальную младшей дочери.
Разбудив её, произнёс всего лишь два слова:
– Я уезжаю!
Она не спросила – куда? Не протестовала, не уговаривала остаться, а молча укладывала необходимые в дорогу вещи.
Отец её в это время прошёл в комнату к домашнему врачу Душану Петровичу Маковицкому, и предложил ехать с ним, рассудив, что один не осилит превратности дороги.
После принятого решения в нём проснулась неуёмная жажда деятельности и какая-то молодая, бьющая ключом энергия.
Загасив свечу, он вышел во двор, и, забыв о кабане, чуть не бегом направился к деревянной избушке, где жил кучер и нервно застучал в окошко, велев выбежавшему на крыльцо мужику в кальсонах и накинутом зипуне, срочно запрягать.
Таким же скорым шагом поспешил к дому, обронив с головы сбитую веткой шапку.
«Некогда искать, Попрошу дочь вынести другую. Скорее, скорее, пока не проснулась Софья Андреевна».
– Готовы? – ворвался в дом.
Пока ехали по «прешпекту», в висках предательски застучала мысль, что больше не увидит этой аллеи, этого дома и две эти невысокие башенки у главного въезда в усадьбу, – вытер непрошенные слёзы, когда пролётка выехала из имения на дорогу к станции.
Первый, из оставшихся одиннадцати дней сумасшедшего гения, начался.
Станция с газовым фонарём. Билеты до Козельска в третий класс – коли решил опроститься. Ожидание поезда среди мужиков.
«Наконец-то я с ними… С народом… И поэт Добролюбов больше не станет меня осуждать».
В Козельске первым делом поехали с доктором в монастырскую гостиницу, что рядом с монастырём под горой, и сняли в ней номер.
Немного передохнув с дороги, Толстой надумал посетить скит, где жил старец Иосиф.
До него от монастыря было примерно с полверсты. Вход в Оптину Пустынь находился со стороны реки Жиздры. От гостиницы до главных ворот монастыря, что стоял на холме, вела неширокая лестница.
С трудом уже поднявшись по ней – энергия бесследно куда-то исчезла и наступила тягостная апатия, Лев Николаевич остановился у звонницы, не решаясь пройти в монастырь. Через него до скита добираться было легче и ближе, нежели идти снаружи, кругом монастырской стены.
«Мне, отошедшему от Церкви, неудобно входить в монастырь без приглашения, – подумал он. – Придётся идти кругом», – постояв и оглядевшись, пошёл вдоль стены в обход.
А силы убывали…
Добравшись до скита, остановился, и, дрожа ногами от усталости, ждал, что выйдет келейник и пригласит к старцу.
Он не знал, что старец тяжело болел и никого не принимал.
«Вот и не верь в приметы после этого. Не зря в народе говорят – потерять шапку – к беде», – разбитый физически и опустошённый духовно, вернулся в гостиницу.
– Лев Николаевич,– взяв его за руку и посчитав пульс, произнёс Маковицкий. – Вам бы полежать. Недавно разговаривал с одним монахом. Он рассказал, что по монастырю уже разнеслась весть о вашем приезде. Некоторые монахи видели вас стоящим в ожидании у ворот. Но, поскольку имеется постановление Синода, пригласить не решились. Игумен отец Варсонофий запросил епархиальные власти в Калуге.
– Пока они решают, завтра с утра съезжу к сестре в Шамордино. Это недалеко отсюда.
Монахиня Мария без команды епархиальных калужских властей, провела брата в келью, куда пришли близкие к ней монахини.
– Лев Николаевич, обязательно посети старца Иосифа, – посоветовала сестра. – Хотя он и болеет, но тебя непременно примет, поговорит и обязательно даст полезный совет, так как славится своей мудростью, не меньшей, чем у его учителя.
– Да и игумен Варсонофий умён и начитан. С ним бы тоже полезно побеседовать, – посоветовала одна из монахинь.
– Пока он не получит разрешения из епархии, говорить не будет, – произнесла сестра.
– Знаю я их, – привычно стал обличать церковников Толстой. – Калужский епископ побоится что-либо решать и телеграфирует в Синод. Там тоже, пока суть да дело, не один день минует… Останусь-ка пока у вас, в Шамордино, – решил Лев Николаевич. – Сниму избу и буду ждать ответа из Синода и приглашения отца Варсонофия. После и в скит наведаюсь, – вернулся к вечеру в монастырскую гостиницу за вещами, где и заночевал.
На следующий день, 30 октября, отца в гостинице навестила его дочь Саша, сообщив, что мама', узнав об уходе мужа, хотела покончить с собой, бросившись в пруд, но утонуть не сумела, ибо воды там курице по колено: «Теперь собирается ехать сюда за тобой, чтоб увезти домой».
Лев Николаевич не сознался дочери и доктору Маковицкому, что более всего и желает этого… Хочется домой, в Ясную Поляну. Сил уже нет. Он устал и ему нужен покой и уход.
Но в этот день жена не приехала.
Дочь, фрондируя против матери и по-молодости думая, что оказывает большую услугу отцу, предложила ехать дальше на юг, где Софья Андреевна не сумеет найти своего супруга.
Лев Николаевич чувствовал себя изнеможенным, ничего уже не понимающим и не контролирующим обстановку. И опять эти кабаньи морды кругом: «Бежать, бежать от них. Вот что значит – шапку потерять», – с помощью дочери и доктора сел в поезд №12, что шёл в южном направлении необъятной России.
Здоровье от нервов, переживаний и физических нагрузок, которые так расхваливал поэт с фамилией великого критика, ухудшалось не по дням, а по часам.
Дождливым промозглым вечером 31 октября 1910 года к платформе маленькой, никому не известной станции Астапово, подошёл товарно-пассажирский состав.
Доктор Маковицкий, видя, что писатель совсем плох и временами теряет сознание, выпрыгнул из вагона и, увидев дежурного по станции, бросился к нему.
– Пожалуйста, не отправляйте поезд, – заполошенно кричал он, глотая слова и не умея сразу выразить мысль. – Здесь граф Толстой. Ему плохо. Где найти начальника станции?!
– Пить надо меньше, – сделал замечание издёрганному пассажиру с всклокоченной бородкой и красными глазами станционный чиновник.
Но подумав, смилостивился:
– Вон евойная хата, – указал на небольшое станционное строение неподалёку от железнодорожных путей, огороженное жёлтым штакетником.
Начальник станции Иван Иванович Озолин ужинал в кругу семьи, пригласив соседа по дому, а по службе являвшегося его помощником. Тот с набитым ртом умудрялся читать утреннюю газету: «Лев Толстой ушёл из Ясной Поляны. Настоящее местопребывание его неизвестно».
– Вы бы прожевали вначале, сударик, а потом уж читали, – сделала замечание соседу супруга начальника, – а то всю скатёрку заплевали, – услышали стук в окно, затем в дверь.
– Кого ещё нелёгкая несёт? – тоже с туго набитым ртом пробубнил начальник, окончательно рассердив супругу.
– Там какой-то господин буйный вас спрашивает, – недовольно глядя на хозяйку и вытирая руки несвежим фартуком, доложила служанка.
– Проси! – в пику жене велел немного выпивший супруг.
– Извините ради бога, – прижал руки к груди вошедший, вернее даже, вбежавший, средних лет мужчина со слезящимися глазами. – Господа, я доктор Льва Николаевича Толстого. Писатель следует этим поездом. Он болен и его жизнь в опасности.
Изо рта потрясённого начальника станции, который попытался что-то произнести, раздалось невнятное клокотание, закончившееся кашлем.
Не услышав ответа, взволнованный Маковицкий продолжил:
– У него высокая температура, частый пульс… Дальше ехать не в силах, – сжимал и разжимал перед грудью пальцы.
Немного пришедший в себя Озолин, раскрасневшийся и с таким же пульсом, как у его кумира – заболевшего писателя, вскочил со стула:
– Да… Я просто счастлив, – тоже стал сжимать и разжимать перед грудью пальцы. – Вы не так меня поняли… Хоть что-то сделать… Как-то услужить… Оказать любезность… Гостиницы у нас нет… Ведите Льва Николаевича сюда…
– Располагайтесь в этой половине дома, а мы перейдём в другую, – выручив мужа, внятным голосом произнесла его супруга. – Хотя у нас всё немудрёно и незатейливо, но постель свежей простынёй сейчас застелю и милости просим…
– Простите! Если это удобно. Иного выхода у нас нет…
– Удобно, удобно. Ну что вы, мужчины, какие растерянные. Иван Иванович, – строго глянула на мужа, – ступай, помоги графа довести.
У вагона уже собралась толпа, потому как кондуктор успел по секрету шепнуть торговавшей семечками бабе, что тут едет сам Толстой.
Хотя Россия и считалась неграмотной страной, но пришли даже рабочие из железнодорожного депо. Кто посмелее – заглядывали в окошко, мечтая увидеть писателя, и всю жизнь потом этим хвалиться.
– Лев Николаевич, комната найдена, – пробравшись сквозь толпу в вагон, обратился к Толстому доктор. – Начальник станции любезно предоставил своё помещение.
– Благодарю вас, – коснулась руки Озолина дочь писателя.
Обмирая одновременно от счастья и горя, Озолин бережно подхватил под руки тяжело дышащего старика, и вместе с доктором осторожно повел его по вагонному коридору к выходу.
– На руках, на руках надо нести. Сам не дойдёт, – раздались голоса.
Рабочие подняли графа и аккуратно, стараясь не сделать больно, понесли к пристанционному домику.
Лев Николаевич, когда его поставили на ноги, внимательно оглядел невзрачное одноэтажное строение с низкими окнами и, неожиданно для себя перекрестившись, шагнул внутрь.
Тяжёлая деревянная дверь громко захлопнулась за ним.
Ранним утром 7 ноября Льва Николаевича Толстого не стало.
Просто и тихо ушёл из жизни великий писатель, умерев так, как мечтал жить – среди простых людей в бедном доме «станционного смотрителя».
«Как в данном случае вести себя? – получив письменный доклад о смерти Толстого, размышлял император. – С одной стороны его смерть – большая русская утрата. С другой – он отлучён от церкви и согласно православным канонам и традициям государственная власть не должна воздавать ему посмертные почести. Придётся выбрать компромисс: не принимать участия в гражданских похоронах, но и не препятствовать тем, кто придёт на погребение», – взяв ручку и макнув перо в чернильницу, поставил на докладе помету: «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во времена расцвета своего дарования в творениях своих родные образы одной из славнейших годин русской жизни. Господь Бог да будет ему милостивым Судиёй».
Позже императору доложили, что в похоронах приняли участие несколько тысяч человек – в основном студенческая молодёжь.
«Последний приют у Льва Николаевича уютный, – закурил государь, размышляя о смерти. – Зелёный летом холм в цветах у Ясной Поляны. Судьба сподобила умереть графа в избушке богом забытой станции. Это же надо… Но хотя умер в избушке, похоронен при большом скоплении народа. В основном – студенчества. Его антипод, отец Иоанн Кронштадский тоже похоронен при огромном стечении людей. В основном – крестьян. Я-то, ясное дело, упокоюсь в Зимнем дворце Петербурга или в Александровском, Царского Села. Но вот придёт ли ко мне по велению сердца столько подданных, дабы отдать последний долг и проститься? Скорее всего – всё сведётся к традиционным протокольным похоронам. И кроме дочерей, сына и жены вряд ли кто хоть слезинку уронит… Лицемеры…» – вспомнил великих князей и ближайшее окружение.
Смерть Льва Толстого, как и ожидалось в министерстве внутренних дел, вызвала студенческие беспорядки.
«Не начало ли это поворота?» – ликующе писал Ленин в заграничном органе социал-демократов.
Да ещё в конце месяца, на каторге, в знак протеста против телесных наказаний каторжан, отравился и умер убийца Плеве Егор Сазонов.
В Петербурге, на Невском, произошли уличные демонстрации, к которым, впервые после 1905 года, примкнула небольшая часть рабочих.
В середине декабря начались рождественские вакации, и студенческие волнения пошли на убыль.
К тому же 11 января наступившего 1911 года, Совет министров своим распоряжением запретил сходки в стенах высших учебных заведений, что, разумеется, вызвало бурю возмущения не только учащихся, но и профессоров.
В Московском университете ректор Мануйлов, его помощник Мензбир и проректор Минаков подали в отставку.
В ответ их не только сняли с занимаемых постов, но и отрешили от профессорских должностей.
Тогда часть студентов объявила забастовку на весь весенний семестр. Но среди студенчества уже не было того единства, что в революционные годы. Многие продолжали посещать лекции.
Министр народного просвещения Кассо, сменивший осенью прошлого года Шварца, предпринял решительные действия против всякой агитации и потребовал от преподавательского состава читать лекции при любом количестве слушателей.
Посещаемостью особенно отличились Высшие женские курсы. На лекции приходило всего по нескольку человек.
К ним министр просвещения никаких репрессий не предпринимал, помня, что во время войны с Японией, учившиеся в этих стенах дамы даже слали поздравительные телеграммы микадо, став потом верными подданными российского императора и добропорядочными матерями и жёнами.
«И эти перебесятся и успокоятся», – думал он.
Весь февраль и март студенты пытались срывать занятия, но в начале апреля выдохлись или «перебесились», по мнению министра просвещения.
Число слушателей стало возрастать, и студенты приняли решение о возобновлении занятий.
Газеты активно и оживлённо освещали эти события, посвящая им первые полосы, но в обществе студенческие беспорядки и забастовки не вызывали былого сочувствия.
И даже наоборот.
Пресса, не желая терять читателей, мигом перестроилась, публикуя на своих страницах критические статьи, осуждающие шкодников: «Надо надеяться, что студенты сами поймут моральную недопустимость и полную нецелесообразность этого средства борьбы, разрушающего высшую школу».
Эсеры и социал-демократы в быстром наведении порядка винили Столыпина, обвиняя его в том, что сумел переломить настроение большинства россиян в пользу государственной идеи, нанеся огромный удар революционному движению.
К тому же девятый и десятый года были самыми урожайными в истории России – чего бастовать-то – живи и радуйся.
Император с семьёй, после революционных лет, когда не осмелились прибыть даже на похороны великого князя Сергея, смело ездили не только за границу, но и по просторам Российской империи.
Так, в конце августа – начале сентября 1911 года в Киеве намечалось открытие памятника императору Александру Второму.
Официальные торжества решил посетить император с дочерьми.
Помимо государя ожидалось прибытие некоторых великих князей и высших сановников, включая Председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина.
Тайная полиция заблаговременно стала готовиться к визиту. И тут же начал разгораться первый скандал.
Общее руководство охраной император возложил на товарища министра внутренних дел, командира корпуса жандармов, генерал-лейтенанта Павла Григорьевича Курлова.
Однако, согласно давней традиции, за обеспечение безопасности царской семьи отвечали генерал-губернаторы.
Столыпин весьма удивился, когда узнал, что Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор Фёдор Трепов младший, указом императора, в сфере безопасности подчинён Курлову.
Это беспрецедентное решение император принял без согласования и даже уведомления министра внутренних дел. Столыпина просто поставили перед фактом.
Пётр Аркадьевич сдержал эмоции и не стал устраивать демарш, рассчитывая позже обсудить это казусное решение с императором.
Однако генерал-адъютант Трепов воспринял такое положение вещей как унижение – подчиняться какому-то там прохвосту Курлову, и подал рапорт об отставке, мотивируя своё решение тем, что считает оскорбительным то обстоятельство, что его отстранили от высшего надзора за охраной государя. В этом он усматривает признание его недостойным занимаемого поста.
Столыпин, дабы погасить разгорающийся перед началом киевских торжеств скандал, написал Трепову письмо, в котором не очень убедительно пытался оправдать ошибочность высочайшего решения. Следом отправил ещё одно, с припиской: по прочтении уничтожить, где реалистично обрисовал ситуацию, в которой министр внутренних дел не всегда властен назначать своих заместителей: « Генерал-лейтенант Курлов – креатура дворцового коменданта генерал-адьютанта Владимира Дедюлина, весьма влиятельного в ближайшем окружении царя. А так как он видится с императором чаще, то сумел повлиять на него. Государю, как я понял, важна система политических противовесов. Николай не желает, чтоб премьер обладал всей полнотой власти, ибо хозяин земли русской – ОН».
Курлов отрядил в столицу Юго-Западного края тридцатитрёхлетнего статского советника Митрофана Веригина, которому недавно посодействовал в назначении вице-директором Департамента полиции. И попросил Дедюлина направить в Киев мастера политического сыска полковника Спиридовича, занимающего должность заведующего охранной агентурой, выполняющей функции обеспечения безопасности императорской семьи.
– Ибо он находится в вашем подчинении, а не министерства внутренних дел. К тому же прекрасно знает Киев, поскольку три года занимал там должность начальника охранного отделения, кою, можно сказать, передал своему товарищу по Павловскому военному училищу подполковнику Кулябко.
– И не только должность, но и сестру, – хохотнул Дедюлин. – Подполковник является свойственником Спиридовича. Но находится явно не на своём месте. Два года назад Киевское охранное отделение инспектировал полуопальный, – вновь хохотнул, – генерал Герасимов. Очень умный господин. Он констатировал полный развал агентурной работы, бесцельное разбазаривание выделенных на неё средств и низкий профессиональный уровень агентов, с характерными агентурными псевдонимами: «Водочный», «Пивной», «Ликёрный».
– Да-а. У Кулябко своеобразный, судя по кличкам, контингент, – в свою очередь гоготнул Курлов.
– А Спиридовича в Киев я направлю. Ему и по должности положено там находиться. Разве что – вместе с государем. Но пусть отправится пораньше. Государь не будет против. Я недавно с позором проиграл ему три партии в шашки. На радостях – согласится, – поразил Курлова амикошонством по отношению к императору.
Неразлучные приятели: Бобинчик-Рабинович, Ицхак и Хаим мирно ужинали в скромной киевской корчме «Гопак», что на Большой Владимирской.
– Господа, давайте к украинскому борщу и жаркому закажем-таки карпа с грибами, галушки, уточку с домашней лапшой, – изошёл слюной Бобинчик-Рабинович, тряся пухлыми щеками, – и… варенички со сметанкой, – вытер платком губы. – А шо? Я справлюсь. Если фамилия двойная, то и порция должна быть в два раза больше, – загоготал над своей шуткой.
– А есть ещё картофель со свиным мясом и черносливом, шпигованное сало, буженина, и другая некошерная пища, – стал издеваться над обжорой тощий доходяга Ицхак, не удосужившись оценить кухонный юмор приятеля. – Мы сюда не жрать… пардон… не кушать пришли, а на важную встречу, – огляделся по сторонам. – Может ещё от полиции удирать придётся, вот и плакали денежки, уплаченные за заказ. – Пампушки жуй и помалкивай, – велел молчаливому Хаиму. – И не переговаривайся.
– Да я молчу! – возмутился тот.
– А на лице у тебя написано, что споришь.
– Ицхак, давай хотя бы голубцы с мясом закажем.
– Ша, Бобинчик! Вон оно идёт, – незаметно кивнул в сторону двери, и все трое стали внимательно разглядывать приближающегося к ним изысканно одетого, высокого худого человека с толстыми губами и в очках под выпуклым лбом.
– Дмитрий Богров, – подойдя, представился вошедший и улыбнулся, показав крупные, по мысли Бобинчика – лошадиные, зубы.
– Как ви нас узнали? – поразился Ицхак
– Вас трудно спутать с хохлами, господа, – независимо уселся на свободный стул. – Неужели нельзя было назначить встречу в приличном ресторане, а не в этом трактире, – брезгливо окинул взглядом помещение.
– Вот и я того же мнения! – поддержал пришедшего Бобинчик. – Хотя и здесь, при желании, можно неплохо провести время.
– Почему – Дмитрий Богров? – заволновался Хаим, почесав лысый затылок. – А говорили, что НАШ.
– Ваш, ваш, – иронично глянул на него гость. – Мордохай Гершкович Бехарер. Внук известного еврейского писателя Герша Бехарера, книгами коего вы просто зачитывались в юности, – вновь съязвил и громко заржал, выставив, по мысли Бобинчика, два ряда «прелестных лошадиных зубов». – Коли задумали чего, нарушающее заповедь «не убий», так у меня в кармане браунинг заряженный, – предупредил единоверцев, подпортив аппетит Бобинчику.
– Мы тоже, Дмитрий, не хочется называть тебя благородным именем – Мордохай, не с пустыми руками пришли, – сурово обвёл взором гостя Ицхак. – Даже если вдруг сумеешь прикончить нас, от организации не уйдёшь… И все евреи, услышав о тебе, станут плеваться и проклинать твою маму. Тебе хочется этого? – с удовольствием заметил, как гость отрицательно помотал головой. – Идут разговоры, что ты, милейший, служишь осведомителем и несколько раз давал жандармам ценную информацию, – обличительно воззрился на Богрова Ицхак.
– Да нет же, братья, – утратил тот свой апломб. – Моя цель – войти к ним в доверие, как Азеф, и уничтожить кого-либо из высших государственных лиц, вплоть до министра. Чтоб очиститься перед вами и доказать свою невиновность, хоть сейчас могу застрелить первого попавшегося на улице полицейского… Но кому от этого будет польза? Просто одним хохлом станет на свете меньше. Могу ликвидировать даже подполковника Кулябко, явившись к нему, якобы, по делу…