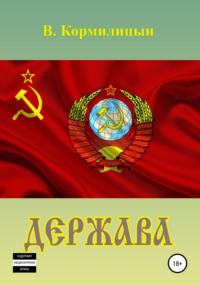Полная версия
Держава том 4

– Служи честно, как все Рубановы служили. И помни – Родина одна! Другой у нас не будет. Защищай её до последнего вздоха, – напутствовал Максим Акимович племянника.
Просто к неописуемому горю Георгия Акимовича, старший сын его, Арсений, после окончания гимназии пошёл учиться не в благородный Санкт-Петербургский университет, а в рассадник бурбонства и ретроградства – Михайловское артиллерийское училище. Скорбь несчастного отца до такой степени была безмерна, что даже не захотел общаться с сыном, и опёку над ним взял Максим Акимович.
После парадного обеда в доме Рубанова-старшего, на который Георгий Акимович с Лизой сочли нужным не приходить, пригласив племянника в кабинет, Максим Акимович и дал ему этот «отцовский» наказ.
Через паузу, дабы племянник усвоил сказанное, продолжил:
– Училище ты выбрал прекрасное. Правда, с 1903 года установлен трёхгодичный курс обучения…
– Не заметишь, как годы пролетят, – вставил фразу зашедший в кабинет Аким.
– Не перебивай, сынок. После свои мысли выскажешь, – ласково попенял ему отец. – В течение трёхлетнего курса станешь изучать: фортификацию, тактику, топографию, аналитическую геометрию, – удивил Акима таинственной дисциплиной, – дифференциальные исчисления… А тебе в академию следует поступать, – видя озадаченный лик старшего сына, заодно проинформировал и его. – Так, какие там ещё предметы? – потерял нить рассуждений. – Ага! Интегральные исчисления, – Аким при этом тяжело вздохнул, – химия, физика, французский, немецкий и русский языки… Словом…
– Будешь как кот учёный, – неизвестно отчего съязвил сын.
– Ну да! – Не стал отрицать отец. – Только станешь не по цепи налево-направо маршировать…
– А вот Павловское училище прошу не поминать всуе…
– Даже и не думал, – улыбнулся Максим Акимович. – Собирался сказать, что юнкер научится метко палить из артиллерийского орудия, – довёл до логического конца мысль и порадовался, что напряжение прошло и племянник уже веселее смотрит в военное будущее.
– В Петербурге держит тон, только юнкер михайлон. Старшие научат Журавушке… Вначале всегда страшно, потом привыкнешь, – поддержал кузена Аким. – Кроме тех неизвестных для меня наук, о которых давеча вещал отец, особое внимание обрати на строевые занятия… Это самое важное…
– А также научишься верховой езде, вольтижировке, езде в орудийных упряжках, – продолжил Максим Акимович.
– Папа', не забудь фехтование, гимнастику… И танцы… Эта дисциплина находится на втором месте после строевых занятий, – улыбнулся Арсению, а потом отцу. – Шучу. А теперь серьёзно. Всегда помни этический кодекс российского офицерства. Основа – долг и честь!
Отец с гордостью поглядел на сына. Не заметив этого, Аким продолжил:
– Инструкция, определяющая правила военного воспитания в юнкерских училищах гласит: «Военно-воспитательная подготовка должна заключаться в глубоком укоренении чувства долга христианского… верноподданнического и воинского. Развитии и упрочении сознания о высоком значении воина, призванного к защите Престола и Отечества». – Мне это в училище с первых дней внушили. Главное – люби Россию… А остальное приложится.
* * *
В департамент полиции, что в доме на Фонтанке, пришёл умело зашифрованный телеграфный донос, о котором тут же было доложено полковнику Герасимову.
Немного поразмышляв, тот догадался, чьих рук дело, и назначил главному эсеровскому лиходею встречу на конспиративной квартире.
«Видно опять тридцать сребреников позарез понадобились, коли так наглеет, – расположившись в кресле, размышлял Александр Васильевич. – Кто б знал, как неприятен мне этот мокрогубый, низколобый еврей с короткой стрижкой и бабской покатостью плеч… И задница у него тоже бабская, – мысленно плюнул полковник. – С каким дерьмом приходится работать… Но, как доложил руководитель заграничной агентуры: пришедший в 1906 году на смену начальнику германского генерального штаба Альфреду фон Шлифену Хельмут фон Мольтке, родной племянник прославленного под Седаном Мольтке-старшего, выдвинул идею, что «дерьма» нет, а есть «кадры». Может, немецкие генштабисты и правы. Работать надо со всеми, кто желает нам помогать… Даже с «дерьмовыми кадрами». Это относится и к моему визави, шефу боевой организации эсеров – Азефу. Параллельно он является и нашим агентом. Внимательно изучил его досье. Когда будущий бомбист учился на инженера в Карлсруэ – видно понадобились деньги, и он связался с Департаментом полиции. Наш весьма «грамотный» делопроизводитель, – с улыбкой вспомнил досье тайного агента, – занёс его в документы Особого отдела как «сотрудника из Кастрюли». Так и значится теперь, – рассмеялся полковник, вздрогнув от неуместного в пустой комнате хохота. – Постепенно мы все сходим с ума… И с той, и с другой стороны, – глянул на часы. – Что-то опаздывает этот иудей. Не похоже на него», – заволновался жандарм.
Чтоб убить время, начал размышлять на посторонние темы. Но как не старался, мысленно всегда возвращался к Азефу: « Иуда был из Иудеи. Запамятовал, откуда родом Евно Фишелевич. Духовно, тоже оттуда. Иуда из Иудеи, а все остальные ученики Христа из Галилеи… Наверное, в этом есть какой-то недоступный мне, да и вообще людям, сакральный смысл… Хотя что тут недоступного: получается, что иудеи не Христов народ, а Иудин… Родил Иуду Симон из Кариота… Значит он Иуда Симонович Искариотский… И тайно работал на Понтия Пилата. Римского прокуратора. А Евно Фишелевич из Карлсруэ работает на меня, Петербургского прокуратора, – опять вздрогнул, услышав в прихожей треньканье колокольчика. – Совсем нервы ни к чёрту с этой службой», – достав из кармана наган, пошёл открывать дверь.
– Евно Фишелевич, – брезгливо пожал потную, мясистую, будто без костей, ладонь агента. – Вы как дилетант-первогодок, право. Ну к чему прислали на Фонтанку телеграфный донос на несуществующего человека? – указал агенту на кресло, усевшись напротив в соседнее. – Думаете, в тюрьме за это будет послабленье? – порадовался проступившей на лице бомбиста матовой бледности и капелькам пота на носу. – Шучу, не пугайтесь.
– Я, Александр Васильевич, очень про тюрьму слушать не люблю. Даже анекдоты, – то ли пригладил ёжик волос на голове, то ли вытер о него потные ладони Азеф.
– А что, про тюрьму тоже есть анекдоты? – немного расслабился полковник, будто ненароком достав из кармана толстую пачку купюр.
– Разумеется. Анекдоты сочиняют про всё.
– И что за хохма про тюрьму? – проявил профессиональный интерес к возникшей теме Герасимов.
– В этом году, как вы знаете, генерал Стессель, сдавший Порт-Артур, отдан под суд и находится в Петропавловской крепости. Вот в народе и говорят: неважно, что Стесселя посадили в крепость. Он её тоже сдаст… – развеселил полковника и захохотал сам.
«Смеётся, будто ворон каркает», – подумал Герасимов.
– С вами, господин Азеф, очень интересно сотрудничать: «Ибо сразу не поймёшь, кого подставляете: наших генералов или своих друзей-динамит-чиков». – Вы нам помогли изобличить Марию Беневскую, по кличке «Генриетта», которая участвовала в подготовке покушения на Московского генерал-губернатора Дубасова. Была арестована и прошлой осенью приговорена к шестнадцати годам каторги. Посодействовали с арестом Давида Боришанского по прозвищу «Абрам», участника покушения на Плеве. Арестован и отправлен на каторгу. Департамент полиции весьма благодарен за одиозную Дору Бриллиант, которая сейчас тоже находится в Петропавловской крепости. Помогли и с арестом члена Петербургского отдела БО Якова Загороднева, проходившего по делу о динамитной мастерской. А в данное время от вас нет никакой помощи, – собрался упрятать пачку купюр в карман.
– Для этого я с вами и встретился, Александр Васильевич, дабы сообщить, что видная деятельница нашей партии, мадам Брешко-Брешковская сейчас находится в Симбирске и мне известен её адрес, – замолчал, поправив вдруг ставший тугим крахмальный воротничок.
– Сказали «а», произносите и следующую букву алфавита.
– Видите, горло пересохло…
– Вон на столе графин с водой.
– Не поможет. Спазм может снять та пачка купюр, что пока находится в ваших руках, – вновь закаркал Азеф, полагая, что остроумно пошутил, и назвал адрес, когда деньги перекочевали в его карман.
– Мне очень пригодились в работе ваши сведения о Лондонском съезде РСДРП, что проходил до девятнадцатого мая сего года, и получил у революционеров порядковый пятый номер. Хотя фракция эсеров там не присутствовала, но работу съезда вы освятили весьма скрупулёзно. Особенно порадовала принятая резолюция о роспуске боевых дружин и запрете экспроприаций. Только на практике толку от этих резолюций – ноль. Уже в июне, под руководством одного из делегатов съезда, некоего Джугашвили, бандит Камо со товарищи, ограбили банковский фаэтон на Эриванской площади в Тифлисе. В результате «Тифлисской экспроприации», как окрестили её газеты, жертвами бомбы, кроме кассира и двух казаков, стали несколько десятков прохожих… Не могли бы по своим связям узнать, где скрываются эти головорезы? Пачка с деньгами будет в два раза толще.
– Постараюсь! Я сам ненавижу эсдеков.
«Любит деньги и, как шутят питерские студенты: «Шибко боится Сибири». На этих двух крючках и висит налимом».
После «тайной вечери с Иудой Симоновичем», – оставшись один, полковник поднялся из кресла и потянулся, хрустнув суставами: «А Сибири чего сейчас бояться? В 1906 году Карповича выслали в забайкальский Акатуй, вместо того, чтоб сразу на осине вздёрнуть. Так по дороге, на одном из этапов, отпросился у охраны за папиросами сходить и был таков… Сейчас за границей их покупает. Азеф сообщил – к партии эсеров примкнул. И мой «дружок» Троцкий бежал. Свердлову всего два года наш гуманный суд дал. Скоро освободят ухаря. Стессель, правда, сидит… Но как у Христа за пазухой. Каждодневные свидания с супругой, чтение книг, усиленное питание… И жди теперь, как бы крепость англичанам или немцам не загнал, – мысленно поёрничал, вновь усевшись в кресло. – Брешковскую арестовывать поручика Банникова отправлю. Погляжу на него в деле. Эсеры могут и отомстить. Осенью прошлого года на генерала Ренненкампфа покушались… За то, что усмирял бунтовщиков на железной дороге. А проигравший войну Куропаткин никаким репрессиям не подвергся. В 1906 году даже отчёт издал. «Для служебного пользования». Решил оправдать себя. Читал этот многостраничный опус. Вполне резонно, что в России не разрешили печатать. Пишет, что у нас всё плохо было в Маньчжурской армии, а у японцев – прекрасно. Значит, так руководил. Не сумел ни порядка в армии добиться, ни побед. Главная опора России сейчас – Столыпин. Имея политическую волю, Вторую думу летом распустил. Поделом болтунам. Мудро им ответил: «Не запугаете!» Последняя его речь в думе потрясла всю Россию: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. ИМ НУЖНЫ ВЕЛИКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ, НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ». Этому человеку стану служить на совесть, и, как говорили в старину: «Не жалея живота своего!»
Новый Год Рубановы встретили дома и без гостей.
– Семейный праздник, – поднимал тосты за 1908 год Максим Акимович.
Его подобный расклад совершенно устраивал – с генералом Троцким ещё будет время встретиться.
– Ты так и не решил, какое выберешь оружие? – обстоятельно обсуждал с Акимом приказ №74 от 1907 года, разрешающий офицерам иметь взамен «Нагана» револьверы и пистолеты других систем.
– Папа', может выбрать «Браунинг?» Наш Ряснянский приобрёл себе «Кольт». Только ни одну мишень из него поразить не может.
– Сынок, давай выпьем за меткий глаз и крепкую руку, – вдохновился Рубанов-старший.
Закусив, продолжили занимательную тему:
– Буданов, словно ковбой, хвалится «Смит энд Вессоном».
– Стрелял я из него. «Наган» лучше. Глеб пишет, что ему пришёлся по вкусу пистолет Люггера «Парабеллум». А я себе куплю Маузер.
– Папа', он позиционируется, на мой взгляд, как лёгкий карабин. У тебя что, ружей мало? Или хочешь с ним на охоту ходить? Давай лучше выпьем коньяку за Новый Год. Шампанское пусть дамы пьют, – краем уха услышал, как маман возмущается тем, что Нобелевскую премию по литературе за 1907 год получил никому в России неизвестный сорокадвухлетний Редьярд Киплинг, а не наш старейший писатель Лев Толстой.
– … Да его мощность и убойную силу не сравнить с твоим браунингом, – восхвалял маузер отец, пропустив мимо ушей про какого-то Киплинга, не создавшего за свою жизнь ни одного пистолета. – Прицельная дальность – почти верста, а не пятьдесят шагов, как у остальных пистолетов.
– Фактическая – двести шагов, – стал спорить с отцом Аким. – А эффектная – всего сто шагов. И разброс пуль большой.
– Мужчины, хватит вам шуметь по пустякам, – с трудом перекричала их Ирина Аркадьевна. – Давайте лучше поднимем тост за будущих молодожёнов: Глеба и Натали, – не желая того, испортила настроение старшему сыну.
* * *
Зима незаметно канула в лету и наступила весна.
В начале апреля Рубановы прибыли в Москву на свадебное торжество.
Правда, чтоб всё подготовить, Ирина Аркадьевна приехала за неделю, остановившись не в гостинице, не у Бутенёвых, а у своей давней подруги Машеньки Новосильцевой.
Ольга ехать категорически отказалась, сославшись на плохое самочувствие и общую слабость.
Когда Аким с отцом, щурясь от яркого света люстр, ступили под своды большого ресторанного зала, их встретил многоголосый цыганский хор во главе с нарядным женихом.
– К нам приехал, к нам приехал, Максим Акимыч дорогой, – бархатным голосом выводила красивая цыганка в цветастой юбке, держа перед собою серебряный поднос с двумя наполненными рюмками.
Выпив, Рубанов-старший бросил на поднос несколько мятых десяток.
Песенно порадоваться приезду Акима цыганка не успела, а он, разумеется, выпить, так как младший брат, обняв его, а затем взяв под руку отца, повёл родственников на почётные места в снятом банкетном зале.
Цыганский хор, бренча на гитарах и заливисто распевая, двинулся за ними.
– Я тут самый невзрачный, – указал на мундир Павловского полка без шитья на воротнике Аким. – Зато тебе повезло. Как раз к бракосочетанию государь вернул гусарскую форму, – оглядел синий доломан брата, расшитый по груди пятью рядами золотых шнуров, и заправленные в короткие сапоги красно-коричневые чакчиры.1
– Вместо погон, как в старые времена, золотые витые шнуры с прикреплёнными гомбочками…
– С чем?
– Гомбочками. На которых определяющие чин звёздочки крепятся, – словно ребёнок радовался новой форме Глеб. – А ещё все офицеры полка вместо уставной драгунской шашки, кавалерийские сабли заказали. Не в деревянных, а металлических ножнах. Покажу потом, – усадив родных, поспешил к своему месту, на ходу крикнув брату: – Подойди с невестой поздоровайся.
«Сияет как луч прожектора, – невесело подумал Аким. – Или как отблеск света на лезвии кавалерийской шашки», – выискивал метафоры, и невнимательно выслушав отцовский тост, пригубил бокал с шампанским.
За столами что-то весёлое кричали гусарские офицеры, совершенно не обращая внимания на отставного генерала и пехотного гвардейца в орденах.
Случайно Аким встретился взглядом с Натали. Глаза её были печальны, что совершенно не вязалось со свадебным весельем.
Глеб с бокалом шампанского ходил между столов и чокался с товарищами, со смехом выслушивая их пожелания.
Натали сидела среди заставленного цветами стола и глядела на Акима.
Видимо от выпитого вина, на минуту ему пригрезилось, что видит её в рубановском саду среди кустов белых роз. Она в белоснежном платье и с книгой стихов на коленях, гладит белую кошку… Кипельно белый батист соскользнул с плеча, открыв нежное тепло тела. Сердце его просто разрывалось от любви к этой хрупкой черноволосой девушке, которая сегодня станет принадлежать его брату. Он будет обнимать эти нежные плечи и целовать жёлтые глаза… Никогда ещё Акиму не было так тоскливо и плохо, как в этот шумный весёлый весенний вечер.
* * *
После свадьбы, в Питере, на пасхальный день 13 апреля, Акима с Ольгой навестила компания старинных друзей-приятелей, которую привёл к ним в дом поручик 145-го пехотного Охтинского полка Виктор Дубасов.
Перво-наперво расцеловав Ольгу, пошёл сюсюкаться с крестником.
Когда все разместились за столом, во главе которого восседал Максим Акимович, Дубасов, выпив и закусив, изрёк:
– Дамы и господа, – оглядел присутствующих, сделав замечание Дроздовскому: – А ты Михаил Гордеевич, зря улыбаешься. У меня очень серьёзное сообщение, о котором скоро пропечатают в газетах.
– Опять Буфф развалил? – выдвинул версию Аким.
– В сущности, угадали. Только на этот раз вдребезги разнёс провинциальный театр, – хихикнула белокурая Полина. – Мне с трудом удалось оторвать поручика от трагика.
– Да-а! – задумался на секунду Дубасов, подбирая приличный эпитет к слову «лицо». В уме, как нарочно, вертелись лишь выражения: рожа, харя и морда. – О-о! Физиономия этого актёришки стала весьма комичной после встряски.
– За что фигляра обидели? – не слишком сердито поинтересовался Рубанов-старший.
– Этот скоморох осмелился высмеивать со сцены отца Иоанна Кронштадского.
– Мы с Виктором случайно попали на пьесу «Чёрные вороны», что представил публике бывший епархиальный миссионер, господин Протопопов, – добавила Полина, успокаивающе проведя тыльной стороной ладони по рукаву кителя поручика. – Материалом для неё послужили клеветнические статьи, что печатают в газетах толстовцы. По этим статьям псевдодраматург и слепил свой пасквиль.
– Просто поражён вашим деянием, господин поручик, – хохотнул Рубанов-младший и сделал паузу, ожидая, пока Аполлон разольёт по бокалам вино. – Никогда не замечал в вас религиозной одержимости. Ну ладно для куража пианино сломать…
– О, бесценный друг мой, – поразил приятеля вступлением Дубасов. – Сам знаешь, на войне самые безверные верить в Бога начинают… Однажды, думая, что живым из передряги не выйду, вспомнил почему-то отца Иоанна и мысленно попросил помолиться за меня… И остался жив… А возвращаясь из Маньчжурской армии домой, увидел по всей линии железной дороги, на столбах, заборах и стенах порочащие старца рисунки и листы со скабрезными стихами.
– Безбожие это бездушие народа. Либералам и бомбистам срочно понадобилось разрушить народную веру, – прервал поручика Максим Акимович. – Опустошить совесть солдатскую и толкнуть на преступления… Что и происходило на транссибирской магистрали, пока Александр Николаевич Меллер-Закомельский с Павлом Карловичем Ренненкампфом не прекратили беспорядки в полосе железной дороги. Как отставной генерал и поживший человек, много повидавший на своём веку, открыто скажу вам, юные господа… Нас, стариков, в большинстве своём ещё охватывает священный, чуть не запредельный трепет перед императором, олицетворяющим Россию. Для кого-то из моего поколения – это древние, освящённые веками устои, которые и означают саму жизнь… Смысл её. Ради чего можно пойти на любые жертвы и претерпеть любые страдания… Разумеется, есть среди нас и меркантильные люди, их, может даже, большинство. Ждущих от императора хороших пенсий, чинов, орденов, денежных выплат и прочих, таких вожделенных благ. И всё равно, на мой взгляд, это лучше, чем желать развала страны и восстания низов. Ведь огромная часть сегодняшнего общества видит в лице монарха лишь цензуру,
нагайки, жандармов и тюрьмы… И не замечает подъёма промышленности и улучшения жизни. Им это даже не надо. А то трудно станет поднимать народ на революцию.
Глядя на отставного генерала, Дроздовский подумал, что его скепсис к уходящему поколению исчез: «Во все времена имеется недопонимание между отцами и детьми. Ещё Тургенев сочинил на эту тему книгу. Старшее поколение хотя бы знало, чего им надо и верило, чему служило… А сейчас лишь фрондирование своим отрицательным отношением ко всем начинаниям власти… Торжество самомнений и амбиций вместо верной службы Отечеству. В чести сейчас не патриоты, а так называемые «критически мыслящие личности», – сурово сжал рот. – В стране меняется отношение к царской власти. Традиционная абсолютная монархия уже сошла на нет… Как бы не рухнула и конституционная».
Отец Иоанн знал, что этот год станет последним в его земной жизни.
15 лет назад он предсказал свою кончину: «Смерти я не боюсь, – долгими ночами думал он. – И даже возгораюсь крепким желанием увидеть ХУДОЖНИКА, который меня сотворил по образу и подобию Своему с разумом, чувством, свободой воли и бессмертьем души… Больно за Россию. Только и думаю о ней, оставляя пределы Мира. Я знаю, у России есть душа. Это – Православие. Погибнет душа – не станет и России. Сегодня у меня важный день… Сил уже мало осталось, но надо собраться… Депутаты Третьей Думы просят встречи со мной».
С трудом поднявшись с постели, упал на колени пред иконой Христа с трепетным светом лампадки и зашептал ежедневную свою молитву:
– Господи! Имя Тебе – Любовь: не отвергни меня, заблуждающегося. Имя Тебе – Сила: подкрепи меня, изнемогающего и падающего. Имя Тебе – Свет: просвети душу мою, омрачённую житейскими страстями. Имя Тебе – Милость: не переставай миловать меня», – вспомнил завет Иоанна Златоуста: «Священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, и чтоб он мог сказать: и уже не я живу, но живёт во мне Христос».
9 мая утром отец Иоанн провёл раннюю службу в Андреевском соборе. 49 членов Третьей Государственной думы присутствовали на ней. И здесь же стоял весь кронштадский генералитет, адмиралы, командиры кораблей.
Забыв о болезни, громко, на весь собор он возвестил:
– Вы, собирающиеся в Третью думу и готовящиеся быть советниками Царю, которого Держава занимает шестую часть света… Изучите всесторонне её потребности и нужды, болезни и раны родины, её бесчисленные сокровища, земли и воды, коими так много пользуются иностранцы по непредприимчивости русских… Будьте правой рукой Государя, очами Его, искренними и верными, деятельными и доброжелательными. При этом помните, что Отечество земное с его церковью, есть предверие Отечества небесного. Потому любите его горячо, и будьте готовы душу свою за него положить, чтобы наследовать жизнь вечную – Там!
«Нет ничего на земле быстрее времени. Даже пуля в сравнении с ним не летит, а ползёт, – после двадцатишестилетия стал задумываться о годах Аким. – Старею… Не по дням, а по часам», – несколько утрировал он.
Словно подтверждая его теоретические выкладки, мигом пролетело лето и в конце сентября, как гренадёрка на голову ( названием своего головного убора в известной русской поговорке павловцы заменяли слово «снег»), свалились младший брат с молодой женой и собакой Ильмой.
– Меня в драгунский отдел Офицерской кавалерийской школы перевели, – обнимал Акима и целовал руку Ольге Глеб. – До пятнадцатого августа следующего года обучаться стану, – радовался встрече. – Когда родители из Рубановки изволят пожаловать? – с улыбкой наблюдал, как растерявшийся старший брат целует руку такой же растерянной Натали и после, для успокоения, гладит собаку.
– Первого октября обещали прибыть.
– О-о! Как раз в этот день занятия начнутся. – Натали, любимая, ну чего ты как посторонняя стоишь? Мадам Камилла…
– Любимая.., – шутливо съязвил постепенно приходящий в себя старший брат.
– Ха-ха! Мадам, покажите нашу комнату и наведите в ней порядок.
– Чтоб как в казарме всё блестело, – вновь внёс шутливую словесную лепту в речь взбалмошного брата Аким.
Женщины заулыбались.
– Натали, нам придётся, дабы не выводить из равновесия братьев, вновь подружиться.
– Да, Ольга, согласна, – не стала спорить та и, подойдя, чмокнула в щёку бывшую подругу. – Обстоятельства складываются именно таким образом, – добавила она, неожиданно рассмешив всю компанию.
– Чересчур выспренно и пафосно, – вновь высказал своё мнение Аким, подумав: «Неужели так бывает? Только вчера разглядывал фотографию, где нас с Натали снял фотограф с кошачьим бантом на шее… И вот сегодня она здесь, рядом, – исподволь любовался жёлтыми глазами и мягкой, неброской красотой молодой женщины. – Неужели я всё ещё люблю её?» – поразился и в то же время испугался он. – Это что на Шпалерной в Аракчеевской казарме? – не слушая подтверждения, добавил, дабы восстановить душевные силы и образ бравого вояки. – Николаевское военное училище покажется тебе институтом благородных девиц…
– А вот институт, милостивый государь, просим не трогать, – шутливо возмутились дамы.
– Ну тогда, – развёл он руками, радуясь в душе, что натянутые отношения между ними проходят, – желаю тебе не стать кавалером ордена «Золотой репы», – развеселил брата. – Не лететь с коня головой в опилки первым из курса, – объяснил дамам значение награды. – Слышал, что двухлетний курс проходят около ста офицеров кавалерийских полков, а на ужасные парфорсные охоты, введённые бывшим начальником школы генералом Брусиловым, направляются даже толстяки-полковники, кандидаты в командиры полков. Говорят, некоторые из них, с перепугу уходят в отставку, лишь бы не скакать с десяток вёрст по пересечённой местности за бегущими «по живому зверю» гончими собаками.