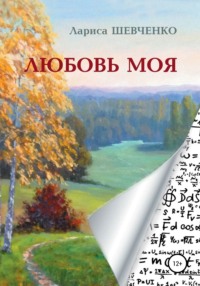полная версия
полная версияНадежда
– Кого пошлешь?
Старший легонько пнул самого младшего в сторону красной точки:
– Мигом скачи да проси вежливей, со слезой. И сразу линяй, недотепа.
Малыш не огрызнулся, даже не огорчился за «недотепу». Видно, привык подчиняться. Не теряя времени даром, продолжаю разговор и, медленно переставляя ноги, выбираюсь на центральную асфальтовую дорожку. Ребята наглеют, предлагая всякие гадости. Я не возмущаюсь, страшно боюсь навлечь на себя гнев. До выхода из парка оставалось еще метров пятьдесят. Запыхавшись, примчался гонец. Он принес три спички и серный кусочек от спичечного коробка. Второпях мальчик сломал одну спичку. Зажег вторую. Я наклонилась, чтобы прикурить, но кто-то толкнул меня. Выпрямившись, я метнула негодующий взгляд и сказала сердито: «Черт возьми, схлыньте!» Ребята расступились. Передо мной на дорожке остался только малыш. Опять наклонилась, медленно раскуривая папиросу, не вдыхая дыма. Так учил Толян, когда в детдоме я из любопытства захотела узнать вкус запретного зелья. Попыхтела папироской и неожиданно резко оттолкнула мальчишку. Он упал, а я, перепрыгнув через него, помчалась со всех ног к выходу из парка. Несколько секунд замешательства – и ребята кинулись за мной с криками и свистом. Знаю одно: так быстро еще никогда в жизни не бегала. Я не могла остановиться и на полной скорости перемахнула через дорогу. Хорошо, что машин в тот момент не оказалось. Врезавшись плечом в здание, упала. Я понимала, что пацаны не рискнут выйти из парка, и не торопилась подниматься. Сердце колотилось, в висках стучало, лицо горело, дрожь не унималась. И тут навалился настоящий страх. Я представила, как «метелят» меня глупые, жестокие мальчишки. Просто так, от нечего делать. О таком рассказывала жена папы Яши, наслушавшись подобных историй в суде. Меня затрясло еще больше. С трудом поднялась и, как пьяная, нетвердо ступая, направилась к дому. У меня было ощущение, что асфальт состоял из ям и бугров.
Вспомнила о книге. Все в порядке – она за пазухой. Ключ в кармане. Тихонько открыла дверь квартиры. Все спали. Обошлось.
Лежу и думаю: «Теперь я знаю, что такое паническое бегство. Дуреха! Устроила «читальный зал» в сквере! Чуть не поплатилась за свою глупость. Я же знала, что ночью в парке опасно! Почему всегда кажется, что плохое может случиться с кем угодно, только не со мной? До сих пор судьба оберегала меня. Но даже в сказках добрые ангелы-хранители заботятся только о маленьких. А мне четырнадцатый год. Почему я не умею думать? А может, мне хочется продлить детство? Пора взрослеть!»
ОМШАНИК
На это лето отец запланировал построить шлакобетонный омшаник размером три на четыре и на два метра кубических, а поверх него поставить сарай в три метра высотой с наклонной цементной крышей. Рыть котлован начали еще весной, сразу после посадки картошки.
Встаем спозаранку. Работаем всей семьей. Кроме бабушки, конечно. Ей и на кухне забот хватает. Три раза в день готовить на пятерых первое, второе и третье – труд невелик, а колготы на целый день. Противное дело – кухня. У плиты летом жарко. В хате ни холодной, ни горячей воды, ни слива. Только успеваешь ведра туда-сюда таскать. И посуду мыть в миске – не большое удовольствие. «Никакой личной жизни», – шучу я, помогая бабушке.
Так вот, про стройку. Побросаю я землю часок-другой и бегу грядки полоть в качестве отдыха или воду таскаю для полива. Еще поработаю на котловане, сколько сил хватает, и снова переключаюсь на какие-нибудь мелкие дела. Это у моих детдомовских друзей забот раз-два и обчелся. А у меня их невпроворот – только успевай поворачиваться! Если дождь идет, значит все в хате возимся. У женщин стирка, уборка, починка. Отец инструмент ладит, в школу наведывается. Насчет сена в сельсовет ходит договариваться, по поводу топлива на зиму для учителей пороги у начальников обивает. У каждого свои заботы.
Работая землекопами, мы с Колей устраиваем что-то вроде негласного соревнования. Если он чем-то занят, я тороплюсь в яму. Брат тоже не уступает, старается, чтобы за ним первенство было, и, когда я ковыряюсь на огороде, пытается обогнать меня. Случается уставать, но я виду не показываю, только поддразниваю Колю:
– Кишка тонка, еще полчасика повкалывать?
А иногда, совсем обессилев, со смехом говорю:
– Мои мощи бензинчика требуют, мотор не тянет.
И мы идем есть. Бабушка встречает нас словами:
– Труженики мои проголодались!
– Да ладно, ба, нам это в удовольствие, – небрежно отвечаем мы, довольные похвалой.
Обедаем, не торопясь, степенно, как взрослые. Мы на самом деле чувствуем себя солидными, нужными. Хотя, покончив с едой и тем временем отдохнув, начинаем тут же «воевать» под столом ногами и визжать. Бабушка не ругает нас, а только улыбается:
– Неугомонные, поберегите силенки!
Чем глубже копаем, тем труднее выбрасывать землю из ямы и тем с большим удовольствием мы с братом выносим ее ведрами на дорогу в колею. По очереди такой отдых себе устраиваем. Родители подобной привилегией не пользуются. А чтобы мы не чувствовали себя слабаками, мать подбадривает и сама посылает нас наверх: «Пора землю таскать. Во дворе ступить негде. Вдруг дождь пойдет и грязь развезет?»
Наконец, яма готова. Следующий этап строительных работ – шлакобетонные стены подвала-омшаника. Мы с братом готовим смесь из шлака, цемента и воды и перетаскиваем ее к «объекту». Отец принимает ведра, высыпает за опалубку и долго утрамбовывает бревном с ручкой. А мы тем временем готовим следующую порцию. В удачный день до двадцати пяти замесов выдаем. Устаем, конечно. Тяжелее всего таскать раствор. С утра по целому ведру носим и бегом, а к вечеру уже полведра еле-еле волочим. «После такого спортзала вы можете без боязни на любые соревнования по тяжелой атлетике выходить», – шутит отец.
Когда стены омшаника выстроили, пошли собирать по селу металлический хлам: толстую проволоку, куски от старых кроватей, обрезки арматуры. И все это для того, чтобы сделать сетку для потолка омшаника перед заливкой раствором.
Потом выводили стены сарая. Строить верхнюю часть оказалось тяжелее, но мы были готовы физически, потому что трудности нарастали постепенно. Ох, и поупражнялись мы, когда стены «выросли» выше нашего роста! Каждое ведро приходилось поднимать на высоту вытянутых рук. Я пыталась настаивать на механизации работы с помощью блока и веревки, но отец не захотел использовать мое предложение, объяснив, что оно имеет смысл только при большом строительстве, так как на подготовку усовершенствования уходит много времени.
Несмотря на усталость, мы все равно вечером находим в себе силы идти к друзьям. Цементный раствор с рук и ног смываем, переодеваемся, – и только подошвы сандалий мелькают на дороге. Надо отметить, что наши собственные пятки так огрубели, что мы со шлаком и цементно-известковыми растворами могли работать без обуви.
Наконец, и стены сарая готовы. Арматуру крыши отец прикрепил проволокой к двум огромным рельсам, которые с трудом взволокли наверх мужчины с нашей улицы. Рельсы оказались длиннее, чем надо, и мы с братом получили задание отпилить их концы, чтобы они не утяжеляли крышу. Металл не дерево. Там туда-сюда пилой поводил – и кусок отлетает. А тут маешься, маешься, а пропил только на сантиметр углубился. Работаешь много, а внешнего эффекта нет. И сидеть на железке неудобно. Не поерзаешь, можно свалиться. Сначала я даже злилась, а потом спросила себя: «Я ее или она меня доконает»? Долго возилась. Дело не то чтобы трудное, монотонное. Одолела-таки свой кусок. Не зря бабушка к терпению приучала!
Покончили с крышей, и началась чисто женская работа – штукатурить. Я не умела пользоваться мастерком, поэтому цементным раствором мазала шершавые стены омшаника как глиной, а потом деревяшкой выравнивала. Руки оказались нежней ступней ног, и цемент разъел мне пальцы до костей. Но я никому не сказала об «аварии», обвязала пальцы тряпочками и продолжала работать. Как-то дядя Петя увидел раны, сделал мне разгон и научил работать мастерком. Руки недели через три зажили.
К осени мы закончили стройку года, и отец торжественно поместил свои ульи в теплый, надежный омшаник. Прекрасный дом для пчел отгрохали! Теперь не надо кланяться родне. Мелочь, а приятно!
– Настраивайтесь на следующее лето сарай строить. Старый совсем разваливается, – сказала бабушка.
– План на ближайшую пятилетку нам известен, – деловито и сдержанно, как подобает труженикам, отвечали мы с братом.
МОСКОВСКАЯ ПОДРУГА
Виола каждое лето приезжает из Москвы в гости к своей бабушке. Она на два года старше меня и очень отличается от всех нас. Во-первых, Виола очень красивая: черноглазая, пухленькая, с черными распущенными по плечам волнистыми волосами. У нас никто не рискует расплести косы. Не положено. В школе ни одна волосинка не должна висеть над глазами, никаких челок и кудряшек! Я по десятку приколок использовала, чтобы по всем правилам закрепить свои непослушные волосы. Во-вторых, Виола носит короткие юбки, которые являются для нас верхом неприличия, а также яркие блузки, шарфы и береты. К волосам прикалывает красную розу. В движениях небрежная грация. Держится непринужденно, даже слишком, с моей точки зрения. Но при этом остается милой и естественной.
Для нас она – символ столичных детей. Рядом с нею я чувствую свою забитость, даже убогость. Она не демонстрирует свои знания. Я не знаю, каковы ее успехи в школе, но поведение говорит о том, что у нее все великолепно. Нас она обучает всякой ерунде: играм в карты, карточным обманам, разучивает с девчонками гадкие, пошленькие песенки, на исполнение которых у меня язык не поворачивается. А мои подружки, сбившись в кучки, кто шепотком, а кто во все горло восторженно распевают их. Мне всегда казалось, что столичные дети должны быть умнее нас, культурнее. А тут никакой пресловутой интеллигентности и деликатности! Иногда я замечаю, что когда Виола ловит на себе мои растерянные взгляды, то меняет тему беседы и начинает говорить о чем-то более серьезном. Я поделилась с любимой учительницей Александрой Андреевной своими переживаниями, а она рассмеялась:
– Расслабляется девчонка, ей в Москве надоедает быть правильной. Это как отпуск от трудной работы. Ей хочется развлечься.
– А я как расслабляюсь?
– Ты дерешься, громко кричишь, бузишь на уроках.
– Не так уж и часто балуюсь, – смутилась я.
– Поэтому ты вся в крайностях: то молчишь, слова не вытащишь из тебя, а то превращаешься в хулиганистого мальчишку. Бунтарство тебя распирает. Понимаю, трудно постоянно беспрекословно подчиняться. И все же при всех хороших качествах ты не подарок.
– Знаю, – хмуро согласилась я и подумала: «Никто не понимает, отчего я «встрепанная», отчего заводная!»
После разговора с учительницей я стала терпимей относиться к Виоле, хотя ее песенки и россказни так и не научилась воспринимать спокойно. Я расспрашивала ее о жизни в Москве, но ничего особенного не услышала: красивые магазины, шумные компании, беготня по подворотням. Эх, мне бы столько свободного времени, как у Виолы! Летом у нас бывает время почитать, но только урывками, когда у родителей послеобеденный сон. Встают они очень рано, потому что в полуденную жару работать трудно. А Виола летом не читает. Отдыхает даже от художественных книг. Смешно!
Но вот один вечер с нею запомнился мне надолго. И я совсем другими глазами взглянула на москвичку.
Задержалась я у родни отца. Когда вышла за калитку, то оказалась в полной темноте. Как в погребе. Ни звездочки на небе, ни самого слабого огонька в хатах. Черным-черно вокруг. Ноги переставляю осторожно, примеряюсь. Глаза немного привыкли к темноте, и теперь еле заметные силуэты хат окружили меня бесформенными, призрачными глыбами. Вот и моя улица. Чуть сероватая лента дороги уверенно ведет меня к дому. Удивительная тишина теплой летней ночи погрузила меня в раздумье. Ни страха, ни волнения. Спокойно, благостно на душе, как будто я под теплым одеялом или у бабушки на печи под утро, когда легкое тепло от кирпичей уже не может разморить, а лишь приятно баюкает. Ночь приняла меня в нежные объятия. Размышляю: «Хаты белые, а я их плохо различаю, почему? Ясно! Дальше стоят. Дорога хоть темная, но под ногами».
Торопиться не хочется. Воздух еще не остыл после жаркого дня и приятно ласкает кожу. Подхожу к дому, осторожно трогаю щеколду. А она громыхнула как выстрел. Инородный, не природный звук. Притворила калитку. И опять хрипло лязгнул засов. Тишина во дворе такая, что слышно, как вздыхает корова в хлеву и бормочут сонные куры на насесте. За воротами в палисаднике вяло перешептывается вишняк. У забора ясень что-то настойчиво доказывает осинке, а она нервно возражает. «А во дворе тишь и гладь, божья благодать», – так говорит бабушка Аня. Воздух здесь недвижимый, пропитанный запахами скотного двора, цветов и человеческого присутствия. Надо мной громада темного бархатного неба. Удивительно! Небо не давит. Я не ощущаю его черным панцирем. Оно радует, завораживает тайной глубиной.
Мысли нарушил далекий разговор. Прислушалась. Виола с кем-то разговаривает. Тихонько выбралась на улицу. Слышу: со стороны луга, напротив дома Лили, голос Ярослава из десятого класса. Слова различаю четко:
– …Школьный оркестр вчера участвовал в областном смотре-конкурсе и получил Почетную грамоту за исполнение народных песен. Наш руководитель – Дмитрий Федорович – по национальности грек. На фотографии я видел его семью, где все черноволосые, усатые и похожи друг на друга. До войны он рос на Украине среди обрусевших немцев, поэтому, несмотря на то, что по образованию зоотехник, преподает нам немецкий. Язык знает великолепно! Получает журналы и книги на немецком языке. Интересуется русской, греческой, украинской культурой. Сегодня мы из города приехали поздно и в школу музыкальные инструменты не понесли, а сложили в хате учителя. Гитару я под честное слово выпросил на вечер.
– Сыграй, – попросила Виола парня.
Он начал потихоньку перебирать струны и петь. Я подошла, поздоровалась и села рядом. Быстро, как мотыльки на свет, на звуки музыки слетелись ребята со всей улицы. Виола внимательно выслушала игру Ярослава, а потом как-то очень вежливо и сдержанно попросила гитару. Такой я ее еще не видела. Парень поколебался и спросил:
– Ты из чьих будешь?
– Москвичка, – с достоинством ответила Виола.
– На, только осторожно, – сказал Ярослав и протянул гитару.
– Понимаю. Сама в оркестре играю, – улыбнулась Виола.
Она удобно устроилась на пеньке и начала по-своему настраивать гитару. Ярослав переживал, но терпел вольное обращение с инструментом. Виола легким движением прошлась по струнам и спросила:
– Что сыграть?
– Можешь молдовеняску? Я аккомпанировал на конкурсе, а девчонки плясали, – бойко похвалился десятиклассник.
На минуту Виола задумалась, и ее пальцы медленно, но уверенно заскользили, как поплыли. Полилась тихая, нежная музыка. Она не нарушала теплого летнего вечера, а сливалась с шорохом ветвей. В гулкой, чуткой тишине вздыхало болото, всхлипывала птица, неожиданный порыв ветра приносил и бросал крупные капли дождя, которые барабанили по металлической крыше. Потом дождь затихал. Трепетали листья…
Мелодия закончилась, а мы не шевелились. Музыка продолжала звучать в наших головах запутавшимся в деревьях ветром, плеском реки, скрипом плохо смазанной телеги, отдаленными сигналами грузовиков, движущихся в «заготзерно». В этот момент мне показалось, что я почувствовала запах бензина.
Молчание нарушил парень.
– Как называется произведение? У тебя странная манера игры. Я не представлял, что гитара может так петь. Я, оказывается, только бренькаю.
Виола улыбнулась, отчего вокруг ее лица появилось еле заметное сияние. Потом она опять стала серьезной, и сияние пропало.
– Если музыка тронула тебя, вышлю ноты. Я написала ее давно, под влиянием моего первого приезда в деревню.
Думаю, остолбенела не я одна.
– Давайте я исполню вам песни, которые сама только в этом году услышала от студентов, живущих в нашем дворе.
И она запела тихим, бархатистым, низким голосом: «Неуверенный день…» Я была ошеломлена песней. Она поразила меня глубиной содержания.
Неуверенный день, неуютный, размытый.
Я к друзьям прихожу раздраженный, не бритый,
И они к моему лишь коснутся плечу —
Я стою и молчу, я стою и молчу…
…Будут думать домашние мудрые боги:
«Значит, трудно идти одному по дороге?»
Им, наверно, хотелось бы думать и знать,
Что, как слон в их долину, я пришел умирать…
Каждая строчка бередила душу и будто ложилась в заранее приготовленную нишу сердца. Слова ранили больно, безжалостно, заставляли сопереживать, дрожать. Потом звучала «Канада». В этой песне кто-то мощно, ярко, но очень грустно проживал свою жизнь. Была в ней и неугомонная неистовая страсть к жизни, и бесконечная, изматывающая тоска по Родине. Тихие аккорды гитары уносили меня в неведомое, особенное. Хотелось целую вечность сидеть под темным небом и все больше и больше погружаться в море незнакомой, печальной музыки.
Виола тихо запела:
Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит…
Господи, какие слова! Невозможно сказать лучше. Сердце как тревожат!
Громкий голос матери разрезал тишину:
– Живо домой!
Я, привыкшая к мгновенному выполнению приказов, на этот раз не смогла сразу отключиться. Виола мягко подтолкнула меня в плечо:
– Иди. Тебя зовут.
Я медленно поднялась и каким-то неуверенным шагом направилась в сторону дома. Крик опять пронзил ночь.
– Иду, иду, – досадливо отозвалась я, стараясь сохранить в душе ощущение божественного.
Состояние отторжения от мелочей жизни все еще держало меня в своих объятиях. Я летала, я пребывала в другой, удивительной, очень лирической жизни! И мне она нравилась.
Молча зашла в хату, молча легла. Вместе с музыкой ко мне прилетел сон, такой же таинственный, необыкновенный, возвышенный и очень нежный.
Среди ежедневных будней этот вечер был праздником души, праздником познания глубины моих и чужих чувств. Засыпая, я с теплотой вспоминала Виолу, и прежнее непонимание, недовольство ею казалось теперь примитивным, мелочным, глупым.
ЗАГАДОЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Люди у магазина тихо переговариваются между собой. Подошел дед Никита с Нижней улицы, занял очередь и сел в сторонке на кирпичи, подложив под себя сумку. Ему лет восемьдесят. Волосы белым пухом взлетают от ветра. Линялая латанная длинная рубаха подвязана пестрым пояском от женского халата. К нему подсел сосед Митрич – моложавый, краснолицый старик с веселыми глазами:
– У тебя, браток, носок ботинка рот открыл. В футбол играл? – спросил дед Митрич дедушку Никиту, щуря узкие веселые глаза.
– А то ж нет? Пока притопал сюда, все колдобины да камни на дороге пересчитал. Хорошо хоть не ползком передвигаюсь, – усмехнулся старик.
– Да ты на трех ногах, небось, еще до станции добираешься?
– Нет. Стара челночит. У нее нет пудовых гирь в ногах.
– Предложи тебе скинуть годков тридцать, так согласился бы, а?
– Мы все желаниями богаты, – улыбнулся дед Никита пустым ртом.
Веселые морщинки побежали по его худому загорелому лицу. На миг оно стало моложе. Вислые усы взъерошились, поплыли кверху и тут же опустились, придав деду унылый, усталый вид. Он прикрыл глаза и задумался. Митричу скучно одному, и он опять пристает к деду Никите:
– Заходь ко мне ввечеру, есть у меня.
– Чего есть? – не понял старик.
– После гостей кое-что в заначке схоронил от Нюськи. Приложимся?
– А какой нынче праздник?
– Просто выпить хочется.
– Пить хорошо, так же как и не пить, – изрек дед Никита и опять задремал.
Тут Митрич приглядел на пеньке справа от керосиновой лавки Ивана Ивановича с папироской, оживился и полный новых надежд направился осуществлять задуманный план. Женщины говорили о сиротской зиме, лысых озимых, о поздней Пасхе и прочих хозяйских заботах. Подбежал со слезами к бабушке Владимировне белоголовый внучок Петька. Он бормотал что-то непонятное. Я только и услышала:
– Не подумал…
Бабушка выслушала его и мягко сказала:
– Думать не будешь, все позабудешь, даже то, что знал. Ты все видишь, да мало понимаешь. Гляди, в другой раз не попадись, иначе отец лозиной обучит. Не нарывайся. Не лезь к большим мальчикам.
Какая-то женщина тяжко вздыхает:
– Муж хоть слабый да кривой был, а все равно подпорка в жизни…
Мне скучно. Вспомнилась очередь в кассу пединститута, где мать получала деньги за лекции. Стоявшая перед ней женщина поставила впереди себя подругу. К ней подошел интеллигентного вида старичок и спокойно спросил:
– Гражданочка, зачем вы наказываете всех людей в очереди? Одного человека кассир обслуживает три минуты. Значит, каждого из нас, стоящих после вашей знакомой, вы заставляете стоять дольше. Я посчитал, нас – двадцать три человека. Если ваша знакомая очень торопится, так поставьте ее на свое место, а сами идите в конец очереди. Так будет честней. Быть добренькой за счет других – непорядочно.
Женщина смутилась и вообще ушла из зала. Никто больше не нарушал порядка. А вот на рынке в тот же день грустная история произошла. Очередь за арбузами протянулась через всю базарную площадь. Толпа колыхалась серыми неприветливыми волнами. Впереди меня стояла маленькая старушка. О таких говорят: божий одуванчик. Крупные арбузы заканчивались, и люди заволновались. В толпе возникло смятение. Началась давка. Тут позади себя я услышала громкий шепот: «Нажимай сильней, выдавливай слабаков!» Оглянулась. За моей спиной стояла крупная женщина. Презрительная ухмылка скривила ярко накрашенный рот, свирепо блестели темные бычьи глаза. «Не поддамся!» – разозлилась я. Долго сопротивлялась. Но опоры у меня не было. А держаться за старушку я не могла. Боялась сделать ей больно. И в результате мы с нею оказались в числе выброшенных. Старушка растерянно разводила руками и тихо бормотала: «Нельзя же так, товарищи! Я целый час стояла…» В ее глазах блестели слезы. И тут я слетела с тормозов. «Люди, – обратилась я, – защитите старого человека!» А они крепко держались друг за друга, потому что хамоватая компания продолжала напирать, и лишь бросали сочувственные взгляды на маленькую старушку. А я уже не могла остановиться. Уставившись на зачинщицу безобразного поведения, я завопила: «Где ваша совесть? Бабушка намного старше вас!» Мои возмущенные выкрики тонули и растворялись в пустоте. «Наверное, и в войну вы были такими же злыднями!» – закричала я хриплым срывающимся голосом. Гробовая тишина придавила людей в очереди. Какой-то молодой человек позвал меня:
– Девочка, становись впереди меня. Вместе мы выдержим натиск.
– Нет, – ответила я нервно, – не могу больше находиться в такой обстановке. Не хлеб. Обойдусь. Хотела родителей и брата порадовать. Если сможете, бабушке помогите....
Продавщица отсчитала двадцать человек и прокричала:
– Запомнила последнего!
Люди потоптались и стали сердито расходиться. А я пошла к Виоле.
Сегодня она с таинственным видом вынесла журнал и приказала малышам «сгинуть». Остались я, Валя и Зоя. Убедившись, что мы одни, Виола сняла газетную обертку. На обложке – нагая, эффектная девушка, из-за плеча которой выглядывал некрасивый мужчина с волосатыми обезьяньими руками. Зоя замерла, завороженная. На меня яркая картинка не произвела такого впечатления. Я была смущена ее непривычной откровенностью. Но, когда пригляделась к мелким картинкам по периметру обложки, меня будто по голове стукнули чем-то тяжелым, но мягким. Я растерянно рассматривала раздетые пары, пытаясь вникнуть в их позы, осмыслить назначение странных упражнений. Но удивили меня не сами картинки, а то, что мне они знакомы. С одиннадцати лет по ночам меня преследовали странные сны. Мне было приятно их видеть, но я чувствовала, что есть в них что-то не совсем правильное, запретное. Но что именно нехорошее, не понимала. Сны были нечеткие. Когда я пыталась их разглядеть, они расплывались или совсем исчезали. Поначалу это меня раздражало. Но так как в осознанные картины восприятие не складывалось, сны перестали меня интересовать. Они не закреплялись в памяти, и, просыпаясь, я толком уже не могла припомнить видений ночи. Позже сны прекратились, и я забыла о них. А теперь на картинках журнала я четко и ясно увидела то же самое и даже на мгновение почувствовала те же приятные ощущения внутри себя. Я испуганно взглянула на подруг и ушла домой. Я была потрясена неожиданным непонятным открытием, и в то же время во мне осталось неосознанное, брезгливое ощущение, будто в руках я держала что-то гадкое.
Вечером Виола сама подошла ко мне.
– Ты не рассказала родителям о журнале? – обеспокоенно спросила она.
– Нет, конечно.
– А что тебя так испугало?
Я объяснила. Виола загадочно улыбнулась:
– Ты, наверное, будешь темпераментной.