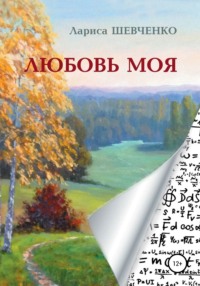полная версия
полная версияНадежда
– Ты городская? Приехала к директоровым?
«Что такое директоровы?» – мелькнуло в голове. Не знаю почему, но ответила утвердительно. Старшая весело предложила:
– Айда с нами играть!
Я медлила с ответом.
– Мы около вашей хаты будем, не бойся, не заругают, – сказала младшая из них.
Я вышла за калитку. Бойкая девочка затараторила:
– Я твоя соседка Зоя, это моя сестренка Ниночка, а это Валя с нашей улицы. Мы с ней в 1 «А» вместе ходим. Давай бабу лепить?
Зоя мне понравилась. Пухлая, голубоглазая, краснощекая. Концы ее шали смешно перекрещены на груди и завязаны сзади узлом. Пальто длинное, до пят. Из-под него выглядывают красивые белые валеночки. А на мне – большие, бабушкины, подвернутые сверху. Меня никогда не беспокоил внешний вид одежды. Было бы тепло!
Валя, худенькая, носатая девочка, с любопытством заглядывает мне в глаза. Чтобы снять неловкость от взаимного разглядывания, я принялась катать шар. Снег хорошо лепится. Мы быстро сделали бабу. Нина принесла из дому морковку. Я отыскала в снегу кусочки шлака для глаз, а Зоя притащила ведро без дна. Получилось здорово! Но делать бабу из трех шаров – забава дошколят. Даже не заметила, как мои руки вылепили животное. Спина, хвост. Ушки, лапки. Увидела на проезжей дороге золу и сделала на спине и хвосте серые полосы, припудрила голову. Это будет мой Кыс. В носу защекотало. «Гляди, настоящая кошка», – обрадовалась Нина. Ее круглые зеленые глаза выражали восторг. Я заметила, что дети говорили по-русски, но иначе ставили в словах ударения, поэтому речь звучала не совсем привычно, и мне приходилось думать, чтобы понять их.
Бабушка позвала домой, и я попрощалась с моими новыми друзьями.
После обеда Зоя пригласила меня покататься на ледяной Веселкиной горе.
– Возьми Колю с собой, – попросила она.
– Сама зови, – возразила я.
– Не могу. Он мой жених. Я же люблю его, – простодушно ответила Зоя.
Пришлось просить разрешения у бабушка за двоих. Коле из города привезли настоящие алюминиевые санки. Он сел на сиденье из разноцветных деревянных планок, и я покатила его по дороге. Здесь, оказывается, грузовые машины ездят «раз в месяц по заказу», поэтому даже совсем маленькие дети ходят по улице без взрослых.
Снег не переставал. Небо немного посветлело, но лучи солнца как улыбки больного – редки, слабы и грустны.
Найти Веселкину горку не трудно. Шум оттуда разносится по всей улице. Десятка два детей от двух лет и старше рассыпались по горе, визжат и кричат от восторга. При нашем появлении они притихли. Я приняла это на свой счет, замкнулась и отошла подальше. Но детям, оказывается, не нравились наши санки. Когда образовывалась куча мала, они боялись напороться на острые концы полозьев. Я поняла это когда умудрилась, налетев на санки, проткнуть себе ногу. Рана образовалась глубокая, но сгоряча я боли не почувствовала, только бурое пятно на шароварах заметила. Сразу перебралась на соседнюю, снежную горку. Позже слезы брызнули из глаз, но я постаралась скрыть их.
Ребята по очереди просят покататься на городских санках, потому что они легкие и летят дальше других. Только мне скучно уединенное катание. То ли дело в буйной бодрой толпе детей! Для веселой компании лучше Зоиных санок не найти! На них помещается сразу по пять-шесть человек. Они из кованого железного прута. Для безопасности полозья сзади загнуты красивой спиралью внутрь. Доски на санках толстые, надежные. На горку их тащат втроем. Очень уж они тяжелые. Я тоже впряглась. Вдруг гляжу: прямехонько на меня несутся Валины санки. Выдергиваюсь из «упряжки» и отскакиваю.
Слышу: кто-то рядом орет благим матом, со страху сам себя не помня. Я с размаху прыгаю в сторону. Ноги путаются. Поскальзываюсь, спотыкаюсь и веретеном качусь подальше от опасного места. В какой-то момент представила, как санки накрывают мальчика. Я уже готова поклясться своей головой, что это было на самом деле! Испугалась, сердце затрепетало как осенний лист. С усилием перевела дух, даже не сразу выдохнула.
А через минуту все хохотали надо мной. Смеялся и мокрый как мышь мальчишка, которому не удалось избежать столкновения с тяжело нагруженным «транспортом». Он отыскал в снегу шапку, пригладил слипшиеся в сосульки вихрастые волосы. Лицо его горело малиновым румянцем, глаза гордо сияли. «Не промазал! Подбил вражеский танк! Чуть богу душу не отдал», – кричал он, захлебываясь восторгом.
Я тоже ввязываюсь в игру, карабкаюсь на гору, пытаюсь атаковать «вражеский десант», помогаю втаскивать санки наверх, не забывая вознаграждать себя за старание веселой кутерьмой спуска. А рядом, на ограде палисадника, ощетинившейся изломанным штакетником, спокойно прихорашивались вороны и сердито чирикали истерзанные дракой за пропитание шумливые воробьи.
Стемнело. Мороз крепчал. Высокие звезды дрожали, будто от холода. Усталые, замерзшие, но довольные мы возвратились домой. Славно провели время! Сбросили одежду у порога, схватили по куску хлеба и залезли на печку. В жизни такого вкусного хлеба не ела! Уснула мгновенно. Я не видела, как бабушка развешивала обледенелые шаровары с начесом, пальтишки, рукавицы, как внимательно заглядывала в наши разгоряченные лица и прислушивалась к дыханию.
ПРИВЫКАЮ
Витек! Своих новых родителей я почти не вижу. Встаю утром в десять утра, так как бабушка считает, что я должна отоспаться. Отец, как я поняла, против поблажек, но, когда родители на работе, в доме командует бабушка. Она не кричит, а спокойно подходит и негромко говорит: «Я буду мыть посуду, а ты вытирай вот этим полотенцем», или: «Помой листочки у цветов. Им дышать легче будет». И я все выполняю. В голову не приходит ее ослушаться. В общем, с бабушкой Аней отношения сложились быстро и естественно. Меня это радует еще и потому, что я никак не могу назвать своих новых родителей «папа» и «мама». Василий Тимофеевич, лысый плотный мужчина, никогда не смотрит в глаза. Его взгляд проходит через меня, будто я стеклянная. Он совсем не похож на придуманного и выстраданного мною отца. И мать тоже. Клара Ильинична – очень строгая молодая женщина, энергичная и шумная, отчего мне кажется, что она выше отца ростом. Хотя на самом деле это не так. Я ее просто боюсь. А бабушка она и есть бабушка, хоть родная, хоть чужая. Тут все просто. Жаль только, что я мучаю ее по ночам. Родители спят в зале, а мы втроем – на кухне, на железной односпальной кровати. Я у стенки, на приставной скамейке, а Коля с другой стороны – на табуретках. Сначала меня с краю поместили, но я каждую ночь сваливалась на пол и продолжала спать, несмотря на холод. Утром бабушка перетаскивала меня на кровать. Сплю я беспокойно, кричу во сне, просыпаюсь головой в другую сторону или поперек кровати. Беспрерывно дерусь с неведомым врагом, а удары достаются бабушке. Она понимает, что я не контролирую себя ночью, и не обижается, а только вздыхает:
– Что тебе снится? Всю спину кулаками измолотила.
– Стелите мне на полу, – прошу я.
– Нельзя, еще застудишься. Потерплю до лета.
С вечера в хате очень жарко и душно, а ночью холодно. Одну фуфайку я надеваю как пальто, а в рукава другой засовываю ноги и так сплю. Днем веду себя очень тихо, хотя раньше была шустрая. Видно, вся моя энергия ночью изливается. А вчера отец уехал в командировку по школам района, и мать положила меня спать с собой. Я «воевала» всю ночь, а наутро она сердито выговаривала мне, будто я нарочно ее била. Дикость какая-то! Бабушка, без образования, а больше понимает.
Витек! Как всегда обращаюсь к тебе со своими бедами. Только ты понимаешь меня.
В ШКОЛЕ
Завтра в школу. Я полна невнятными волнениями, ожиданиями, робостью. Как встретят? Мать заметила мое волнение и успокоила: «У тебя будет хорошая учительница». Что значит хорошая? Умная? Строгая? Добрая? Проверила содержимое портфеля: новые тетради, чернильница в черном сатиновом мешочке с синим шнурком, ручка, карандаш, запасные перья, перочистка. Все на месте. Не обращаясь ни к кому, спрашиваю: «Можно взять в школу угощение детям?» Мать срезала с елки конфеты и пряники и положила рядом с портфелем. Я благодарно улыбнулась глазами.
Утром отец привел меня в школу, в которой сам работал директором. В комнате, слабо освещенной керосиновой лампой, за черными партами уже сидели дети. От волнения растерялась. Учительница взяла меня за руку, посадила за четвертую парту и начала урок.
На перемене я достала из портфеля длинные, как карандаши, разноцветные конфеты, завернутые в прозрачную бумагу и пряники, по форме напоминавшие животных. Дети с любопытством смотрели, что я буду делать дальше. А я не знала, как разделить их. Развернула конфету и откусила. Одна девочка не выдержала и удивленно спросила:
– Это едят?
Я молча протянула ей целую конфету. Дети оживились. «Поделите, чтобы всем хватило», – попросила я и отдала все угощение самым смелым. А одна девочка спросила:
– Где ты взяла такие конфеты? Дома есть еще?
– Из города привезли. Последние конфеты с елки сняли, – ответила я вежливо и с сожалением.
На следующей перемене я вышла из класса. Когда прозвенел звонок, дети будто растаяли, и я осталась одна перед одинаковыми, коричневыми дверями. Открываю одну. Перед глазами замелькали красные галстуки. Приоткрыла следующую дверь, глянула на четвертую парту. Пусто. Молча села на место и подумала: «Надо все запоминать, а то за дурочку примут».
На следующей перемене мальчишки в красных галстуках забежали в класс со словами:
– Где девчонка, которая классы перепутала?
Но мои одноклассники дружно прогнали их в коридор с возгласами: «Не трогайте нашу новенькую»!
После уроков девочки предложили мне пойти домой с ними. Я неуверенно согласилась. Не отказывать же новым друзьям в первый день знакомства? Подружки, весело болтая, вели меня через огороды, сады и калитки. Наконец, они вышли на свою улицу и, попрощавшись со мной, разошлись по домам. Я огляделась. Снежная поземка перебегает незнакомую улицу. Вдали белое марево скрывает группу одноэтажных школьных зданий. Только ярко-коричневая железная крыша нашего корпуса была мне ориентиром. «Самое разумное – вернуться назад к школе, а уж оттуда наш дом виден как на ладони», – рассудила я, досадуя на себя и девчонок, которым видно и в голову не пришло, что я могу заблудиться. Дома мать спросила:
– Что так поздно?
– С девочками погуляла, – немножко соврала я.
Не рассказывать же ей о своей маленькой неудаче? Главное, что сама добралась.
ЧИСТОМАРАНИЕ
За полгода обучения в городской школе я, честно говоря, не очень-то продвинулась в знаниях. Писала кое-как, чтением не занималась. Охоту учиться Наталья Григорьевна отбила мне быстро. А здесь по устным предметам я получаю пятерки и только урок чистописания для меня хуже смерти. Мать, проверяя тетради, ужасалась моей неаккуратности. Как-то она не выдержала и раскричалась. Я не знала, что сказать в свое оправдание, и решила использовать спасительную фразу мамы Оли: «Меня учительница, наверное, невзлюбила». Что тут началось! Мать возмутилась: «Я сама учительница. Причем здесь любовь? Отметки ставят за работу!» Долго кричала. Рвала и метала. Я поняла, что глупость «проходит» только с глупыми людьми, и от стыда не знала, куда глаза девать.
После этого случая мать взялась за меня всерьез. Она заставляла переписывать упражнения, за которые я получала двойки и тройки до тех пор, пока не добивалась выполнения задания без помарок. Я глотала слезы, рука уставала, пальцы не слушались. Буквы то набегали друг на друга, то падали на предыдущие, а то и вовсе вкривь и вкось ложились мимо линеек. Из-за слез в глазах расплывались строчки, подвергаясь разнообразным замысловатым оптическим искажениям. А я все писала и писала противные закорючки. Если качество работы не устраивало, мать вырывала из тетради этот лист, и я снова садилась за стол. Меня спасало время. Девять часов – отбой и неимоверное облегчение. Коля молча смотрел на мои мучения. Ему проще. Он спокойный. А я шило. Мне просидеть один час, не ерзая – великий труд.
Бесконечное переписывание изводило меня. Я со страхом садилась за уроки. Уже с первых строчек все плыло перед глазами, и я понимала, что без помарок все равно не сделаю упражнение. А если и получится, то обязательно в конце поставлю кляксу, и тогда опять придется подчиняться требованию матери начинать все заново. Особенно трудно было выполнять уроки, когда мать сидела рядом и критиковала: «Какая каллиграфия! Непредсказуемые иероглифы!.. Новый вид вавилонской клинописи!.. Арабская вязь!» И прочее.
Чистописание превратилось для меня в каторгу. Оно отравляло жизнь. Мир для меня совсем потух. Я не видела вокруг ничего хорошего. К тому же мать, когда проверяла мои тетради, так кричала, что я сжималась в комок и плохо соображала. Руки дрожали, в глазах мутилось. Я по нескольку раз читала одно и то же слово, попадала взглядом на другие строчки, даже писала слова из других упражнений. Получалась ерунда. Я чувствовала себя глупой, противной самой себе и не видела выхода. Хоть в колодец прыгай. Недели тянулись мучительно долго. И как всегда неизбежно, неотвратимо приходили новые понедельники с новыми мучениями. Ушел беспросветный январь. Уже март воюет с февралем. Я с тоской глядела на яркое солнце. Не рада весне.
Как-то мать пришла из школы в плохом настроении. А у меня опять тройка за дерганные дрожащие буквы. Она расшвыряла мои книги, скомкала и разорвала тетрадь в клочья и коротко сказала: «Переписывай все». Я собрала обрывки, посчитала. Шесть листов. Для второклашки и лист написать трудно. Задумалась: «Ладно, сделаю, чего бы мне это ни стоило! Но если опять порвете тетрадь, никогда больше не стану переписывать. Хоть убейте». Пишу. Время ужинать. Не пошла. Пора спать. Я пишу. Закончила к двенадцати ночи. Собрала портфель. Пальцы еле шевелятся. Спина болит. Голова не поворачивается, будто шея плохо смазана. Потушила керосиновую лампу и легла спать.
После этого случая мать опять хотела «уничтожить результат моего тяжкого труда». Я тихо, но жестко сказала: «Не рвите. Перепишу только последнюю страницу, где тройка». Мать поняла, что я поступлю по-своему, и больше не рвала тетрадей. Теперь я сама переписывала троечные работы. Ирина Федоровна одобрила мою самостоятельность. Когда страх многократного переписывания перестал давить на меня, я стала спокойней, дела с чистописанием пошли лучше.
Дома я писала медленно и старательно, за что получала пятерки. А в школе надо было успевать за диктовкой и красиво писать не получалось, хотя я очень старалась. Один раз Ирина Федоровна, раздавая тетради, негромко, но при всех «проехалась» в мой адрес: «Дома из-под палки можешь хорошо писать. И в классе тебе жандарм нужен?» После такой характеристики у меня опять пропало желание учиться писать красиво. Я перестала дома стараться выводить буквы. Пусть не думает, что я из-под палки работаю! Теперь трудно было отличить, где классные, а где домашние упражнения. Как-то мать опять раскричалась из-за почерка, свернула мокрое полотенце жгутом и замахнулась на меня. Я вспомнила Валентину Серафимовну и вновь превратилась в зверька. Мать посмотрела на меня растерянно, неуверенно покрутила в руках полотенце и ушла на кухню. «Не хватало, чтобы здесь как в детдоме было. Начнет с полотенца, а чем закончит?» – оправдывала я свой полный ненависти взгляд.
Вскоре Ирина Федоровна предложила всему классу постараться писать в новых тетрадях так, чтобы их взяли на школьную выставку. А сама при этом посмотрела в мою сторону. Я поняла, что меня это касается в большей степени, чем других. Загрустила, конечно, но решила попробовать. В первой половине тетради получала одни пятерки. Во второй стали появляться четверки, а на последней странице красовались тройка и двойка. Учительница вырвала последний лист и все-таки отнесла мою тетрадь на выставку. Она понимала, чего это мне стоило.
Прихожу в актовый зал, а на стенде рядом с моей стоит аккуратная тетрадь одноклассницы Маши. Решение задач для нее – хуже ребуса. Она даже сказки рассказывать не умеет. У нее только чистенько переписывать из книжки получается. «Нечестно! Писать красиво и чисто – не главное. На выставке должны быть тетради учеников, которые по всем предметам хорошо учатся. Хотя бы Димы. Что же получается? Умный с плохим почерком никогда не попадет на нее?» – возмутилась я. Но потом сообразила: «Учительница хотела порадовать старательную Машу».
«И все же тетрадь Димы я поставила бы рядом с моей, – упрямо думала я. – Ведь он отнюдь не менее достоин, так часто говорит сама Ирина Федоровна».
Иду домой и размышляю: «Довольна ли я тем, что моя тетрадь на выставке? Совсем чуть-чуть. Когда что-то очень хорошее долго ждешь, то устаешь надеяться и, получив желаемое, по-настоящему счастливой себя уже не чувствуешь. Победа, достигнутая через мучения, радости не приносит, потому что складывается с болью, и еще неизвестно, чего оказывается больше. У меня сегодня преобладает грусть. Я не люблю писать красиво, потому что не испытываю при этом удовольствия. «Надо – вот и стараюсь».
ОБЯЗАННОСТИ
Обязанностей по дому у меня много. Пока на кухне бабушке помогу, и в хате приберу, уже вечер. И тут начинается самая противная работа – топить плиту гречневой лузгой. Открываю чугунную дверцу, осторожно выбираю золу в ведро и вставляю железную заслонку с круглыми отверстиями и широким желобом наверху. Поджигаю бумагу и высыпаю совок лузги. Она ярко вспыхнет, помигает красными глазками, и опять темно. Снова сыплю. Пытаюсь читать, но и двух строчек не успеваю прочесть между порциями лузги. А лампу на кухне родители не зажигают. Керосин экономят.
От скуки засовываю соломинки в дырочки заслонки. Из них вытекают струйки дыма. Я играю с ними: то глотаю, то раздуваю. Бабушка догадывается, откуда в хате дым и запрещает безобразничать. И вроде бы время занято, а все равно скучно. Мешок огромный, нескончаемый. Вечер длинный. Когда моя очередь топить плиту, Коля все равно приходит побаловаться. Мы затеваем возню, и я на время забываю о своей обязанности. Но темнота зимнего вечера напоминает, и мы торопимся возродить огонь, чтобы не влетело от родителей. Ерундовая работа, а весь вечер как Ванька-встанька крутишься. Зато можно мечтать, вспоминать и сколько угодно думать.
«Витек! Чувствую я себя в этой семье странно. Меня ничто не волнует, не радует, не восхищает. Думается с тягостной навязчивостью. Я какая-то заторможенная. Все выполняю, как в полусне. Часто плачу в одиночку, полностью успокоиться не удается. Четко ощущаю только страх. Все остальное – как в тумане, будто не со мной происходит, а с кем-то далеким, незнакомым. На жизнь гляжу сквозь ржавый засов хаты. Иногда приказы матери осознаю не сразу. А поняв, бегу сломя голову выполнять их, даже когда она не кричит. Часто вспоминаю папу Яшу и тихонько шмыгаю носом, чтобы никто не услышал… А еще представляю, будто сижу рядом с тобой на нашей тройной березе…»
Вновь забываю засыпать лузгу, а очнувшись, торопливо разгребаю палкой горячий пепел и раздуваю пламя.
«Иногда по вечерам к нам заходят незнакомые мне люди и что-то долго обсуждают в зале. Сегодня приехала родня из деревни Обуховки. Вошли заиндевелые, обсыпанные снегом, а когда сняли одеяла и шали, я разглядела среди них девочку. Cлышу: «Нина застудила уши, плохо слышит, но все равно хочет закончить семилетку. Помоги, Василий. Жить пристроим у троюродной сестры». Бабушка поит гостей чаем и укладывает спать в зале на полу.
Ветер выводит в трубе заунывную песню. Снег беспокойно и просительно скребется в темное стекло. Родители, прикрыв лампу абажуром из газеты, пишут планы уроков, а мы с братом тихонько шепчемся».
ПОЙМАЛИ НА ЧЕСТНОСТИ
Сегодня плиту топит Коля, а меня послали в магазин за сахаром. По дороге встретила тетю Маню, уборщицу из нашей школы. Женщина размахивала руками и сердито ругала продавщицу Зину грубыми словами за то, что она обвешивает и без очереди отпускает товар своим знакомым. Потом тетя Маня отправилась дальше, а я вошла в магазин.
– О чем с тобой разговаривала Маня? – спросила меня с притворно-ласковой улыбкой тетя Зина.
Я молчу.
– Как она меня называла? – настаивала продавщица. – Стервой?
Я оробела. Стою и размышляю: «Скажу, значит, плохо уборщице сделаю. А умалчивать – это почти то же самое, что врать. Но ведь не я же говорила плохие слова? Передавать чужие слова, значит сплетничать. Не впутывайте меня, сами разбирайтесь в своих отношениях!» – молча сержусь я на тетю Зину.
– Отвечай! Ты должна быть честной девочкой, – слышу я строгий голос.
«Должна быть честной…» – стучит в моей голове, и я растерянно бормочу: «Да». Злая ухмылка кривит губы продавщицы. «Ну, погоди!» – говорит ее лицо. Оглядываюсь на стоящих рядом женщин. Они опустили головы вниз. И только две с довольной усмешкой переглянулись друг с другом и с тетей Зиной. Поняла, что ошиблась. Как гадко и неловко! С трудом дождалась своей очереди и умчалась подальше от того места, где меня выставили глупой.
Что же я такая неуверенная? Размазня какая-то! Раньше я бы все выложила этой противной тетке! А теперь не решаюсь слова сказать в свою защиту. Боюсь, что мать отругает? Не имею права грубить, обязана вести себя как подобает, потому что мои родители – учителя?
ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР
Пришла из школы, поела и села выполнять уроки. Устала писать. Подошла к окну. Передо мной безмолвная, неподвижная картина. Серое небо. Белая земля. Медленно машет крыльями одинокая птица. У меня странное ощущение: будто по нарисованному пейзажу перемещается живая птица. Я в серой комнате. Вокруг меня серая жизнь.
Подошла к комоду. На нем две белые с нежным розовым узором вазы для цветов, игрушка – заводной мотоциклист, салфетка, вышитая гладью и фотографии, прислоненные к стене. На этой мать и отец. Он – в военной форме. Она – в темном платье. На обороте написано: «Тысяча девятьсот сорок шестой год, первое сентября. Свадьба». На другой фотографии – дедушка-военврач. Он тоже в кителе с погонами. А на этой – молоденький, симпатичный солдат – брат матери Анатолий. Над комодом висят два больших рисованных портрета отца и матери. Он еще не лысый. А она – такая же, как сейчас. Ее взгляд направлен прямо на меня, его – ускользает. Как в жизни. Легла на диван. Наверное, заснула.
Проснулась потому, что заскрипела калитка. В комнате темно и тихо. Мать пришла. Слышу, как чиркнула спичкой на кухне. Лампу зажгла. Входит в зал. Я вскакиваю с дивана и неподвижно стою в ожидании приказаний. Мать ставит лампу на стол, подходит к комоду и смотрит на меня. Я сжимаюсь под ее взглядом. Свет керосиновой лампы выхватывает из темноты склоненный силуэт матери. Он кажется мне нереальным, нечетким из-за колебаний маленького язычка пламени низко опущенного нитяного фитиля. Мать берет с комода фотографию дяди Анатолия и тихо говорит:

– Это твой папа.
Слова гулким эхом отражаются в моей голове. С трудом, очень медленно выплывает мысль: «Она моя тетя». И вдруг смысл ее слов доходит до сознания. Я вздрагиваю и замираю от неожиданного и такого долгожданного известия. Мне становится удивительно хорошо и радостно, будто вокруг образовалось теплое сияние. Почему-то приподнимаюсь на цыпочки, вытягиваю шею и с надеждой шепчу:
– Где он?
– Погиб.
– А мама? – со страхом произношу я.
– Карточка не сохранилась, – эхом отдается у меня в голове, где-то в области макушки.
Трепетный ореол меркнет. Я боюсь задавать вопросы. Где она? Какая? Представление о маме у меня туманное. Она как бледно-голубая тень: неясная, таинственная – и так же быстро расплывается и исчезает с первыми лучами – попытками узнать о ней подробнее. Она была. Теперь ее нет. И нет даже фотокарточки. Она остается для меня призрачной, бестелесной.
Сколько себя помню, я никогда не ждала ее. Может, давным-давно запретила себе думать о ней? И вот сегодня впервые это тайное желание вырвалось из меня неожиданно, безотчетно, в едином выдохе: «А мама?» В нем высказалось все: и затаенная боль, и бесконечная надежда услышать хорошее… «Ее нет. Фото, наверное, из-за войны, потерялось», – плывут безразличные безликие мысли. Я опять тупо гляжу в пол, и молчу. Мать уходит на кухню.
Смотрю на фотографию. Папа. Очень приятный и очень молодой. Совсем как мой друг Аркаша из городского детдома. И, хотя в руках у него автомат, и две медали украшают гимнастерку, я не чувствую в нем отца. У него такие же, как у меня пухлые губы. Мы очень похожи. Но мне кажется, что он мой старший брат.
Сиянье радости окончательно улетучилось. Я так и не поняла, поверила ли словам матери или нет? Но какая-то успокоенность появилась. Будто все стало на свои места, потому что совпало с моим давним желанием: «Был. Погиб. Не бросил. Его нет и никогда больше не будет. Ее тоже».